Поэтика художественно-индивидуальных систем в литературном процессе первой половины XIX века: Пушкин, Лермонтов, Гоголь
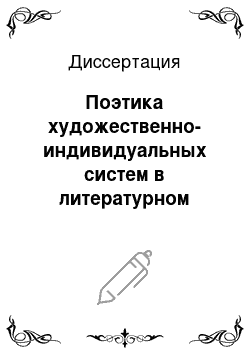
С этой точки зрения мы считаем наиболее аргументированными подходы, выработанные исторической поэтикой, совершившей в последние годы серьезный скачок в своем развитии. Именно эта область литературоведческой науки обладает бесспорным потенциалом методологической объективности. Историческая поэтика опирается на законы эволюции словесного творчества, объясняя культурно-историческую обусловленность… Читать ещё >
Поэтика художественно-индивидуальных систем в литературном процессе первой половины XIX века: Пушкин, Лермонтов, Гоголь (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
Не менее значителен и лирический сюжет повествования, введение авторского голоса в разных вариантах воплощения: в стиле маскарадного бурлеска, в стиле объективно фиксированного звучания, в стиле сопереживания, в стиле откровенно серьезном и глубоко трагическом. Общая линия этого сюжетного голоса аналогична эпической. Сначала откровенно лирический вариант высказывания, переживание, оправданное всем последующим ходом повествования: «Я очень люблю скромную жизнь.» («Старосветские помещики»). Затем в «Тарасе Бульбе» и «Вне» — внутренне диалогизироваипое «чужое» слово, а йотом в «Повести о ссоре.» — слово-перевертыш, слово в маске и без маски («Славная бекеша.», «Прекрасный человек.» — и вдруг «Скучно на этом свете.»). Развитие этой линии авторского голоса содержательно идет от выражения любви к выражению трагедии, «ужаса». Помня логику той задачи, которую Гоголь ставил перед собой как перед писателем — «заглянуть в собственную душу» и заставить людей «испугаться» своей «ничтожности», чтобы повернуть на путь возрождения, — можно понять, что в циклическом единстве «Миргорода» «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Ннкифоровичем» заключает цикл совсем не случайно.
Поэтика гоголевских повестей, уже самых ранних, строится на создании «знаковых», символических эстетических систем, развернутых в художественные модели мироздания и содержащих внутри себя множество единиц (образов, сюжетов, хронотопических проекций, композиционных схем), содержательно преломляющих глобальные закономерности общих моделей.
Это знаковые образы города и мира, где город равен миру (Г=М) и город противопоставлен миру (Г<=>М), где хронотоп дороги-пути символизирует либо движение вглубь человеческой души, либо центробежное направление от души. И тогда понятие «мира» (света) приобретает многозначный смысл. «Мир» — мироздание, загадочная тайна, пространство без границ, вечность. «Мир» — бытие в философском смысле, с постоянно подразумеваемым вопросом о смысле бытия, с поисками его идеального содержания. «Мир» -любовь и единение. Однако перечисленные знаковые понятия «мира» по закону гоголевского перевертыша приобретают искаженные, карикатурные формы в той жизни, в которой не обретаются пи глубинные вечные тайны, ни идеальный смысл, ни любовь. В поэтике Гоголя образ антимира, и соответственно, антигероя и антисюжета приобретает определяющую структурообразующую функцию. В результате создается уникальная художественная система, которая обладает свойством саморазвития, заданного, однако, авторским видением. Так, в «Старосветских помещиках» сюжет строится как явно «аптплюбовпый», когда привычка, заменяющая любовь, поэтизируется и возвышается в доме-городе-мире (в «любовных» сюжетах герои молодые, в повести Гоголя -старые- страсти «любовных сюжетов» заменены бытовой привязанностью- развязка сюжетного действия противоположна развязкам «любовных» романов). В «Повести о ссоре.» дорожное движение (сюжет романа-путешествия) означает бессмысленное перемещение бездушных людей через миргородскую лужу в поветовый суд, создавая вариант сюжета -аитипутешествпя.
Позлее Гоголь создает аналогичные антипутешествия в «Ревизоре», «Игроках», «Мертвых душах». Естественно, что все эти антисюжеты построены по логике действий антигероев, их участников.
5) КАРНАВАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСIBEIII10Й ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ГОГОЛЯ (ПОВЕСТИ)
Все последующее гоголевское творчество заостряет п совершенствует приемы создания эстетических моделей антимира. Писатель обращает внимание не просто, как он сам объяснял, па «пошлость пошлого человека», но па «пошлость всего вместе», па ту «призрачную действительность», которая в сознании реальных гоголевских прототипов заменила «истинную» (т.е. духовную) действительность. В более поздних повестях, как п в «Миргороде», активно и даже агрессивно самоутверждается эта «миражная», «кажущаяся» действительность, мир призраков, но уже пе из потусторонней сферы (как в «Вечерах.»), а призраков-уродов реальных, телесных, живущих вопреки норме, вопреки идеалу, вопреки здравому смыслу, вопреки духовной истине. В этом мире призраков есть своя любовь («Старосветские помещики»), есть своя гордость («Повесть о ссоре.», «Нос»), свое прозрение в безумии («Записки сумасшедшего»), происходят свои трагедии («Шинель», «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего»), есть свои внутренние законы, являющиеся, по существу, антизакоиамн (нос, унижающий своего хозяина, потому что он, нос, — статский советник). Этот гоголевский антимир проявляет свою аномальную сущность так же выразительно, как в народном средневековом карнавале, осмеивающем и изгоняющем с помощью смеха нечистую силу. (Бахтин М. М. Рабле и Гоголь. — С. — 537). Естественная реакция смеха в повестях, а затем и в драматургии, и в «Мертвых душах» создает особенную жанровую смеховую структуру, не только, и пе единственно сатирическую. Произведения Гоголя по жанру, естественно, синтетичны.
М. Бахтин, проанализировавший раблезианское смеховое начало в творчестве Гоголя, почувствовал, что гоголевский смех, при его кардинальном родстве с народной смеховой культурой («Можно сказать, что внутренняя природа влекла его смеяться, «как боги»), все же обладает и другой природой.
Гоголь, как видит Бахтин, «считал необходимым оправдывать свой смех ограниченной человеческой моралью времени» (С. 532). В сущности, здесь речь идет о проявлении личностно-авторского творческого начала, необходимо и объективно существующего в литературе в отличие от фольклора. Для Гоголя «ограниченная человеческая мораль времени» проступала в отношении ко всей той социальной «типе мелочей», которая обездушивала мир людей. И совершенно очевидно, что общая авторская концепция существенно координирует эстетическую структуру гоголевских произведений. Никуда не уйти от содержания авторской художественной индивидуальности, которая субъективно ориентирована па религиозные догматы и па идею возрождения человека.
Эту индивидуальную отмеченность карнавальной архетипической поэтики подчеркивает Е. М. Мелетинский, объединяясь с точкой зрения 10. В. Маппа: «Манн справедливо ограничивает поле „карпавальпостн“ у Гоголя, указывая па противоречащие сплошной карнавализации такие диссонирующие черты, как мотивы автоматизма и омертвения, вторгающиеся в атмосферу всеобщего веселья, обжорства, коллективной слитности людей в празднике и танце, как неожиданное проявление отъедипенностп индивида, как квазпкарнавалыюсть злых ирреальных сил, как необратимость и неодолимость смерти» (Мелетипскнй Е. М. Трансформации архетипов. — С. 153).
Карнавальная сценичность нужна Гоголю, чтобы создать усложненный, с одной стороны, мистифицированный, а с другой стороны, мистический сюжет. Мистификация кроется там, где за ложной значительностью скрывается комическая, либо далее агрессивная пошлость (повесть об Иванах, «Нос», сюжет Пнрогова в «Невском проспекте», сюжет превращения Чарткова в «успешного», знаменитого художника в «Портрете», сюжетная ситуация «значительного лица» в «Шинели», равно как в «Записках сумасшедшего» -ситуация директора департамента, там же — переписка собачек).
Гоголевский стиль называют гротескным, гиперболичным, фантастическим. Советское литературоведение видит в этом сатирическую направленность творчества писателя, разоблачавшего порочные стороны русской действительности (работы С. Машииского, Д. Николаева, Н. Степанова п др.). «Фантастика эта. определена ирреальностью, антпчеловечностыо социальной действительности» (Горячкина М. С. — С. 93). Наука другого методологического направления, подчеркивая гиперболичность, невероятность гоголевских образов, противопоставляет свои оценки специфики художественного мира писателя стремлению утвердить его как реалистический, отвергает сам принцип социальной или исторической мотивированности в художественной концепции Гоголя. «Стилистика Гоголя, — утверждает, например, Д. И. Чижевский, —. преследует задачу. изобрази ть невероятное и неправдоподобное.. Излюбленный прием Гоголя — гипербола» (Чижевский Д. И. — С. 214). Чижевский замечает, что гиперболический стиль Гоголя «исчезает в русском реализме» (С. 225). С этим трудно безоговорочно согласиться, если вспомнить Салтыкова-Щедрина и М. Булгакова. Но мысль об индивидуальной неповторимости художественного мышления Гоголя нельзя пе принять. «Этот мир немотивированных невероятий, чудищ и уродов напоминает „Капризы“ Гойи пли гротескные фигуры в рассказах Эдгара Ho „King Pest“. Но кто же будет считать Гойю или Эдгара По „реалистом“?» (С. 228).
И хоть никто пе считает Гоголя «провозвестником социалистического реализма», как думает Чижевский (С. 229), все же нельзя не отметить, что природа отношений гоголевского слова к действительности, способ художественного моделирования подчиняются глубинной внутренней логике объективного мира, несмотря иа гиперболическую авторскую заостренность в восприятии этого мира. А в этом мы видим признак реализма (если, конечно, пе приравнивать его к натурализму и примитивной детерминированности). Сошлемся в данном случае па мнение Е. М. Мелетпнского, который тоже отмечал у Гоголя «движение в сторону своеобразного реализма (который у пас часто понимается несколько упрощенно)» (Мелетинскин Е. М. -Трансформации архетипов. — С. 162). По сейчас мы делаем акцепт пе па этой теоретической проблеме, а на внутрисистемном движении гоголевского сюжета, обращая внимание на его вариант, который носит признаки миспшфицировапности. Тот же Чижевский считает Гоголя «мастером мистификации и «скрытой жизни» (Чижевский Д. И. — С. 228). Дело в том, что именно гротескность, гиперболичность и невероятность происходящего с точки зрения внешней правдоподобности приобретают у Гоголя черты масочного действа, прикрывающего отсутствие именно того, на что претендует масочный мир. А само отсутствие есть явление реального мира, в котором претензия заменяет сущность. И это весьма успешный прием, нацеленный па выявление пошлости или «страхов и ужасов» российской жизни. Когда бурая свинья уносит жалобу из поветового суда, — нельзя же это понимать буквально! Лучше вспомнить приемы басенного жанра или архетипы смеховой культуры, которые оказываются востребованными писательской фантазией в нужный момент, когда геройпые поступки, выстраивающиеся по внутренним сцеплениям в зависимости от их психологической, социальной и нравственной правдивости-сущности, становятся абсурдными. Гоголевская мистификация -подмена особого рода, не вводящая в заблуждение целенаправленно, а возникающая естественно там, где надо заполнить реальную пустоту. Недаром «значительное лицо» в «Шинели», живущее именно по принципам мистификации-притворства (изображает то грозного начальника, то справедливого законника), репетирует перед зеркалом пе театральный спектакль, а собственную жизнь.
Мистическое же начало связывается у писателя с постоянно и везде развивающимся мотивом души, ее загадочной сущностью, ее кардинальным жизнеполагающим значением. Но душа не видна сразу, пе обнаруживает себя открыто. И лишь намек па ее отсутствие пли присутствие, па истинность или ложность ее проявлений приоткрывает либо мистически высокое, либо мистически страшное бытие. Заметим, что говоря о «мистическом» сюжете Гоголя, мы имеем в виду качество эстетической модели мира, т. е. ту сущность, которая создает систему поэтики, выстраивающуюся в художественную систему в целом. Понимая при этом, что существует и проблема религиозного мистицизма, имеющего свою очень серьезную основу и историю в жизни Гоголя (см. об этом: Вайскопф М. Птица тройка.).
Пример эстетического сочетания мистического сюжета с сюжетом мистификации обнаруживается, например, в повести «Портрет». Продажа души (портрета Психеи) изменила всю жизнь Чарткова, поддавшегося денежному соблазну, стала началом хождения по мукам для героя, увела его из мира высоких переживаний в мир бездуховный и пошлый. Это — линия мистического сюжета. А на первый взгляд, это всего лишь вынужденный поступок измученного нуждой художника, продавшего написанную им картину по требованию настойчивой мамаши, пожелавшей увидеть в этой картние облик своей дочери. Эта сторона поступка героя — мистификация, порожденная ошибкой в выборе жизненных ценностей, мистификация объективная, никем не запланированная, пе имевшая заранее подготовленного сценария, но совершившаяся как подмена истинной значимости события и повлекшая за собой искажение всей человеческой судьбы. Эта мистификация имеет все черты правдивости, жизненности, логичной закономерности, — и тем она опаснее, потому что заставляет забыть о главном — о душе.
Мистика сюжета о душе — тайного, метатекетового сюжета -заключается в его первоначальной невидимости, а также в его всесильностп. Именно он вершит в повести Гоголя все — формирует жизненный путь героя, воздействует па изменение характера личности, влияет па эволюцию таланта, па содержательность искусства художника. Однако могучая сила этого истинного, пе мистифицированного сюжета выявляется только в самом конце повести, па рубеже жизни и смерти героя, на рубеже преходящестп и вечности искусства. Чартков, от природы честный и талантливый, потеряв свою Пспхею-душу, незаметно становится фигурой-маской петербургского карнавала обманов и обнаруживает свое превращение слишком поздно.
Карнавализованная гоголевская личность существует в двух вариантах. В одних случаях маска игры, притворства, театрализации, сохраняясь на протяжении повествовательного пространства, в один из моментов снимается, открывая серьезное положительное лицо. В других маска сама составляет сущность персонажа, потому что ничего другого у него нет, т. е. нет истинного лица. Добавим, что есть персонажи вовсе без масок. Однако чем дальше, тем меньше таких героев, как будто, внимательно вглядываясь в жизнь, Гоголь все меньше и меньше видит людей, а взамен выступают куклы, устанавливающие свой, абсурдный порядок в мире. Таким образом, карпавализация в художественной системе гоголевских повестей в одно и то же время является выражением художественной философии автора и сюжетообразующим фактором.
Еще в «Вечерах.», как установил В. Гиппиус, действуют масочные, маскарадные фигуры украинского кукольного театра — «смешной черт, злая баба, хвастливый поляк и храбрый запорожец, пройдоха-цыган, мужик-простак и дьяк с высокопарной речыо» (Гиппиус В. Гоголь. — С. 3). Среди этих фигур храбрый запорожец включается в спектакль, разыгрываемый обманщиками и врагами, чтобы их наказать. Кроме того, в мире народных представлений о жизни, об отношениях добра и зла главная сила, на которой держится все — это сила народного истинного духа, живущего искрение и честно н потому пе нуждающегося в маскараде. Это кузнец Вакула, Лсвко, Гаппа, это Катерина и пап Данила, это панночка пз «Майской ночи», это дед в повести «Заколдованное место», испробовавший па себе воздействие границы между мирами («чистым» и «нечистым») и др., иначе говоря, мир масок интегрирован в истинный, пе—масочный мир, и смысл их взаимодействия — в борьбе и победе. Дальше, в повестях «Миргорода», тоже еще сохраняется противовес «открытого», пе-масочного мира и мира «обманов», масок. «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», малое и большое — но истинное. «Вий» -нешуточное столкновение с мистикой обмана, являющегося в виде S притягательной красоты. Эта маска красоты, прячущая зло всей нечистой силы
— тоже истина большого масштаба, которую надо понимать, по не вступать с ней в контакт. «Повесть о ссоре.» — уже давлеющее бытие маскарада, притворяющегося жнзиыо.
Маскарадпость «Вия» продолжает традицию «Вечеров.», однако в художественной концепции «Миргорода» важно, что философу и богослову Хоме Бруту никто не верит и никто пе хочет помочь, как будто весь земной мир стал па сторону нечистой силы и притворяется в здешнем мире обыкновенными людьми: не только панночкой (на самом деле ведьма), но и сотником, сторожем, казаками, торговцами и т. д. Трагизм этой ситуации зеркально опрокидывается в следующую повесть цикла («О ссоре.»), где герои лишены пе только истинного человеческого, духовного содержания, по даже контактов и с нечистой силой, потому что они — полное ничто. Вот здесь наличествует только пустая маска, за которой не прячется и пе подразумевается никакой жизненный смысл. И это омертвение при жизни и есть глубина падения и мерзости, которой воистину надо бояться, пе в пример нечистой силе «Вия», очень, действительно, страшной, но тем не менее пе способной победить, если ее пе бояться.
При этом смеховое карнавальное начало явно покрывается трагическим
— гибелью и «скукой». Но здесь Гоголь сам уже начинает играть маской, то показывая свое истинное лицо глубоко гуманной личности (в «Старосветских помещиках»), то скрывая его, чтобы начать длительный театрализованный, комический диалог с читателем («О ссоре.»), то снова открывая, как будто н сам до этого момента пе знал, верно ли думал обо всем, и вот истина открылась
— и лицо приобрело то выражение, которое соответствует трагизму пустоты («О ссоре.»).
Однако гоголевская карнавализация более деликатна, более целенаправлеиа, более избирательна, чем раблезианство или картина исконного карнавала. В ней меньше открыто-материальной телесности, откровенной игры телом. Существует даже точка зрения, согласно которой у Гоголя наблюдается пе столько карнавализация, сколько эстетика барокко (См.: Турбин В. II. Пушкин. Гоголь. Лермонтов). В каждом новом произведении емеховое карнавальное начало приобретает собственное систематизирующее значение, создавая ' не только торжествующе—смеховую энергетику действий и описаний, но и общую эстетическую картину мира, воспринимаемую и понимаемую автором. Корректируя карнавальную природу своего смеха, автор включает его (т.е. смех) в глобальный конфликт добра и зла, по-разному развивающийся на протяжении всего его творчества.
Приемы кариавализации во внутреннем живом движении эстетической системы у Гоголя являются развитием двустороннего (мистического и мистифицированного) сюжета, скрепляя историко-поэтическую архаику с современной индивидуально-эстетической системой Гоголя. * *
Гораздо более сложен карнавал петербургского цикла, где коллективный масочный образ все больше дробится и дифференцируется. Он сохраняет неизменной динамику движения, энергию действия, устремленного в бесконечность, где происходит распад и затихание, где неизбежно снятие костюмов и масок и возвращение к сущности явлений. Неизменной в карнавальной структуре петербургских повестей является кульминация, заключающаяся либо в полной «вывериутости» действия («Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Нос»), либо в персонажной наполненности, массовости, уличности сцен, втяпутости в действие многих лиц («Портрет», «Коляска», «Шинель»), либо в абсолютном алогизме сюжетного развития («Шинель», «Записки сумасшедшего», «Нос»). Как видно из примеров, многие кульминационные ситуации синтетичны, многозначны. Наконец, неизменной в карнавальной эстетике петербургских повестей является использование освещения, оттенков света и теин, придающих смысл загадочности, иронического либо страшного обмана. Эта сторона особенно важна при создании главного образа повестей, образа, который становится и основным персонажем, одушевленным, хотя и пе духовным, — образа Петербурга.
Первая же повесть «Невский проспект» нацеливает на восприятие города как па некий живой организм, поначалу лишь притворяющийся неодушевленным местом обитания, но постепенно, как сказочное чудовище, сбрасывающий с себя благопристойную кожу, оболочку, чтобы вдохнуть в окружающий мир мистический гибельный воздух лжи. При дневном свете, особенно когда еще только начинается день, Невский проспект ясен и понятен. Это «улица-красавица», «всеобщая коммуникация Петербурга», через Невский проспект «лежит дорога» в департамент, в магазин, в церковь, Невский проспект «не составляет ни для кого цели, он служит только средством». Однако уже сейчас это «всемогущий Невский проспект», потому что он стягивает на себя всех людей самого разного происхождения, разных сословий и разных жизненных целей. Его тайная, мистическая сила пока пе проявляет себя, но возможность ее действий уже заложена.
Невский проспект пропускает через себя весь возможный потенциал маскарада, когда органичными для пего, едиными с пнм становятся сначала пе просто люди, а «нужный парод» (люди-функции): «сонный ганпмед. с метлой в руке», «русские мужики, спешащие па работу», «сонный чиновник» (заметим повтор эпитета «сонный» как свидетельства того, что все вокруг и настоящее, и в то же время пе совсем настоящее). Затем с фоном затаившегося и притягательного Невского проспекта сливается «выставка» символов обездушенного людского мира: бакенбарды, усы, шляпки, платья, талии, рукава, улыбки, щегольской сюртук, греческий прекрасный нос и т. д. -«лучшие произведения человека», метонимия истинных ценностей. Все это названо Гоголем «фантасмагорией», хотя истинная фантасмагория развивается позже, с исчезновением дневного света. «Искусственное освещение, отделяя город от природы, превращает его в особый самостоятельный космос, где явно отменяются естественные законы», — пишет В. Маркович (Маркович В. М. Петербургские повести. — С. 133). Весь последующий образ Петербурга складывается из знаковой системы нечистой силы: переходное время — сумерки, зажигающийся искусственный свет фонарей, рождающий причудливую игру света и тени. «.Настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет». И тогда Невский проспект «оживает и начинает шевелиться». Что теперь ложь, а что истина, что маска, а что лицо -сказать трудно, и потому рождается сюжет-сон, сюжет-обман для того из героев, кто живет не по нормам видимости, а по нормам сущности, т. е. по идеальным представлениям (художник Пискарев). Внутреннее строение этого сюжета основано па развивающемся конфликте-противоборстве угрожающе привлекательного, а, в сущности, агрессивно гибельного ночного Петербурга и мечтательного, ранимого, самоотверженно чистого героя-человека.
В. Маркович считает, что средоточием петербургских «обманов» в гоголевском понимании является женщина. «Иррациональное, но совершенно несомненное ассоциативное сближение женщины и города все более уплотняется в тему демонской „прелести“, несущей соблазн, потрясение и катастрофу», что, в свою очередь, означает «опасную смежность и обратимость высокого и низкого» (Маркович В. М. Петербургские повести. — С. 134−135). Действительно, известно, что могущество женской красоты вызывало у Гоголя страх, и это выражено в сюжетах явления нечистой силы в «Вечерах.» и «Вне» (красавпца-панночка — ведьма). Но очевидно, этот страх касался пе столько самой женщины на земле, а топ страшной лжи, которой опутывалась женщина па земле, искажая дорогое Гоголю, священное «софиологическое» понимание женского начала в категориях, равных библейскому образу премудрости-художницы или функции Софии в святоотеческой литературе. (Об этом -указанная выше работа М. Вайскопфа «Птица тройка и колесница души:
Платон п Гоголь"). Вайскопф пишет: «У ппсателен-ромаптпкои эстетизм перетекал в софннпо-эротическую метафизику.. Сходную картину мы встречаем у Гоголя в «Женщине», где софийиый образ Бога-художника в придачу словно раздваивается на самого художника и на его логос («язык-богов») или Премудрость — женственную «идею», постигаемую созерцателем-визионером.. «Что женщина? — Язык богов! Она поэзия! Она мысль, а мы только воплощение ее в действительности» (Ваископф М. Птица тропка. — С. 101). Для писателя существовало определяющее понятие, присущее женщине -чистота. И ему важно было нацелить своего читателя па необходимость единства того и другого, при явном приоритете чистоты. Здесь существовал тот самый конфликт, который надо было преодолеть. «Красота женщины еще тайна.. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиною переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумпейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру?» (Гоголь Н. В. Выбранные места. — С. 193). В повести «Невский проспект» Ппскарев и пытается соединить высокое и низкое, прекрасное п доброе, закон необратимости преобразить в естественную необходимость единства добра и красоты.
Еще один вариант искажения предназначения женщины в человеческом антимире, в бюрократическом устройстве, порожденном чиновничьей бездуховностью, демонстрируют «Записки сумасшедшего». Идеальная в восприятии героя женщина с именем Софи (софийпо-эротическая метафизическая функция, по Вайскопфу) оказывается еще одним призраком, весьма подходящим для города обманов. Граница между Поприщипым и миром «его превосходительства» непреодолима, оп только видит «иногда отворенную дверь» в гостиную и знает, что есть «та половина, где ее превосходительство»: будуар, спальня. Закрытое пространство героини мифологизируется, приобретая в глазах Поприщипа, статус «рая» с «чудесами». Мифологическая оппозиция «рай — ад» актуализируется в этой повести в связи с движением образа главного персонажа. На смену его мучениям приходит освобождение и в свете религиозно-мифологических ассоциаций — «Рай», приносящий успокоение и истинное блаженство. Однако «Рай» Софи — это «псевдорай», иллюзорное подобие райской жизни, в нем пет жизни, искренности и любви. Земному «раю», где все преходяще, противостоит небесная сфера вечности и гармонии. Снова мы обнаруживаем в системе поэтики Гоголя структуру перевертыша, когда понятие Софии — мудрости, определяющее суть духовной сферы бытия, оборачивается маской ложного имени, соприкосновение с которым несет страдания, боль, обман и, в конечном итоге, разламывает мир героя па две контрастные сферы. Тем естественнее ожидающая героя потеря «нормального» разума. В «Записках сумасшедшего» этот непреодолимый барьер — еще одни вариант границы миров, переход через которую должен решить судьбу героя. С этой точки зрения интересно суждение 10. М. Лотмаиа, отметившего особую роль тина пространства (фантастического) в «Петербургских повестях»: «Превращение бытового пространства в фикции, в пеирострапства (.) это мир особого — бюрократического пространства. Разрозненный и разобщенный по всем другим признакам, этот мир един лишь в одном отношении — своей причастностью к бумагам, делопроизводству, бюрократии» (Лотмап IO. М. В школе. — С. 282). По мере роста самосознания героя и осознания им действительности, раздвигаются границы восприятия. Если до встречи с собачками даже социальная лестница для Понрищина завершилась директором департамента, то теперь она дополняется: камер-юнкер, генерал — и далее: «государь император», испанский король — еще одна «лестница» гоголевского антимира, выступающего в данной повести как мир двойного безумия: лишенного рассудка Поприщипа и абсурдно «нормальной» жизни вокруг пего. Так сплетаются архетипические значения мотивов и повествовательная телеология произведения с ее обозначенным конфликтом мира и антимира, приемами зеркальных перевертышей-обманов, сатирическими, драматическими п лирическими контекстами.
Е. М. Мелетинский считает, что архетипнческий пласт «Петербургских повестей» сильно трансформируется в авторской художественной индивидуальности Гоголя. «Фантастика в петербургских повестях занимает крайне скромное место, теряет свои архетипическне черты и превращается в основном в фантастику житейской прозы, как у немецких романтиков, хотя и па свой особый лад. <.> В „Записках сумасшедшего“ перед нами уже фантазия безумия, причем фантазия не архетипнческая, а просто компенсаторная мечтательная модификация реального быта,. компенсация мнимая, субъективная, болезненная», аналогично «Шипели», где фантастика тоже «иллюзорная компенсация реальной бытовой и социальной трагедии» (Мелетинский Е. М. Трансформация архетипов. — С. 165). Мы все-таки позволим себе не полностью согласиться с этой мыслью ученого. Компенсаторная иллюзия персонажей в этих повестях, конечно, лишена качеств древнего архетипа, и это, очевидно, случается всякий раз, когда поэтика архетипа подчиняется индивидуальной авторской художественной концепции. Однако художественная память древнего образа все же сохраняет его смысл и расширяет значение общего художественного контекста повествования, обогащая и концепцию персонажа, и авторскую концепцию в целом. Последняя запись Поприщина содержит описание «прорыва» героя из пространственно-временного плена, в том числе и из «заманивания» женщины как гибельной «мороки» или как ложности воплощенного в антимире «фундаментального мирового пространства», которое символизируется в женском теле (Иваницкпй А. И. Архетипы. — С. 262), для Поприщина это освобождение от «мороки» Софи, видоизменившейся Софии — к небесной отчизне. Это переход в загробный мир, в вечность, бегство от земного миража отождествляется с освобождением и слиянием с желанным абсолютным миром. Но освобождение это трагично: «Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, копей! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы пе видно было ничего, ничего»
Гоголь II. В. — Т. 3. — С. 176). Кони, на которых под звон колокольчиков Поприщип возносится в небссное пространство, — устойчивый фольклорный образ, адекватный христианской идее спасения. Вместе с тем образ тройки, еще до Гоголя связывался в русской литературе (Пушкин, Вяземский и др.) «с семантикой возвращения с чужбины па сакрализоваппую деревенскую Русь» [Вайскопф М. С. — С. 300]. В связи с этим уместно упомянуть об одной из интерпретаций семантики имени героя Аксентий, родственного имени Аксипня (от лат. Xentus) — «гостеприимный», «чужестранец», «чужой». Герой не соответствует окружающей его реальности, он чужой здесь, уровень его сознания и нравственных требований к миру уже неадекватны принятым в обществе формам общежития. Истинно человеческие качества вскрывают чужеродиость устоявшегося мира, его миражность.
Полет Понрищнна имеет фазы: 1) окончательное отторжение от земной юдоли: «Взвейтесь кони, и несите меня с этого света" — 2) приобщение к софийной сфере русского миросозерцания, в основе своей гуманистическом и христианском. Может быть, точка зрения Вайскопфа, что герой «приобщается» к «деревенской Руси», требует некоторой корректировки, так как в художественное пространство заключительной картины включены детали, далекие от России: «С одной стороны море, с другой Италия». «Италия во всей поэзии 1830-х годов — символ искусства, красоты, расцвета творческих сил человека» (Головко В. М. Историческая поэтика. — С. 319). Пространственное отношение Китая и Испании («я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля и только по невежеству считают их за разные государства» -Гоголь II. В. — Т. 3. — С. 174) подчеркивает зпаковость мирового зла. Для Попрнщина они действительно «одна и та же земля», земное пространство зла и бессмыслицы.
Герой приобщается как к ценностям национальным, так и общечеловеческим, потому что приближается к статусу личности в высоком смысле слова. Узкие рамки нескольких улиц первых частей повести сменяются простором, необъятной ширыо родины. Точка зрения повествователя выносится вверх, он с высоты обозревает пространство мира: над ним ничего пет (даже небо «передо мною»), под ним, под его ногами — туман, лес. Срединное положение между землей и небом фиксируется движением между лесом н месяцем {"лес несется с темными деревьями и месяцем"), цель которого, русская изба, венчается иконописной матушкой героя. В этом описании реализована архетипическая оппозиция хаоса — космоса. Картины поэтического космоса противостоят бытовым, опошленным образам предыдущих глав: дрянной луне хромого бочара — поэтический «месяц», орденской звезде -настоящая «звезда», бюрократическому чиновничьему бессмысленному хаосу -высокая космическая Вселенная. Вся картина природы, по контрасту скупому каменному пейзажу Петербурга предыдущих записей, наполнена яркими красками и цветами: «звездочка сверкает», «сизый туман», «дом. синеет вязами». Внешнее безмолвие наполняется звуками: «звени, мой колокольчик», «струпа звенит в тумане». Вся полпота бытия природы становится доступной восприятию героя, это момент напряженного переживания своей сопричастности всему живому. Поэтому картины природы смыкаются с сельской, материнской Русыо (национальный архетип), в которой преодолевается оппозиция «город — село» (цивилизация — естественность). Вырываясь из города, из иллюзорного мира призраков и миражей, Попрпщпп сливается с естественностью и жизненностью субстанциальных сил русского парода. Вся картина пронизана лирической возвышенной интонацией. Это настоящая поэзия природы, дивной красоты, выражающая пафос народности и душевной глубины. А. И. Иваницкий указывает, что колесница вообще «в индоевропейской мифологии — средство движения в загробный мир (центр мира)» и только в двух случаях у Гоголя — «в финалах первого тома „Мертвых душ“ и „Записок сумасшедшего“ — экипаж реализует свою чудесную природу, становясь средством полета в другой мир» (Иваницкий А. И. Архетипы. — С. 260).
Архетнпическое мышление автора реализуется и в особом хропотопическом строении повести. Деформация времени в повести связана пе только со стремлением Гоголя передать процесс сумасшествия героя, по и имеет скрытый символический подтекст. По мнению Вайскоифа, в этом проявились акосмические взгляды писателя, его несогласие с образом времени, членимого при посредстве светил. Поддержку своей позиции он находил в учении гностиков, для которых «хронологическая упорядоченность вселенной выглядела нескончаемой вереницей космических тюрем, управляемых Судьбой в лице иудейского владыки и его подручных» (Вайскопф М. С. Сюжет Гоголя. -С. 296). «Записки сумасшедшего» приобретают некий знаковый смысл всего творчества Гоголя, разглядывающего жизнь отчизны социальной (абсурдной, обезумевшей в своем суетном существовании в мире ложных ценностей) сквозь призму идеальной сущности отчизны духовной, того самого архетипа вечного духовного «Рая», который существовал в мировоззрении автора и к которому он стремился вести своих читателей из мира бюрократической беспорядочности, аналогичного «хтопическому мраку первпчпого хаоса» (С. 155) как их духовный пастырь.
В системе гоголевского антимира, который даже красоту, эту великую ценность, воплотившуюся в женщине, обращает в страшную силу лжи, ecu, мистическая внешняя сила, обитающая в городе, «сотканном из художественных парадоксов» (Маркович В. М. Петербургские повести. — С. 131), опа-то оказывается непреодолимым злом, «страхом и ужасом», тем более сильным, чем более оп пользуется орудием обмана.
Данное диссертационное исследование посвящено изучению поэтики индивидуальных художественных систем русской классики первой половины XIX века. Несмотря на огромный пласт научной литературы, посвящеппой творчеству Пушкина, Лермонтова и Гоголя, все еще есть открытое поле в этом научном пространстве. Об этом говорит и появление в последние годы многих научных работ по теме.
Мы не стремимся предложить жесткие, навязчивые концепции исследуемого художественного материала, однако тем не менее думаем, что возможно не только создание аргументированных интерпретаций, дополняющих, корректирующих или углубляющих уже имеющиеся знания о предмете исследования, но и попытка обнаружить хотя бы некоторые аспекты инвариантного содержания литературных художественных первоисточников.
Три художественные модели мира, спроецированные на русский вариант бытия, дают одновременный взгляд на жизнь, открывающий ее философски значимые стороны — «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души». Эстетический творческий инструментарий этих художественных систем является сильнейшим орудием познания внеэстетического мира, одновременно формируя со-твореиную действительность в явлении искусства.
В диссертации разрабатываются художественно-философские концепции и их эстетическая структура в каждой из индивидуальных художественных систем: это композиционный принцип троичности у Пушкина, человеческая индивидуальность как предмет художественного познания у Лермонтова, конфликт мира и антимира у Гоголя. Эти концепции не определяются из внеэстетических сфер (таких, как биографии, мировоззрение, исторические условия создания, проблемы эпохи и т. д.), а выводятся из ¦функциональных смыслов, порожденных поэтикой каждого произведения, что дает право говорить об их объективной реализации и, следовательно, об их идейно-смысловой сущности в произведениях. Индивидуальность каждой художественной системы является не только гарантией художественной н культурной ценности, по также и залогом их глубинного взаимодействия и последующего влияния на литературу.
Пушкин, Лермонтов, Гоголь — «три кита», на которых стоит вся последующая русская литература. В их творчестве, конечно, есть взаимная интегративность, но в то .же время каждый из них проникает в новую область отношений с действительностью. Это треугольник познания, проверки и отрицания подвластного познанию мира с позиций того миропонимания, которое дается обращением к высшим сферам духовной жизни. Разобраться в этих позициях и предстоит нам на материале творчества трех русских писателей — в них мы видим первоначало. Все остальное в русской литературе освещается их светом и становится ясным в этом освещении.
Выбор темы диссертационного исследования основан на идее преемственности научной мысли и культурного наследия, па идее органического вхождения русской классики в систему современного мышления, на понимании вечной актуальности классики и неограниченных возможностей развития научной мысли на ее материале. Научный интерес к прошлому национальной культуры гарантирует непрерывность духовной, интеллектуальной традиции в новых цивилизационных условиях.
Усилия литературоведов последних лет настойчиво направлены на поиски таких способов и приемов исследования классики, которые должны выяснить ее содержательную сущность, наиболее адекватную стремлениям, важным и значительным в повое время. Оправдано при этом желание быть максимально объективными, определить методологию, способную создать действительно обоснованную систему научного анализа.
С этой точки зрения мы считаем наиболее аргументированными подходы, выработанные исторической поэтикой, совершившей в последние годы серьезный скачок в своем развитии. Именно эта область литературоведческой науки обладает бесспорным потенциалом методологической объективности. Историческая поэтика опирается на законы эволюции словесного творчества, объясняя культурно-историческую обусловленность искусства слова, обнаруживая органичность во взаимосвязи всех элементов поэтических систем на синхронном и диахроппом уровне. Теоретические разработки в области исторической поэтики, начиная с Л. Веселовского (С. Аверинцев, Е. Мелетинский, А. Лосев, М. Бахтин, В. Топоров, Н. Тамарченко, С. Бройтман и др.) в настоящее время требуют такой же активной практической реализации, особенно в анализе отдельных явлений литературного процесса. Именно они дали возможность М. Бахтину и Е. Мелетинскому создать целостную концепцию жанра романа как развивающейся открытой системы. Именно они обоснованно формируют понятия, связанные с системным эстетическим мышлением, объясняющим эстетические категории большого обобщающего смысла (классицизм, романтизм, реализм и т. д.). Именно они вводят в режим закономерности проблемы традиций и новаторства, проблемы соотносимости индивидуальных художественных систем (творчество отдельных писателей, отдельные произведения) с развитием культуры в целом и литературного процесса, в частности. Историческая поэтика открывает возможности понимания самой категории поэтики, в каком бы ракурсе она пи рассматривалась разными методологическими школами, т.к. эта научная область, в сущности, имеет дело с происхождением, истоками и развитием любого аспекта эстетического мировосприятия, с его изменением в человеческой культуре, а главное, дает представление о неслучайности каждого аспекта и возможностях непротиворечивого существования, казалось бы, па первый взгляд, несовместимых частей (таких, например, как поэтика неожиданностей у гармоничного Пушкина, или сочетание социального и религиозного детерминизма у Гоголя и др.).
Актуализированы в последние годы научные позиции литературоведения, связанные с разработками идей всеобщей мифологии искусства, базирующейся на обосновании индивидуально-художественных систем как индивидуально-авторских мифологий, с опорой па традиции Шеллинга — Лосева (Балашова И. А. Романтическая мифология А. С. Пушкина / Дисс. д-ра паук. — В. Новгород, 2000). С этими позициями сопрягаются поиски мифопоэтики, хотя полного совпадения нет и не может быть, потому что мифопоэтика предполагает прежде всего обращенность к законам исторической поэтики, которая дифференцирует эпохи и явления, но признаку синкретизмадискретизма в отношениях субъекта — объекта — слова. «Всеобщая мифология», очевидно, предполагает внеисторическое свойство постоянной синкретичности искусства, что не оправдывается практикой. Тем не менее этот подход порождает интересные выводы по проблемам типологии искусства: Здесь тоже обосновываются тенденции к выявлению специфически объективного смысла творческой деятельности.
Достаточно плодотворны результаты психоаналитического подхода в его эстетическом проявлении, если он избавлен от крайностей фрейдизма и синтезируется с иными, уже традиционными методами, такими как типологический, структурный, семиотический (Савинков С. В. Творческая логика Лермонтова. — Докт. дисс. — Воронеж, 2004; Ивапицкий А. И. Морфология земли и власти. М.: Рос. гос. гуман. ун-т, 2000). Такой способ исследования позволяет обратиться к проблеме авторского переживания, создающего творческую интуицию, содержащую экзистенциально-феноменологический потенциал будущего произведения, — и, очевидно, может в определенной степени соединить понимание творческого акта с его мотивами и образами.
Настойчиво утверждает себя тенденция рассмотрения русской классической литературы в русле православно-христианских верований. Этот путь чрезвычайно труден, т.к. здесь легко переключиться из сферы литературы как светского слова в сферу слова сакрального, которое всегда неизбежно тенденциозно, и тогда художественная литература может превратиться в иллюстрацию религиозных вероучений. Однако в ряде исследований, где, при ориентированности на национальные формы христианского мировоззрения, пространство художественного слова не замкнуто догматикой религиозной мудрости, где допускается простор для соотнесенности христианских архетипов с архетипами иного происхождения (язычества, иных веровании, общественного социального устройства, психологии и физиологии и т. д.), достигается высокая степень проникновения в глубины авторского сознания п в смысл индивидуально-авторских созданий (работы М. Вайскопфа, М. Новиковой, Л. И. Жаравииой, С. А. Гончарова, Е. А. Трофимова и др.). При склониости же к научному диктаторству или научной популяризации мы сталкиваемся либо с упрощением смысла, либо с научной тенденциозностью, как это иногда обнаруживается, например, богословского литературоведа М. Дунаева или елецкого исследователя А. А. Дякииой и некоторых других.
Освоенные отечественным литературоведением методы герменевтического исследования в последние годы пронизывают практически все труды ученых, став уже отработанным инструментарием науки. Хотя надо признать, что приемы герменевтики имели место и раньше, благодаря своей универсальности, например, отработка функциональной содержательности элементов поэтики: композиции, системы образов, художественного хронотопа и т. д., и современная герменевтика естественно выросла на подготовленной почве.
В последнее время оказался заявленным аспект литературоведческого исследования, определяемый как «антропологическая парадигма». Художественная антропология обретает статус едва ли не одного из современных научных методов, или, по крайней мере, самостоятельной области литературоведческой деятельности. Между тем философия антропологизма, являющаяся основой художественной антропологии, очевидно, не может претендовать на современный генезис, ибо человек как «мера всех вещей» воспринимался еще в античности, а философия Фейербаха прямо декларировала себя как философия антропологизма. Иначе говоря, проблема антропологизма в литературе должна осмысливаться именно в качестве одной из проблем художественного творчества и науки о нем. По-видимому, одной из центральных, по, как любая другая важная проблема, она может изучаться самыми разнообразными методами.
Мифологизм, антропологизм, психологизм, нравственные и религиозные ценности, — все это на самом деле выражение внеэстетических отношений в системе эстетического бытия. Главная задача филолога-исследователя состоит в том, чтобы соединить впеэстетическую и эстетическую действительность. И это происходит даже в тех случаях, когда субъективное восприятие закладывается в качестве философской основы понимания жизни в целом в теориях деконструктивизма. Для того, чтобы приблизиться к основополагающим смыслам творчества писателя, надо исходить не из предзадапных методологических установок, а погрузиться в святая святых эстетического факта, того мира, который создается словом, по существует по законам не только словесных отношений.
При всей традиционности структурно-эстетического метода изучения, он, как мы считаем, является основополагающим аналитическим инструментарием, какой бы аспект изучения ни избирался. Однако оп недостаточен без понимания системного характера изучаемого явления, а это значит, что системность должна характеризовать и сам способ изучения (эта мысль подчеркивалась уже, например, И. Г. Неупокоевой). Русская классическая литература требует не просто адекватно бережного обращения, но и максимально полноценной разносторонности рассмотрения. Ибо кто может выделить безболезненно доминантный аспект смысла в творчестве Пушкина, Лермонтова, Гоголя? В них есть (слегка перефразируя Ап. Григорьева) «наше все», и не только «наше». Поэтому «метафизическое» содержание поэтики.
Пушкина или процесс интеграции жанровых образований у этого поэтаархетипическая насыщенность лермонтовского творчества или его «самоотрицание», телеологически выражающее кризис романтической идеологии и аксиологиисатира Гоголя или «учительная» традиция в его художественном мировоззрении, — все это герменевтические «частные», вращающиеся внутри одного «громадно несущегося» художественного мира каждого из классиков и их совокупного творчества в русской литературе.
Главным все же следует полагать синтез «частных» составляющих, в котором видится мотивирующий и порождающий потенциал, влияющий па весь художественный мир писателя в целом и заставляющий развиваться творческую силу субъекта именно в данном, и пи в каком ином, направлении и создавать именно данную, и никакую иную, художественную систему. Мы все же предполагаем возможность инварианта художественной системы, составляющей произведение, хотя понимаем, что его содержание многократно варьируется и, обнаруживая себя в плане выражения, всегда оставляет возможность ступенчатого и более глубокого проникновения в свою сущность. Слово многозначно само по себе, точно так же многозначны предикативные обозначения его смысла и функционирования. Поэтому, естественно, проблема понимания текстовой формы произведения всегда останется актуальной. И все же «Евгений Онегин» навсегда останется слово в слово таким, как он написан Пушкиным, и никто не посмеет его дополнять или завершать, если только не поставить своей целыо создание пародии или литературной игры. И «Герой нашего времени», и «Мертвые души» неприкосновенны ни в одном своем слове, и эта их неприкосновенная словесная суть есть инвариант. По-другому все это, очевидно, и не могло быть написано.
Приближение к пониманию инварианта осуществляется разными путями. С точки зрения литературоведческой науки важен учет двух главных моментов: 1) функциональности поэтики (эстетического состава произведения) во всех ее компонентах, дифференцированных и единых одновременно- 2) функциональности историко-культурной и историко-литературной традиции, неизбежно и закономерно реализующей себя в художественном мышлении, -традиции в широком смысле слова, т. е. предполагающей действие онтологически обозначившихся итогов определенной эпохи, сложившихся уже как система. Оба условия целенаправленно выводят на тот «момент истины», который формируется в области философских контекстов художественного творчества, т.к. устремляют исследовательские усилия на выявление обобщающих процессов, создающих художественный мир как мир одновременно стабилизирующийся и развивающийся, как мир воплощающийся в конкретно-поэтических формах, «подсказывающих», в каком направлении следует вести толкование (интерпретацию) сущностного, онтологичнского содержания этого художественного мира.
Основные системные компоненты, обладающие потенциальной энергетикой, стимулирующей их функционирование в художественном творчестве (и соответственно в продукте этого творчестве): автор — художественный объект, артефакт, произведение, текст — читатель в их отношениях с внеэстетической действительностью. Каждый из этих системных компонентов обретает реальное бытие в слове, которое, пройдя этапы художественной организации, становится носителем семантического и эстетического смысла компонентов. Объединяясь по эстетическим законам, они обретают второе бытие и внутри него оставляют понятие поэтики, относящееся к произведению, творчеству писателя и другим художественным системам. В свою очередь, продукт творчества, существующий между действительностью, автором и читателем, имеет свою структуру, сложившуюся исторически и постепенно (к XIX веку) получившую возможности «миростроительной» функции, которая, тоже эстетически осуществляясь в слове, составляет понятие поэтики произведения или (в зависимости от задачи научного исследования) текста. Каждый из элементов такой структуры имеет конкретное обозначение, может быть словесно-образным и композиционно, впесловесно-образным, и определение его функционального смысла подвигает исследовательскую мысль к пониманию произведения (текста) как системы.
Если же мы говорим об эстетическом целом, да еще и осознанном, то мы неизбежно включаемся в особую сферу философских проблем, философских размышлений. Будучи метанаучпыми, философские идеи способны протеизироваться, принимать разные формы бытования и воплощения. Уже в исследованиях советского периода подчеркивалась необходимость единого рассмотрения литературы, искусства и философии (В. Днепров, М. Каган, В. Кожинов, Д. Лихачев, П. Палиевский, М. Храпченко, Р. Москвина и т. д., пе говоря уже о трудах М. Бахтина, А. Лосева, М. Мамардашвили, С. Аверинцева). Человек изучался как объект философии и как объект литературы. Очевидно, это спасало серьезную научную мысль от вульгарного социологизма, тем более, что паши крупные ученые обращались к мировой философской мысли, далеко выходя за пределы ортодоксального для советского периода марксизма.
По теории систем «законы, управляющие каждым коммуникативным сектором, рассматриваются как варианты кодов более высоких уровней» (Умберто Эко. — С. 407 — 408). Так и в словесном искусстве — литературе. Об особом характере эстетического мышления, когда конкретные формы выражения тяготеют к философским обобщениям, свидетельствует вся историческая поэтика. Кумулятивные и циклические сюжеты, рожденные еще эпохой синкретизма, означали моделирование понятых древним человеком законов мирового развития. То же можно сказать о сакральных сюжетах н сложившихся эпических, лирических и драматических архетипах эпохи традиционализма. Когда философия была осмыслена как паука, ее разделом стала эстетика (Платон, Аристотель). У Платона возникает понятие «эстетических идей». Позднее Ф. Шлсгель, утверждая высший духовный характер искусства, писал: «Поэзия и философия должны соединиться» (Лит. манифесты западноевропейских. — С. 54). В паше время 10. Манн, изучая историю русской критики, обосновал понятие «русской философской эстетики». И уже в последние годы Т. Г. Мальчукова рассматривает «философскую филологию» не как отрасль литературоведения, а как главную суть этой пауки (Мальчукова Т. Г. О философской филологии). А современные философы все чаще обращаются к художественному творчеству для развития и подтверждения своих идей. «Поэт и философ — первопроходцы на пути к истине», — утверждает, например, JI. А. Коган (Коган JI. А. — С. 47), прослеживая историю вопроса о роли поэзии в историческом развитии филолсофской мысли.
Мы думаем, что обнаружение философско-эстетической концепции индивидуально-художественных систем, каковыми могут быть и творчество писателя, и отдельное произведение (равно как синхронно и диахроппо соотносимые системы национальных, региональных и прочих систем) способно, транслируясь на любое произведение автора или па любое явление историко-культурного развития, убедительно сформулировать если не полный их инвариантный смысл, то какие-то неопровержимые его составляющие. И тогда на этом основании можно говорить о содержании и значении исследуемого явления литературы.
Объектом данного диссертационного исследования являются произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя как индивидуально-художественные системы, созданные в период формирования повой эпохи исторической поэтики. Художественно-индивидуальной системой мы называем художественные модели мира в индивидуальной авторской телеологии и рассматриваем их одновременно и в процессе становления (моделирования как познания), и в завершенном варианте, обнаруживающем онтологическое знание. Мы выбираем три главных произведения, находящиеся у истоков русской классической литературы, — «Евгений Онегин», «Герои нашего времени» и «Мертвые души». Однако, понимая недостаточность такой единичной избирательности (несмотря на безусловно центральный обобщающий статус этих произведений в творчестве этих писателей), мы и обращаемся к анализу других жанров, определяющих специфически органичное для авторов художественное видение мира: лирики Пушкина, лирики Лермонтова, повестей Гоголя. Отдаем себе отчет в том, что запасы научных идей в этой области колоссальны, и кажется, что написано уже все, что можно было написать. Но есть все же и «оправдывающие» такой труд обстоятельства.
Во-первых, очевидно, не может возникнуть возражений против мысли о неисчерпаемости темы. Еще Белинский заметил, что «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям. (.) Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы ни верно поняла она их, по всегда оставит следующей за пей эпохе сказать что-нибудь новое и более верное» (Белинский В. Г. — T.V. -С. 555).
Во-вторых, расширение культуры на фойе мощного расширения цивилизации — процесс драматичный, и его осуществление возможно, при наличии множества поддерживающих обстоятельств, лишь при одном важнейшем условии: усвоении старого духовного опыта и его диалектичном вхождении в формирование новых духовных ценностей. Цивилизация, создавая комфортные условия для человеческого существования, еще не означает прогресса и совершенствования человечества. «Родное пепелище», «отеческие гробы» (Пушкин), питающие нашу землю, — то неизменное основание, па котором вырастает возможность неабсурдного человеческого общения и бытия. В определенном аспекте эта проблема позволяет говорить о возможностях движения научных идей па много раз проработанном материале классической литературы. Воспользуемся интересной мыслыо о соотношении масштабности воспринимающего субъекта и воспринимаемого объекта из работы В. А. Канке «Основные философские направления и концепции пауки. Итоги XX столетия» (М.: Логос, 2000), который, подводя итоги научной философской мысли XX века, замечает: «Прорыв в расширении сознания личности в наше время не означает превосходства сознающей человеческой личности 20−21 вв. над личностями прошлых времен. Может, именно в силу гигантского объема информации и возможностей ее обмена индивидуальный человек нашей эпохи никогда пе сможет достичь такого развития всех своих потенциальных возможностей, какое характеризует Шекспира, Леонардо да Винчи, Гегеля или Пушкина. Но человек Етшей эпохи, очевидно, стал способен понять этих гениев так, как не могло их воспринять и объяснить ни одно из предшествующих времен» (Канке В. А. — С. 8). Нам важен аспект этой идеи, позволяющий говорить о движении научных идей па много раз проработанном материале классической литературы.
Научная концепция предлагаемой диссертации выстраивается па характеристике и сопоставлении трех основных индивидуальных художественных систем, которые заложили основу всей последующей русской литературы.
Предмет исследования — поэтика произведений, проблема превращения эстетических структурных элементов поэтики в художественную системуее содержательное функционирование, обнаруживающее феноменологический смысл явлений литературы с точки зрения эстетической, историко-культурной и с точки зрения общезначимого вневременного (допускаем здесь категорию индивидуальной художественной мифологии) значения. В качестве более общей эстетической категории предметом исследования является индивидуально-авторская художественная философия и ннтегративные процессы ее диалога с 1шеэстетической действительностью.
Целыо данной работы мы и определяем поиск основных художественно-философских концепций в основополагающих художественных системах первой половины XIX века — «Евгении Онегине», «Герое нашего времени» и «Мертвых душах». Мы предполагаем рассмотреть взаимную коррелированность названных систем по принципам интеграции, дополнительности, диалектической противоречивости с тем, чтобы увидеть, насколько значителен вклад авторов в культуру слова, в процесс познания жизни и сотворчества с жизнью пе только по степени гениальности, что неоспоримо, но и по степени приобщенности к объективным процессам исторической поэтики на определенном этапе отношений искусства с реальной действительностью. Нам представляется принципиально важным увидеть в этих системах дифференцированное единство, создавшее национальную систему словесного искусства на гребне перехода от эпохи традиционализма к эпохе индивидуального авторства. В связи с этим неизбежным становится вопрос об особенностях философского видения мира у каждого из анализируемых писателей как решение одновременно их экзистенциальной значимости и исторической (историко-культурной и историко-литературной) функциональности. Понимание художественно-философских концепций в произведениях Пушкина, Лермонтова, Гоголя мы считаем возможным на основании глубинного анализа системы поэтики как аргументирующего фактора, доказывающего неслучайность наших суждений.
Актуальность работы определяется, во-первых, значительно возросшим в последние годы вниманием к наследию классики и необходимостью по-новому рассматривать онтологические и аксиологические стороны ее содержания, во-вторых, при существующем многообразии методологических установок, идейных интерпретаций и порой достаточно субъективных тенденций обращение к научной аргументации «изнутри» самого изучаемого предмета, т. е. к аргументации функциональностью поэтики, представляется весьма перспективным, ибо только совокупность множества эстетических функций может в итоге дать порождающий эффект словесного мироустройства, обладающего внутренним законом, и определение этого закона обнаруживает философскую, мировоззренческую концепцию, живущую в эстетически организованном мире.
Соответственно сформулированной цели определяется и методологии диссертационной работы, которая базируется па основаниях структурно-эстетического способа изучения источников, развернутого как возможности онтопоэтики, мифопоэтики, формальной поэтики, исторической поэтики с использованием таких методов текстового литературоведческого анализа, как историко-литературный, типологический, сравнителыю-историческпй, биографический, мотивный, системный — в зависимости от внутреннего потенциала самого произведения. Все эти способы анализа интегрируются в авторской исследователЕ>ской стратегии, нацеленной па решение вопроса о соотношении внеэстетической и эстетической действительности, порождающего философско-эстетическую концепцию индивидуальной художественной системы. Решение этого вопроса связглвается с феноменологическими, аксиологическими, онтологическими и гносеологическими аспектами художественного мышления. Основной принцип системного анализа, избираемый в работе — исследование диалектики отношений всех компонентов эстетической структуры, их художественных функций, порождающих содержание и смысл произведения (его художественно-философскую концепцию), т. е. изучение структурности художественных систем и их превращения в явление искусства и культуры. Поиск осуществляется на основании разностороннего анализа поэтики произведений, подтверждаемого аналогичным анализом свойственных избранным для изучения авторам других жанровых образований (лирики Пушкина и Лермонтова, повестей Гоголя). Путь изучения, предлагаемый в данной работе, опирается именно на идею функциональности поэтики в системе традиции. А это значит, необходимо каждый раз в новом прочтении произведения суметь его структурировать («разъять алгеброй гармонию») и определить функцию (эстетическую и содержательную) каждого элемента структуры, найти «законы сцепления», основы гармонической организации и «гармонической точности» (Пушкин) произведения, обнаружить то объединяющее начало, которое и создает произведение как status guo, и только в результате такого проделанного исследовательского пути дать характеристику того, что терминологически обозначается как тема и идея произведения. Только такое рассмотрение произведения может дать право включить его в творческий путь" писателя, в национальный и мировой литературный процесс, в существование культуры в целом, потому что теперь можно «представлять это целое как осознанное единство» (Бушмин А. С. — С. 19).
Такой подход представляется нам верным, обладающим серьезным потенциалом объективности, способным придать исследованию достаточную научную точность и мотивированность. Аргументация художественной философии писателей поэтикой их произведений, как нам кажется, может научно противостоять любой субъективности или задаипости, т.к. предполагает рассмотрение художественного явления изнутри, от его собственной логики и системы, а не по заранее избранной соответственно корпоративному методу логике и системе. Модели, объясняющие мир, его конструируют (постулат системного подхода), а поэтика и есть структура, конструкция, обретающая когнитивпость в процессе творчества (научные основы теорий К. Леви-Стросса, 10. М. Лотмана, М. С. Кагана и т. д. дают фундамент такому пониманию).
В целом такой взгляд па поэтическое искусство (литературу, словесное творчество) близок прежде всего «философской филологии» или «философской эстетике», с тем уточнением, что в искусстве слова пет необходимости отыскивать влияние тех или иных философских учений, а следует видеть концептуальное индивидуально-авторское художественное обобщение важнейших философских проблем, решаемых в сфере самого эстетического объекта.
Методология литературоведческого анализа, используемая в данном диссертационном исследовании, учитывает опыт фундаментальной научной мысли в позициях, принципиально важных для того, чтобы состоялась доказательная аргументация смысла произведений их поэтикой, равно как и творчества писателей в целом. Из работ отечественных ученых в данной работе наиболее востребованы труды М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмапа, В. М. Жирмунского, С. С. Аверинцева, Е. М. Мелетинского, В. Я. Проппа, А. Н. Веселовского, С. Н. Бройтмапа, IO. Б. Борева, М. Л. Гаспарова, М. М.
Гиршмана, Ю. В. Манна, В. Н. Турбина, О. И. Федотова и ми. других. Используются также работы европейских и американских ученых (и их отечественных единомышленников и продолжателей): В. Дильтея, Г. Гадамера в области герменевтики, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и др. в области феноменологии, Р. Барта, Леви-Стросса и др. в области структурализма, Б. Эйхенбаума, М. Бахтина, Ф. Штанцеля в области парратологии, К. Г. Юнга в области мифопоэтики и теории архетипов.
Исходя из поставленной цели и определившегося методологического подхода в данном исследовании необходимо решение ряда задач, способствующих целостности и целенаправленности работы:
— очертить круг теоретических проблем, необходимых для полноценного исследования художественной философской феноменологии избранных нами художественно-индивидуальных систем, определить их взаимосвязаиность в системе исследования (автор, произведение, читатель, поэтика, отношения впеэстетической и эстетической действительности);
— по мере необходимости ввести в процесс научного анализа дополнительные понятия категориального аппарата (диалектика эстетической структуры и художественной системы), уточнить уже существующие (папр., литературное явление), в особенности те, которые в последние годы подвергаются полемическому переосмыслению (реализм);
— выявить (исходя из закономерностей тезауруса) основополагающие компоненты поэтических систем (произведений) и проанализировать их онтологические, аксиологические, исторически конкретные, философские и эстетические функции, соотнести такой анализ с функциями других, менее фундаментальных компонентов, чтобы подтвердить или опровергнуть полученные данные;
— увидеть закономерность связей между всеми элементами структуры произведений, компонентами их художественной системы и философской феноменологией и постараться понять целостный, концептуальный характер художественного знания в каждой из систем-произведенийвыявить процесс генерирования в культурной сфере новых смыслов, порожденных анализируемыми системами;
— уточнить некоторые интерпретационные итоги современного восприятия творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя;
— сопоставить идеи-концепции художественных систем трех великих авторов с целью определения их места в национально-историческом процессе культурного и словесно-литературного развития как одного из звеньев исторической поэтики в целом.
Научная значимость и новизна диссертационного исследования заключается в последовательном применении методики системного анализа при изучении произведений, что позволяет обнаруживать их собственный объединяющий эстетический закон, в обосновании дифференцированного единства художественных философских концепций и доминирующих внутренних эстетических законов художественных систем в творчестве Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Эти концепции демонстрируют охват внеэстетических процессов, важных для понимания жизни с разных точек зрения и стимулирующих создание индивидуальных художественных моделей мира. В итоговых формулировках эти концепции выглядят следующим образом: Пушкин создает «положительное» знание о жизни («Евгений Онегин»), принимая и ее гармонию, и ее трагедию, тем самым создавая ситуацию «храпения», вечностьЛермонтов, актуализируя прежде всего проблему личности, создает ситуацию «эксперимента», шекспировского «театра жизни», где люди — «актеры», он проверяет жизнь на совершенство, па способность дать «счастье» духовной, высоко организованной личности («Герой нашего времени»), и это состояние постоянного экспериментирования мыслящего человека фиксирует как вечный духовный мятеж и поиск (антиномия покоя — бури) — Гоголь создает роман «отрицательного» знания, высвечивая порочную сторону в жизни человека, забывшего о главном, о душе,.
— конфликт высокого духовного начала и гиперболизированно заостренной бездуховной реальной действительности дидактически нацеливает па утопию возрождения (исправление) человечества. В центре художественного мироздания у каждого писателя находится человек. Но аксиология антропологической идеи разнится у всех: пушкинский человек — равноправная часть миралермонтовский равен миру и соперничает с мироздателемгоголевский — подчинен высшим силам мира, и его самостоятельные действия в мире чреваты либо гибелью, либо искажением натуры, личности, всей духовной организации.
Новизна диссертационного исследования состоит также в коррекции внутреннего эстетического закона произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя как художественных систем. У Пушкина — это принцип гармоничной троичности, у Лермонтова — трагический конфликт индивидуальности с мироустройством в целом, у Гоголя — это драматически комическое и потенциально трагическое столкновение мира с антимиром. Кроме того, аспект новизны в диссертационном исследовании закрепляется уточнением ряда теоретических категорий, употребление которых в науке либо слишком многозначно, либо теоретически недостаточно обосновано и разработано (эстетическая структура, художественная система, художественное явление, онтологический статус произведения, динамика смысла в системе поэтики произведения, реализм как художественная философия и некоторые другие).
Теоретическая значимость работы может определяться попытками выявления закономерных сопряжений частного и общего в эстетической области познания жизнинаучным развитием категорий, способствующих обоснованию обобщающих художественных концепций, таких как динамика системы автор — произведение — читатель — действительность, диалектика эстетической структуры и художественной системы, реализм как эстетическая философия и художественная система, художественный композиционный принцип троичности и др. Теоретическое развитие идеи об аргументированности смысла произведения всей системой поэтики как единственно непреложной, строго ограничивающей вторжение субъективной тенденциозности исследователя и давление заранее предложенных позиций, пусть даже очень хороших и актуальных, тоже очень важно для развития современной литературоведческой науки. Рассмотрение трех шедевров русской литературы не только в качестве самодостаточных, завершенных в своей эстетической значимости явлений, по и в совокупности, дополнительности, совместности миромоделирования, создавшего полномерный охват возможных параметров художественно осмысливаемой действительности и особый вариант интертекстовых отношений, открывает возможности новых подходов к пониманию литературного процесса эпохи модальности.
Практическая значимость работы состоит в возможностях использования ее материала для преподавания базовых курсов истории русской литературы в вузах, средних учебных заведениях, в ИГЖ учителей, для чтения специальных курсов и курсов по выбору, написания квалификационных и дипломных работ, магистерских и кандидатских диссертаций. Развитый в диссертации способ исследования, а также выводы о художествено-философских концепциях индивидуально-художественных систем Пушкина, Лермонтова, Гоголя позволяют по-новому осмыслить их значение в русской и мировой литературе, увидеть новые аспекты литературного развития и, следовательно, дополнить научные знания по специальности «Русская литература».
Па защиту выносятся следующие положения:
1. Наиболее плодотворным способом литературоведческого исследования мы считаем глубинный, многоуровневый (по степеням художественного обобщения) анализ поэтики произведения, аргументирующий феноменологическое, онтологическое, аксиологическое и историческое его содержание. Внутри эстетического объекта поэтика представляет собой эстетическую структуру, адсорбирующую семантику всех уровней художественного обобщения (индивидуальный, типический, архетипический). Оживление эстетической структуры авторской телеологией (композиционным эстетическим законом), по Бахтину, превращает эстетическую структуру в художественную систему, обладающую качеством нового знания, нового явления жизни как явления слова, которое, создавая новый (иной) но сравнению с реальной действительностью мир, тем не менее функционально реализует закономерности и законы мира реального. Если этот процесс имеет место, то возникает произведение как явление онтологического плана, которое способно отделиться от автора, «как брошь от ювелира», включиться в фонд мировой культуры в качестве ее явления, став новой единицей человеческого общения.
2. На рубеже двух крупнейших эпох развития исторической поэтикиэпохи традиционализма (эйдетической) и эпохи модальности — возникает новый способ художественного мышления, когда творческая способность автора определяется не приобщением к высшим запредельным сферам духа, к сакральному миру или сложившейся на этих же основаниях традиционной образцовости, а умением понять и занять позицию «Другого», равноправного творческой личности автора, с собственным «самостояпьем» (от великого до самого малого = Акакий Акакиевич). Эго не романтическая или даже сентимепталистская идея равенства всех людей перед лицом Бога или смерти, а идея равноправного со-творчества «Я» и «Другого», их взаимозависимости и взаимной детерминированности с учетом законов «бытия как присутствия». Этот способ художественного мышления является по существу своему философским и порождает в области словесного искусства художественную философию, которую можно назвать реалистической (разумеется, не в бытовом значении этого слова). Именно к такому художественно-философскому мышлению следует отнести три шедевра, находящиеся у истоков русской классической литературы («Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. 10. Лермонтова, «Мертвые души» Н. В. Гоголя).
3. Этапы эволюции Пушкина [становление (до 1823 года условно) и зрелость, когда в художественном слове постепенно воплотились этапы философского познания] - воспроизведение действительности, моделирование ее и осознание высших ценностей онтологического плана — синтезируются в формировании его творчества как онтологического явления, нового знания, нового сотворения мира в слове. Самобытная художественная философия Пушкина характеризуется следующими важнейшими принципами и идеями: идея «самостояпья человека" — принцип «в малом — великое" — соотношение «человек и народ — судьба человеческая, судьба народная» — принцип, характерный для эпического и драматического мышления, по способный транслироваться в лирикунаконец, идея «общего закона» как гармоническое решение вопроса о жизни и смерти, внутри которого пушкинский человек допускает позицию борьбы как «бессмертья залог», в результате чего оп «пе дает судьбе победы над собой» (Белинский).
4. Внутренним эстетическим законом художественной системы романа «Евгений Онегин» является принцип троичности, универсальный регулирующий и гармонизирующий центр художественного создания как модели мира, приобретающий смысл символического композиционного образа. Телеологичность художественной системы романа как онтологического явления осуществляется как с помощью принципа троичности, так и па основе на основе диалогической структуры: автор — читатель, автор — герои, героигерои, — что в целом уже создает систему, заложившую основания полифонического романа. Эта система приобретает объективный потенциал самодвижущейся, выстраивается по собственным внутренним законам и обрекает роман па формальную неоконченность. Пушкин впервые создает произведение по закону логики «Другого», его герои самостоятельно строят пе только собственную жизнь, но и романный сюжет, не избегая при этом пи конфликтных, ни трагических ситуаций. Сюжет главного героя определяется как сюжет поисков, становления и обретения, но тем не менее не имеющий возможности завершения.
5. Пушкинское рефлективное онтологическое знание, доведенное до высшей мыслительной и эмоциональной кульминационной точки, развивается в поэзии Лермонтова, который сосредоточен на философском содержании конфликта личности с миром. Лермонтовская онтология связана с включением единичного бытия во всеобщее, когда происходит постоянное тяготение к гармонии и постоянная реализация трагедии, неразлучными становятся любовь и смерть. Художественный мир Лермонтова моделируется внутренним диалогом человека и создателя, микрокосма личности-души и макрокосма вселенной. Лермонтовский метасюжет — это сюжет поисков, сюжет игры, сюжет вины, сюжет суда, сюжет фатализма и трагедии, смягченный иронией и оправданный внесюжетпым фактором онтологической уникальпости-и красоты явления искусства, созданного Лермонтовым.
6. «Герой нашего времени» — итоговая система сложившегося творчества Лермонтова-поэта. Это роман о философской личности. Поэтика «Героя.» структурирована в живых функциональных компонентах: в конфликте личности с судьбойв художественном изучении человеческой психологии на разных уровнях обобщения — типическом, архетипическом и особенно индивидуальномв многоуровневой и многозначной нарративной системев художественном пространстве разнообразной протяженности, векторов и значенийв диспропорциональном и ахропическом временив постоянно разрастающемся диалоге, создающем одну из ранних русских моделей полифонического романав игровых, театрализованных сюжетах, захватывающих всю персонажную систему и воспроизводящих древние смыслы трагедии рокав органичном синтезе социально-культурных мотивировок и моделей с высокой философской абстракцией, с максималистски-абсолютными критериями нравственных оценокв иронических контекстах. Такой состав поэтической структуры рождает онтологическое художественное знание о философской личности, живущей в конкретном мире.
7. Гоголевская художественная система, являясь результатом индивидуально-авторской рефлексии на жизнь, осуществляя эстетическую функцию, становится самодвижущейся, подчиняющейся обусловливающим и мотивирующим факторам собственного содержания, среди которых: I) религиозная приверженность автора- 2) ориентированность па фольклорные н библейские архетипы- 3) мотив души как центральный сюжетообразующий и персонификационный- 4) дуализм нарративной системы внутри каждой структурной единицы (автор, герой, чужое слово, маска).
8. Онтология художественной системы Гоголя создается конфликтом мира и антимира. Философская категория «призрачной», «неразумной» действительности трансформируется в эстетическое бытие абсурдной, «миражной», искаженной жизни. «Призрачность» в художественном мире Гоголя есть иррациональность материальной жизни, лишенной сущностного, т. е. духовного начала. Этот «призрачный», «миражный» мир, объективно отчужденный от духовной сущности, превращается в эстетическую модель, которую мы называем антимиром. Функция антимира — «отрицательный путь к идеальному» (Ап. Григорьев).
9. «Мертвые души» — эпическая поэма с двойным сюжетным содержанием: событийный сюжет повседневной жизни антимира, где осуществляется продажа человеческой души по копеечной стоимости, и духовный сюжет авторского сознания, нацеленный на дидактическую идею возрождения искаженной, потерянной души у людей, которым показали их самих как «страхи и ужасы России» и которые не могут не испугаться «собственной мерзости». Художественное единство эпопеи создается мотивом странствия души в ее национальной субстанции.
10. Художественная система Гоголя выстраивается в структурном единстве частных составляющих. Это гоголевские аптисюжеты, персонажи человекоподобные куклы и антигерои, поэтика карнавала, вся логика ненормальной нормы перевертышей, порождающая гротескные формы словесной модели, наконец, перевернутые жанровые каноны (антипоэма лирического и эпического варианта, антисказка). Истинные лики добра и зла проясняются в произведениях писателя, в частности, в глубинном пласте архетипических значений, например, архетип эпического сюжета потернпоиска жены-страны в «Шинели» или архетип сатаны в образе Чичикова и др. Несомненно, что функции архетипов, осознанных авторской художественной мыслью, назидательно нацелены на пробуждение совести и души в «человечестве» — «повернуть человечество к прекрасному» (Гоголь).
11. Эстетическим центром «Мертвых душ» является «Повесть о капитане Копейкине» — «завязка романа», обусловливающая все последующее сюжетное развитие (художественное нарушение реального хронотопа) по принципам антимира и интегрирующая поэтику архетипа — перевертышамаскарада — комического сказа. «Повесть.» подчеркивает иитегративпую систему четырехкратного умножения жанра «Мертвых душ»: повесть — романлирическая поэма — эпическая поэмаповесть — лирическая поэмароманэпическая поэма. Принцип коррелятивных отношений — внутреннее движение в коррелятивных парах от первого ко второму составляющему элементу.
12. «Евгений Онегин» — роман «положительного знания». «Герой нашего времени» — роман испытания, роман эксперимента. «Мертвые души» — роман «отрицательного знания». Эта эволюция открывает далее в русской литературе возможности глубочайшего исследования всех аспектов подобного мировосприятия.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и библиографического списка, содержащего более 500 наименований. Каждая глава, а также отдельные разделы глав завершаются выводами.
1. МЕТАФИЗИКА И ОНТОЛОГИЯ ПОВЕСТЕЙ (КОНФЛИКТ РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА).
2. Эпическое повествование о национальной душе постепенно образует содержательный хронотоп произведения, где вертикачь создается образом храма, а горизонталь — образом колеса.