Жанровая природа «Записок кавалерист-девицы» в контексте влияния господствующих литературно-эстетических традиций отечественной словесности и мемуарной правды голого факта
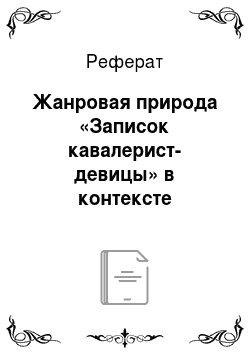
Именно первая глава дает нам пример синтеза элементов, принадлежащих к различным жанровым системам. Например, первая часть главы, в которой описывается период жизни до ухода Дуровой в армию, представляет собой попытку создания романтической автобиографической повести. Именно здесь мы сталкиваемся с наиболее откровенной установкой на романтическое моделирование, когда Дурова решительно исключает… Читать ещё >
Жанровая природа «Записок кавалерист-девицы» в контексте влияния господствующих литературно-эстетических традиций отечественной словесности и мемуарной правды голого факта (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Надежда Андреевна взялась за перо в очень позднем возрасте. Ко времени выхода в свет ее первого произведения — «Записок» — ей исполнилось уже 53 года. Литературный успех этого произведения привел к неожиданному результату, сыграв злую шутку с писательницей.
Еще в XIX в. произошло отождествление Дуровой-автора с героиней «Записок». Е. Некрасова, один из первых критиков творчества Дуровой, писала в 1890 г.: «В „Записках“ мало вымысла. Автор по преимуществу рассказывает то, что с ним было — это прекрасная автобиография, с указанием мест, имен, событий» [Некрасова, с. 601].
Основу «Записок» Дуровой составил дневник, который она вела во время военной службы. На протяжении девятнадцати лет, живя попеременно то в Петербурге и в Сарапуле, то на Украине и в Елабуге, Дурова имела все возможности исправлять и дополнять свое произведение.
К сожалению, из-за отсутствия черновиков ее произведений (сама писательница утверждает, что, отойдя от литературной деятельности, сожгла их, не видя в них необходимости), мы не имеем возможности сравнивать разные редакции одних и тех же текстов, проследить, как и в каком направлении шла над ними работа. Единственное, что можно установить с большей долей достоверности, это время окончания работы над «Записками». В письме к писателю Н. Р. Мамышеву, датированном 23 сентября 1835 г., читаем, что рукопись «Записок» была послана ему 4 апреля 1835 г.
Из этого следует, что крайним сроком написания «Записок» можно считать март этого же года.
Что же касается начала литературной работы над «Записками» вообще, то это «мариупольский» период ее военной службы (1808−1811), тем более, что об этом есть прямое упоминание в «Добавлениях к запискам» — главе «Литературные затеи», где она пишет о «чемодане, где лежало множество исписанных листов бумаги» [Дурова, 1839, с. 67].
Несомненно, что литературная доработка «Записок» происходила в 1816—1830 гг. Они тесно связаны с общей традицией развития русской военной мемуарной литературы первой трети XIX в., авторами которой были люди, профессионально владеющие пером.
В крупных мемуарных произведениях того времени, например в таких, как «Письма русского офицера» Ф. Глинки или «Походные записки русского офицера» И. Лажечникова, с необходимостью господствует принцип: предмет изображения диктует стиль и манеру повествования. В соответствии с этим принципом, если в поле зрения мемуариста попадает чувствительная тема, то вполне естественно выглядит обращение к сентименталистской традиции, если автор повествует о «высоком» предмете, то в записках начинает преобладать классицистическое начало, если предметом изображения становятся пороки общества, то на помощь авторумемуаристу приходят традиции русской просветительской сатиры XVIII в. В результате записки начинают представлять собой синтез различных стилевых традиций от классицизма до сентиментализма включительно. Этой «стилевой мозаике» во многом способствовал сам жанр военных офицерских записок, которые были ориентированы на описание реальных событий, участником или свидетелем которых был автор.
Так как перипетии военной жизни предлагали автору на осмысление самые различные факты действительности, подходящие под разряд и «величественных», и «чувствительных», и безобразносмешных, достойных презрения, то естественно, что мемуарист должен был не просто прекрасно владеть всеми известными к тому времени стилевыми манерами письма, но и уметь искусно синтезировать их, чтобы создать целостный текст, проникнутый пафосом героического служения Отечеству. Разумеется, речь идет только о записках, предназначенных их авторами для печати и рассчитанных на просвещенную читательскую аудиторию. По большому счету, подобный синтез был под силу только людям, профессионально занимающимся литературным творчеством.
Так, Ф. Глинка был поэтом, публицистом, издателем «Военного журнала», хорошим знакомым А. С. Пушкина, который в своем послании «Ф. Н. Глинке» назвал его «Аристидом» и «великодушным гражданином». И. Лажечников был известным историческим романистом XIX в., автором романов «Последний Новик» и «Ледяной дом». Оба участники Наполеоновских войн, они стали авторами записок, которые вошли в золотой фонд военной мемуаристики — «Письма русского офицера» (Ф. Глинка) и «Походные записки русского офицера» (И. Лажечников). В обоих произведениях явственно ощущается влияние на текст господствовавших в XVIII — начале XIX в. литературных направлений.
Так, первая книга «Писем…» Ф. Глинки «Описание похода противу французов в 1805 году в Австрии», напечатанная в 1808 г., выдержана строго в традициях сентиментального путешествия автора, облаченного в военный мундир. В соответствии с ролью чувствительного путешественника Глинка описывает приезд из Вены в Вельс императора Франца, встречающего по пути «знатного вельможу, удаляющегося от пышных чертогов своих», «скорбящую нежную мать, несущую на руках своих болящих чад» [Глинка Ф. Н., 1990, с. 30]', или ужасное поле сражения при Кремсе, покрытое тысячами мертвых тел, сам вид которых возмущает человеколюбивую душу автора «Писем». Чувствительный путешественник беспощадно критикует войну как действо, противное самой природе человека, проклинает ее бедствия и восхищается благами мира. Вполне в духе сснтименталистской этики Глинка чувствует себя не только русским, но представителем всего человечества, космополитом в лучшем смысле этого слова,.
'Здесь и далее «Письма…» Ф. Н. Глинки цитируются по изданию: Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1990. 448 с.
выступающим ходатаем перед Богом и сильными мира сего за бедствия, постигшие человечество в результате разрушительных политических и военных катастроф начала XIX в.
Напротив, во второй книге «Писем», воссоздающей события 1812 г., на смену сентименталистской эстетике приходят традиции классицизма. В силу этого изменяется не только авторское мировосприятие, но и слог произведения. Сам предмет изображения — священная Отечественная война — требовал высокого торжественного риторически-декламационного слога. Поэтому в этот период забытый, архаический уже для 80−90-х гг. XVIII в. «пиндарический» классицистический слог, реабилитированный в 1800-х гг. трагедиями В. Озерова, получает мощный импульс к развитию. Язык классицизма становится современным в том смысле, что «высокий штиль» мог наиболее адекватно выразить трагическую героику этой священной для русских войны, когда в жертву победе была принесена Москва.
Все «Письма…» Глинки 1812 г. представляют собой ряд патриотических деклараций, написанных самым высоким классицистическим слогом, начиная с первого письма, датированного 10 мая 1812 г., в котором автор размышляет о будущем столкновении сил Запада и Востока и выражает уверенность в том, что «русские не выдадут земли своей» (с. 55), до подведения итогов Отечественной войны 1 января 1813 г. в городе Гродно, самом западном форпосте Российской империи.
Находясь в русле классицистической поэтики, Глинка оперирует соответствующими понятиями и образами. Так, он называет Наполеона «извергом», «новым Навуходоносором», «Каталиной», «Батыем», французов — «злодеями», русских — «неустрашимыми россиянами» и «благородными защитниками Отечества», М. Барклая-де-Толли — «благородным вождем» (с. 56). Современная автору эпоха 1812 г. носит название «времен Минина и Пожарского», «покрывших Россию пеплом, кровью и славой» (с. 99). Самым распространенным чувством в дворянском обществе и в народе является чувство беспредельной любви к Отечеству,.
«чувство благородное, чувство освященное» (с. 63), и желание спасти его любой ценой.
Что касается остальных книг, входящих в «Письма…», то в них мы встречаем чередование трех ролевых масок образа автора, которым соответствуют три стиля повествования. Это, во-первых, образ-маска чувствительного путешественника, знакомого нам по «Письмам…» 1805 г., во-вторых, образ гражданина-патриота «Писем…» 1812 г., и наконец ролевая модель поведения сатирикабытописателя, высмеивающего пороки общества.
В последнем случае Глинка обращается к традиции галлофобии русской словесности XVIII столетия, начатой еще знаменитым журналом «Кошелек» Н. Новикова и являющейся реакцией на безудержную галломанию российского дворянства эпохи Просвещения.
Первые отрывки, выполненные в традициях просветительской сатиры, мы находим уже в «Письмах…» 1812 г. В них Ф. Глинка обличает галломанию московских бар, увозящих с собой из Москвы многочисленных французских гувернанток и учителей, и пеняет на чрезмерное распространение французского языка в русском обществе.
Однако сильнее всего сатирическая струя в творчестве Ф. Глинки проявляется в «Письмах…» из Франции 1814 г. Продолжая традиции Д. Фонвизина, выступавшего в своих «Письмах из Франции» с критикой государственного устройства королевской Франции, нравов высшего сословия и духовенства, философских заблуждений французских просветителей, проповедовавших атеизм и нравственный нигилизм, Ф. Глинка обрушивается с резкой критикой на нравы французского общества наполеоновской эпохи. Причем объектами критики в «прекрасной Франции» становятся буквально все стороны жизни французов, начиная от их нелюбви к порядку и легкомыслия и кончая страстью к разрушению, что доказал, по мнению автора, опыт французской революции. Мемуарист-сатирик сочувственно цитирует слова графа Фиена, назвавшего французов народом вертушек, и, развивая его мысль, восклицает: «Французы точные вертушки: для них кто не дует, им только б кружиться!.. Очаруй толпу французов посулами, забавь ее музыкою, балагурством и песнями: она пойдет за тобою хотя на край света и сделает все, что ты задумаешь» (с. 324). Этим свойством французского национального характера Ф. Глинка объясняет ту легкость, с которой управляли французами Марат, Робеспьер и Бонапарт.
Точно такую же стилевую неоднородность мы находим и в «Походных записках русского офицера» И. Лажечникова, в которых, как и в «Письмах…» Ф. Глинки, в зависимости от предмета разговора осуществляется выбор различных стилевых манер повествования.
Так, в духе классицизма, Лажечников пишет о своей клятве, произнесенной на Мячковском кургане под Тарутино, что «честь и Отечество будут везде моими спутниками», и выражает уверенность в окончательной победе над неприятелем [Лажечников, с. 13][1]. В классицистическом ключе идет описание подвигов «славных россиян», будь то подвиг священника Рождественского монастыря в Москве, отказавшегося во время французской оккупации города служить молебны за Наполеона и продолжавшего возносить молитвы за императора Александра, героическое поведение помещика-партизана А. Энгельгардта, расстрелянного в Смоленске по приговору французского военного суда, или, наконец, рассказ о героизме русской гвардии под Кульмом. В «высоком штиле» Лажечников повествует о смерти М. Кутузова, об исторических итогах Отечественной войны 1812 г., о пробуждении национального духа Германии при известии о победах русского оружия. Высокие классицистические речи он вкладывает в уста полководцев, вершащих мировую историю на полях сражений, например, в уста П. Витгенштейна, призывавшего немцев сбросить иго наполеоновской Франции, «пристать к братскому союзу, поднимающему оружие на защиту прав народных» (с. 88), или А. Ермолова, обращавшегося к своим солдатам в разгар Кульмского сражения.
Что касается сентименталистской струи в «Походных записках…», то именно в этом стилевом ключе дается описание прощания автора с родным домом на пути в армию, рассказ о чувствах мемуариста при виде того бедственного положения, в котором находятся французские пленники в городе Рославле, выражается восторг человеколюбивым поступком одного русского купца, приютившего в своем доме злополучных страдальцев. Ориентируясь на эту же литературно-эстетическую традицию, он делает разбор «Певца во стане русских воинов» В. Жуковского, рассуждая о таинственном чувстве любви к Отечеству, о дружбе воинов на поле брани, священном чувстве товарищества, заставившего некоего конногвардейского вахмистра великодушно приютить автора записок 1 января 1813 г. в местечке Мерич, отворив ему «двери своего сердца и бедной своей хижины» (с. 60). Так же, как и Ф. Глинка, Лажечников примеряет на себя ролевую маску чувствительного путешественника, «беспечного питомца любви и природы, верного друга полей и рощей, постоянного жителя родной хижины» (с. 92) и стремится согласовать свои поступки и чувства в соответствии с этим образом.
Но, вместе с тем, Лажечников еще и просветитель: он не только восхищается величием души россов и сочувствует несчастным, он разоблачает порок, прославляет добродетель. Например, 15 февраля в Калише, наблюдая за стычкой щеголя-поляка, «тысячью духами распрысканного», в конфедератке с серебряными кистями и узорами, с русским офицером, служащим в милиции, «в порыжелом от бивуачного дыма сюртуке», стычкой, из которой молодцом выходит скромный русский офицер, Лажечников вкладывает в уста победителя следующую моралистическую сентенцию: «Знайте, господин щеголь, что наружность часто обманчива: не все золото, что блестит; не все то достойно презрения, что носит на себе печать бедности» (с. 74). Рассказывая о своем приятном путешествии по Германии вместе с другом Коленом в «покойной коляске, на четырех быстрых конях, покоясь на хороших постелях, сидя за блюдом форелей или фазана» (с. 91), он спрашивает у себя: «…не охает ли какая-нибудь тысяча душ от роскошного нашего путешествия?» И успокаивается только после того, как может утвердительно сказать себе: «Слава Богу! Удовольствия наши не покупаются ценой кровавого пота подобных нам» (с. 91).
В целом, говоря о стилевой разнородности мемуарных источников второго десятилетия XIX в., необходимо отметить, что именно в них впервые в русской прозе наметилась тенденция к стиранию четких границ между эстетическими канонами различных литературных направлений. Выступая в контексте материала, несущего в себе противоположный эстетический заряд, классицистический или сентименталистский отрывок или отрывок, выполненный в традициях просветительской сатиры, невольно вступал с ним в контакт, и осуществлялся органический синтез, обеспеченный единством личностного биографического начала авторамемуариста, несмотря на множество его стилевых лиц-масок.
В случае с Ф. Глинкой этим реальным биографическим лицом является «бедный поручик», у которого «все свидетельства и все аттестаты остались в руках неприятеля… и на нем ничего более не было, кроме синей куртки, сделанной из бывшего синего фрака, у которой от кочевой жизни при полевых огнях полы обгорели» [Глинка Ф. Н., 1990, с. 84]. У И. Лажечникова это юный новобранец-доброволец, который уезжает на «поле славы и чести» 20 сентября из села Кривякино на тройке лошадей, приведенных с берегов Дона, вместе с поселянами села Хатунь празднует изгнание врагов из Москвы, предается возвышенным мечтам в Зеленой Корчме под Вильно, размышляя о славе Отечества и добродетелях его граждан, встречает новый год на жесточайшем морозе среди улиц бедного местечка Мсрич, гуляет по дорожкам прекрасного бульвара, усыпанного желтым песком в городе Калиш, едет вместе с мекленбургским принцем Карлом на прием к принцессе бранденбургской Елизавете и т. д.
Для первой четверти XIX в. процесс стирания четких границ между различными литературно-эстетическими направлениями за счет их одновременного функционирования в границах одного текста, представляющего собой жанрово однородное целое, объединенное образом биографического авгора-мемуарисга, имел, безусловно, большое значение, так как способствовал созданию предпосылок для появления единого нормативного литературного языка русской прозы.
С 20-х гг. XIX в. на стиль мемуарных произведений начинает оказывать влияние эстетическая система романтизма, что приводит к интересному результату. На смену «ролевому» поведению автора, зависящему от объекта повествования в тексте, приходит традиция моделирования образа автора, который уже не зависит напрямую от предмета изображения и не связан эстетическими нормами литературных направлений XIX в. Более того, начиная с этого времени автор получает право на соответствующее моделирование окружающей его действительности с точки зрения авторских представлений о ней. Вместо господства стилевых и жанровых канонов XVIII в. приходит господство авторского «я», творящего свой собственный образ и образ окружающей его действительности по своему усмотрению. Это было время появления многочисленных «литературных мифов», выполненных в романтическом ключе, в создании которых принимали участие не только сами писатели, но и их ближайшее окружение — друзья, родственники, восторженные почитатели. Образ личности автора начинает строиться не только в литературе, но и в жизни. Совершенно права была Л. Я. Гинзбург, когда писала, что романтики «занимались „моделированием“ своего исторического характера в самой крайней форме, в форме романтического жизнетворчества», которое «коренилось в романтической философии искусства и стало возможным благодаря расчленению самой жизни на жизнь эмпирическую и идеальную» [Гинзбург, с. 23−24].
Ярче всего реализацию процесса романтического моделирования личности можно видеть на примере жизни и творчества поэтов эпохи романтизма. Достаточно вспомнить литературное мифотворчество вокруг личности Д. Веневитинова, образ которого стал своеобразным символом истинного поэта-романтика. Однако романтическое моделирование дает себя знать и в мемуарных произведениях этой эпохи, осуществляясь на уровне сюжетнокомпозиционного построения мемуаров и на уровне авторской самохарактеристики и характеристики других персонажей записок, оно определяет пути создания романтической образности, диктует выбор лексики, отражается в информационно-синтаксическом построении фраз.
В качестве примера романтического моделирования целостного образа автора и окружающей его действительности можно рассмотреть «Записки» поэта-партизана Д. Давыдова. Это произведение несет на себе неизгладимый отпечаток эпохи, его породившей, эпохи романтизма.
Моделирование начинается с эпиграфа произведения, в качестве которого Давыдов берет слова Вольтера: «Ма vie est combat…» («Моя жизнь — сражение»), В соответствии с этой сверхзадачей — показать свою жизнь как сражение — Давыдов строит сюжетно-композиционную структуру своих мемуаров. Они начинаются встречей с великим Суворовым, благословившим его выиграть три сражения, и кончаются победоносными кампаниями 1812−1814 гг., в историю которых он, по его собственным словам, навсегда «врубил» свое имя. Записки построены таким образом, что в них освещаются самые выигрышные, самые поэтические страницы его биографии. А именно Наполеоновскими войнами ограничивается для него период службы, одухотворенной «честолюбием изящным, поэтическим». После этого начинается период службы «прозаической» при А. Аракчееве, при Николае I, болезни, старость, обида на власть имущих из-за своей не совсем удавшейся карьеры — словом, все то, что не входит в модель романтического поведения, а следовательно, и не включается автором в состав «Записок».
Романтическое моделирование личности автора в «Записках» — это прежде всего попытка перенести лирического героя своей «гусарской лирики» в военно-мемуарную прозу, осознание себя «самой поэтической фигурой русской армии». В соответствии с этим принципом выдерживается самохарактеристика героя мемуарно-автобиографической прозы.
Вот он «пылкий и смелый ребенок», при встрече с А. Суворовым восхищающий великого полководца своим «удалым» ответом:
«Я люблю графа Суворова; в нем все — и солдаты, и победа, и слава» [Давыдов, с. ЗЗ][2]. Вот он молодой офицер лейб-гвардии гусарского полка в Петербурге 1806 г., всеми правдами и неправдами стремящийся попасть в действующую армию и страдающей от того, что ни разу еще не принял участия в настоящем сражении. После того как фельдмаршал М. Каменский, главнокомандующий русской армией, обещал похлопотать за него перед императором, Давыдов пишет: «Сердце мое обливалось радостью, чад бродил в голове моей» (с. 43). Однако получив отказ на свою просьбу, он взглянул на процессию избранных (то есть отправляющихся на войну) и «улыбнулся, как никогда сатана не улыбался» (с. 43). Когда же наконец бесконечные просьбы и мольбы увенчались успехом, и он был назначен адъютантом к П. Багратиону, настроение будущего поэта-партизана резко меняется: «Не кровь, но огонь пробегал по всем моим жилам, и голова была вверх дном» (с. 45).
Вот он адъютант П. Багратиона в сражении при ПрейсишЭйлау, «кипящий жизнью, следственно, и любовью к случайностям» (с. 36). С этим настроением он перебранивается с французским офицером старой гвардии чуть не гомеровскими гекзаметрами в «упоительном чаду первых опасностей… гордо взглянув на себя, окуренного уже боевым порохом» (с. 53), и атакует французских фланкеров вместе с казачьей лавой: «Я помню, что и моя сабля поела живого мяса: благородный пар крови струился по ее лезвию» (с. 55).
Вот он штаб-ротмистр лейб-гвардии гусарского полка с двумя крестами на красном ментике, горящем в золоте, возвращается после заключения мира в Москву. «Я утопал в наслаждениях, — вспоминает Давыдов об этом периоде своей жизни, — и, как в эти лета водится, влюблен был до безумия» (с. 108).
Вот он, наконец, партизанский начальник 1812 г. в черном чекмене, в красных шароварах, с круглой курчавою бородой, с черкесской шашкой на бедре, как корсар, крейсирует по тылам французской армии, в то время «как все улыбалось моему воображению, всегда быстро летящему навстречу всему соблазнительному для моего сердца» (с. 172).
Из множества военных эпизодов 1812 г. Д. Давыдов прежде всего выбирает для подробного описания те, которые помогают ему показать себя с поэтически-романтической точки зрения, будь то рассказ о спасении французского барабанщика Венцана Босса, «божий суд» над предателем помещиком Масленниковым, романическая история с кольцом, локоном и письмами поручика Тилинга или «гомерическое наказание» изменивших России гродненских поляков, когда, по словам его партизанских соратников, «безобразие мое достигло до красоты идеальности» (с. 243).
Романтическое моделирование дает себя знать и при характеристике других героев записок, абсолютное большинство которых представляет собой образцы «идеальных воинов», поэтических, романтически-возвышенных натур, будь то А. Суворов, Наполеон, П. Багратион или товарищи Давыдова по партизанскому отряду.
Так, А. Суворов — «изумительный человек» с «орлиным взглядом», который «шагнул исполинским шагом на пространство широкое, разгульное, им одним угаданное, и которое до сей поры никто не посещал после него, кроме Наполеона» (с. 25). Наполеон — «чудесный человек, этот невиданный и неслыханный полководец со времен Александра Великого и Юлия Кесаря» (с. 95), «пылавший лучами ослепительного ореола дивной, почти баснословной жизни» (с. 94). Подобные возвышенно-романтические характеристики получают и его боевые сподвижники по партизанскому отряду 1812 г. Например, о штабс-ротмистре Ахтырского гусарского полка Н. Бсдряге Давыдов пишет: «красивой наружности, блистательной храбрости, верный товарищ на биваках, в битвах — впереди всех, горит, как свечка» (с. 171).
Наконец, романтическое моделирование дает себя знать при характеристике окружающей автора действительности, быта и бытия эпохи. Чего стоит рассказ о партизанской жизни, овеянный духом романтической героики: «Кочевье на соломе под крышею неба! Вседневная встреча со смертью! Неугомонная, залетная жизнь партизанская! Вспоминаю о вас с любовью и тогда, как покой и безмятежно нежат меня, беспечного, в кругу милого моего семейства! Я счастлив. Но отчего тоскую и теперь о времени, когда голова кипела отважными замыслами и грудь, полная обширнейших надежд, трепетала честолюбием изящным, поэтическим!» (с. 216).
Второй важной проблемой, связанной с развитием мемуарного жанра в первой половине XIX в., является проблема влияния достижений мемуарной прозы этого периода на развитие русской художественной литературы этого времени. Эта проблема была неразрывно связана с функционированием в мемуарной литературе тех лет фактографического материала, описание которого дастся в стилевой манере, далекой от эстетических канонов господствовавших тогда литературных направлений.
Именно после Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии впервые появилась возможность ввести в культурный обиход эпохи по крайней мере десяток первоклассных мемуарных источников, в которых произошло открытие для читающей аудитории ценности конкретного фактографического материала. Начиная с эпохи 1812 г. военные записки впервые становятся предметом публикации, оказываются доступными для широкого круга читателей, а, следовательно, становятся объектом литературно-эстетической критики. В этих условиях они были просто обязаны определить свое новое место в литературном процессе эпохи.
А. В. Архипова справедливо связывала появление интереса публики к конкретному (реально бывшему, а не вымышленному) факту действительности с исключительной популярностью в 1812—1815 гг. всевозможных исторических анекдотов и рассказов о событиях войны с наполеоновской Францией, которые печатались в патриотически настроенных журналах того времени. Она пишет: «Именно этот анекдот, содержащий конкретный факт, с его установкой на подлинность и неповторимость, оказался способным взорвать сложившиеся каноны с их нормативностью и стереотипностью и привлечь внимание к конкретному индивидуальному образу или событию, а через это конкретное и неповторимое увидеть общее и характерное» [Архипова, с. 43]. И. Подольская в «Заметках о русских мемуарах 1800−1825 годов» называла это свойство мемуаров намеренным натурализмом деталей, родившимся в противовес устоявшимся канонам в изображении войны. Этот натурализм деталей был направлен против предельной обобщенности, использования стереотипных образов, сравнений — всей нормативности сентименталисгской прозы с ее архаизированной лексикой, обилием риторических фигур, перифразов [Подольская, с. 10].
Однако мало констатировать открытие ценности фактографического материала как основного достижения военной мемуарной прозы 10-х гг. XIX в. Гораздо важнее проанализировать основные виды функционирования факта в структуре военных записок этого периода. На наш взгляд, в тексте военных записок мы встречаемся с тремя основными видами функционирования факта.
Во-первых, конкретный факт действительности, свидетелем или участником которого был автор, мог облекаться в «стилевые одежды» того или иного литературно-эстетического направления. Например, он мог драпироваться в условно-высокопарные одежды классицизма, если речь шла об образцах героического поведения храбрых россов. В этом случае описание фактов шло в характерной для классицизма языковой манере, с использованием высокой лексики, особых синтаксических средств построения предложений (любовь к инверсии, к периодам, осложнение простых предложений обращениями, однородными членами, обособленными второстепенными членами). В результате создавался характерный возвышенно-патетический «украшенный» классицистический слог. Напротив, в том случае, когда вниманию читателей предлагалась «чувствительная сцена», описание ее производилось по законам, предписанным сентименталистской эстетикой, с ее любовью к перифрастической, метафорической манере письма. Примеры подобных литературно обработанных фактов можно с избытком найти в первых мемуарных произведениях послевоенных лет (у Ф. Глинки, И. Лажечникова, А. Раевского), авторы которых далеко не сразу отказались от практики изложения принципиально нового литературного материала в традиционных эстетических формах классицизма или сентиментализма.
Второй вид функционирования мемуарного факта в тексте составляют случаи, когда данный факт оказывается свободен от какой-либо специальной литературной обработки, так как его содержание составляло описание ужасов войны. Применительно к событиям 1812 г. подобный факт получал права гражданства в записках, как правило, в том случае, когда речь шла о том бедственном положении, в котором оказались французы во время отступления наполеоновской армии из России. Вот, например, отрывок из записей И. Лажечникова от 10 ноября, представляющий собой зарисовку с натуры, в котором повествуется о бедствиях французов, взятых в плен под Красным, в городе Рославле: «Гляжу вокруг себя со страхом и вижу людей в самых мучительных положениях. Один в женской изодранной одежде, ползает на коленях и локтях… третий грызет лошадиную ногу; четвертый с обезображенным лицом вылезает из-под развалин. Пятый от слабости присел у порога хижины: снег клоками падает на обнаженную грудь его; все члены его трепещут от конвульсий; видно, что он борется еще со смертью» (с. 34−35). Однако этот натуралистический (с точки зрения литературной традиции эпохи) материал находится в окружении материала, литературно переосмысленного, и в соответствии с этим приобретает дополнительные эстетические функции. Так, описание бедствий французов в Рославле нужно Лажечникову для того, чтобы, во-первых, подчеркнуть сострадательное человеколюбие хозяина квартиры мемуариста, «русского купца, гостеприимного и любезного», который, «повинуясь природному чувству сострадания и помня, что враг перестает быть таковым, когда обезоружен и слаб, делал добро всякому, кто только требовал его помощи» (с. 33), а во-вторых, показать, что наказание, постигшее французов, вполне естественно для «изображения человека, истощившего милости творца и наконец всем гневом его постигнутого» (с. 34).
Третий вид функционирования факта в тексте мемуаров характеризуется тем, что фактографический материал представляет собой своеобразную эстетическую и этическую концепцию автора, который тем самым полемизирует с устоявшимися в художественной литературе традициями изображения войны. Эта «правда голого факта» была направлена против предельной обобщенности, использования стереотипных образов, сравнений — словом, всей нормативности сентименталистской прозы с ее обилием риторических фигур и перифразов.
В качестве примера записок, в которых факт функционирует именно в этом плане, могут быть рассмотрены «Записки» Н. Муравьёва, который начал их писать на основе ранних дневниковых записей в 1818 г. Трудно себе представить, что европейски образованный, обладающий бесспорным литературным талантом офицер, страстный поклонник Ж.-Ж. Руссо, в чем он откровенно признается в своих «Записках», не мог бы при желании создать мемуарное произведение с условным сентиментальным героем и обилием чувствительных эпизодов, как это делали его молодые современники-литераторы вроде Ф. Глинки или И. Лажечникова.
Тем не менее, Н. Муравьёв отказывается от условного литературного героя, героя-маски, заменив его полностью автобиографическим образом мемуариста — юного офицера гвардейского Семёновского полка. В его «Записках» полностью исчезает деление действительности на ту, что достойна быть запечатленной на бумаге, и «низкий быт», который обычно прятали от посторонних глаз. Напротив, Муравьёв, не стыдясь, передает самые прозаические факты жизни. Вот братья Муравьёвы — Николай, Александр, Михаил — при отступлении русской армии к Москве в «прожженных толстых шинелях и худых сапогах» «обносились платьем и обувью и не имели достаточно денег, чтобы заново обшиться», так что у них завелись вши [Муравьёв Н. Н., с. 94]. У самого автора «открылась цинготная болезнь, но не на деснах, а на ногах» [Там же]. Определенная тенденция к дегероизации заметна и в изображении других героев его «Записок». Так, «вихорь-атаман», по определению В. Жуковского, М. Платов у Н. Муравьёва оказывается пьяным в день Бородинского сражения. Характеризуя командира Харьковского драгунского полка Д. Юзефовича, Муравьёв пишет: «Юзефович был человек умный и образованный, но говорили, что он любил пограбить» [Муравьёв Н. Н., с. 138].
Муравьёв сознательно отказывается от моралистического комментирования событий, когда каждый эпизод с необходимостью получал либо негативную, либо позитивную оценку с точки зрения этики господствующих литературно-эстетических направлений. Он избегает облекать конкретные факты действительности «стилевой одеждой» этих направлений, так называемым «литературным орнаментом» с обязательной в этих случаях высокопарной риторикой и страстью к перифрастической манере выражаться. В лапидарных, «неукрашенных» строках мемуарного текста Муравьёва отчетливо проявляется зарождение новой повествовательной манеры русской прозы — реалистической, которая отсутствовала еще к этому времени в художественной прозе эпохи (речь идет, разумеется, о магистральном направлении развития русского реализма XIX в., а не об описательном натурализме произведений М. Чулкова и В. Нарежного). Новая стилевая манера предполагала отказ от прямых авторских деклараций или обширных риторически-возвышенных монологов героев и реализовывала себя через систему образов, композицию текста, искусство деталей, была связана с проблемой литературного подтекста.
Таким образом, говоря о развитии военной мемуарной прозы в первой трети XIX в., нельзя не учитывать того факта, что уже к концу 10-х гг. XIX в. русской литературе начинают складываться предпосылки для создания принципиально новой литературной манеры письма, свободной от нормативности и каноничности предшествующих литературных традиций.
Признание эстетической ценности информационного материала, переданного языком реалистической прозы, способствовало формированию так называемого «свободного» мемуарного стиля повествования, в котором органически сочетались элементы, принадлежащие к различным литературно-эстетическим системам. «Высокий стиль», безусловно, доминирует в тех случаях, когда автор повествует о внешнесобытийных по отношению к нему предметах действительности, для изображения которых сложилась определенная литературная традиция, будь то повествование о наиболее значительных событиях кампании, характеристика известных военачальников, рассказ об образцах героизма и храбрости, проявляемых русскими воинами на поле боя. В том же случае, когда речь идет о личном опыте автора (его поведение на поле чести, взаимоотношения с солдатами, находящимися под его непосредственным командованием, и т. д.), то повествование ведется в реалистической манере при полном отсутствии каких-либо литературных условностей и с широким введением в текст мемуарного произведения всвозможных «бытовизмов» и «прозаизмов».
Для примера можно рассмотреть «Рассказ артиллериста о деле Бородинском» Н. Любенкова. С одной стороны, в «Рассказе…» господствует традиция «высокого стиля» при описании указанных нами выше сфер действительности. Например, именно так характеризует Любенков политическую ситуацию в России и в Европе накануне Отечественной войны, дает описание ее начала, размышляет на Бородинском поле об исходе сражения, которое должно было решить судьбу России. В этой же «высокой» стилевой манере дается общая панорама Бородинского сражения и произносится реквием воинам, павшим на поле битвы. С другой стороны, всякий раз, когда предмет изображения выходит из-под контроля условно смоделированных «литературных ситуаций», мемуарист оказывается вынужденным искать новые краски и образы для передачи своих личных впечатлений от происходящего.
Например, когда на батарее Любенкова убивают молодого бомбардира Кулькова, свидетелем чего был автор, описание смерти солдата и его погребения дано в жизненно-реалистической манере с оттенками натурализма: «Ядро снесло ему голову, мозг и кровь брызнули на нас, и он тихо повалился на орудие со стиснутым в руках банником. Солдаты любили, уважали его храбрость и добрые начала.
- — Позвольте его похоронить, ваше благородие.
- — Не успеете, братцы, теперь, — сказал я им, — а успеете, делайте, что знаете, мне теперь некогда.
Они бросились, оттащили обезглавленное тело, вырыли тесаками столько земли, сколько нужно, чтоб покрыть человека… Все бросили на полузакрытого товарища по последней горсти земли, солдаты перекрестились. Бог с тобой, Царство Небесное, сказали они и бросились к пушкам, неприятель снова атаковал нас" [Любенков, с. 328].
В этой сцене, далекой от парадной батальности в изображении жизни и смерти, уже можно увидеть предпосылки появления военной прозы Л. Толстого с его демонстративным отказом от показа войны в «правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами» [Толстой Л. Н., с. 21].
Свободный мемуарный стиль в том виде, в каком он сложился к 30-м гг. XIX в., позволял сводить на одной странице текста декларативную риторику «высокого» стиля при описании военных подвигов сынов Отечества, с одной стороны, а с другой стороны — элементы «низкого» стиля, бытовизмы и прозаизмы при описании воинского быта «детей Марса». Причем эти бытовизмы, выступая в контексте высоких деклараций патриотического служения Отечеству на поле чести, подвергались эстетическому переосмыслению и поэтизировались. В свою очередь, «высокий» стиль уже не представлял в этих условиях монолитного, самоценного и самодостаточного пласта, как это было в мемуарных произведениях 10-х гг. XIX в. Попадая в окружение «низкой прозы», он приобретал достаточно иронический оттенок, начинал выполнять функции своеобразной литературной игры.
Интересно посмотреть с этой точки зрения на оригинальный стиль «Рассказов…» М. Петрова, представляющий собой счастливое сочетание элементов «высокой» и «низкой» манер повествования. В результате создается неповторимый, живой, поэтичный и в меру ироничный язык мемуарной прозы. Так, в двенадцатой главе «Рассказов…» история испытания «благотворного кувшина» малороссийской варенухи на простывшем полковнике Карпенкове юо следует сразу же за трогательным описанием похорон прапорщика Россинского-Кабека, погибшего во время сражения при деревне Винькове. Если в первом случае повествование ведется в жизненно-реалистической манере с использованием простонародной лексики, то во втором случае на первый план выходит литературная традиция, предписывающая изображать смерть защитников Отечества в соответствующей случаю «высокой» стилевой манере.
Однако между двумя этими стилевыми манерами повествования нет непроходимой границы, какая существовала, к примеру, в мемуарной прозе 10-х гг. XIX в. Дело здесь не только во всеобъемлющей авторской иронии, благодаря которой совершается естественный переход от кувшина с варенухой к погребальной молитве: «Слава-благодарение Богу вышнему и чудотворному его кувшину, оживившим храброго, драгоценного Отечеству аванпостного полковника-героя. Но мы невесело распили тогда этот нектар наш, ибо не было в кругу нашем того, который доставил нам оказию к этому каждовечернему наслаждению» [Петров, с. 199]. Можно сказать, что сама эта ирония стала возможна только после стирания непроходимых границ между различными стилевыми манерами повествования, в результате чего отпала необходимость в существовании ролевых масок автора-повествователя, которые он примерял на себя в зависимости от предмета повествования. Уже к 30-м гг. XIX в. выбор стилевой манеры повествования всецело зависел от воли и желания мемуариста, который по своему усмотрению и не теряя авторски-индивидуального лица мог соединять на страницах текста совершенно противоположные по смыслу и содержанию эпизоды, выполненные как в «высокой», так и в «низкой» языковой манере.
При этом принципиально важно, что «низкий» стиль уже воспринимался автором как самоценный и автономный по отношению к остальному тексту языковой пласт. Он входит на равных в структуру текста мемуарного произведения, оказывая влияние на общую проблематику записок, их фабулу и сюжет, подсказывая способы лучшего раскрытия образов героев. Этот процесс по времени своего протекания совпадает с началом господства в русской литературе нового реалистического метода изображения действительности. Но если в художественной литературе реализм конца 30-х — начала 40-х гг. XIX в. проходил через стадию натуральной школы, которая являлась естественной и закономерной реакцией на крайности романтического метода изображения действительности, то в мемуарной прозе такой четкой дифференциации между различными методами и направлениями никогда не было. Это объясняется, во-первых, самой спецификой мемуарного жанра, ориентированного на изображение реальной действительности, а во-вторых, тем фактом, что мемуарные произведения в гораздо большей степени были свободны от нормативных канонов, предписанных жанрам художественной литературы. Эта нормативность художественной литературы не могла не затруднить появление новых форм и методов отражения действительности. В таких условиях введение нового с необходимостью означало полный революционный разрыв со старым. В мемуарной литературе процесс смены литературно-эстетических направлений проходил куда более естественно и органично за счет активизации моделирующего авторского сознания, создающего картину действительности в соответствии не только со сложившимися традициями, но и с авторскими представлениями о ней.
Учитывая основные тенденции развития русской военной мемуарной прозы, можно по-новому взглянуть на жанрово-стилевую природу «Записок» Н. А. Дуровой, которые представляют собой одно из самых сложных в жанровом отношении произведений первой трети XIX в. Спор об их жанровой природе активно шел в XX в. При этом основной вопрос, который не могли решить исследователи, касался, по сути дела, допустимых пределов проявления личностного начала в мемуарном тексте, когда автор в угоду личностной концептуальности начинает в значительной степени искажать реальные факты действительности.
При этом нужно сразу условиться, что мы берем за непреложную истину тот факт, что «Записки» являются произведением, безусловно, полностью и целиком принадлежащим Н. А. Дуровой.
Пушкин же, будучи издателем отрывка «1812 год», ничего в нем не изменял.
Совершенно не прав был А. Тартаковский, когда писал в монографии «1812 год и русская мемуаристика», что А. С. Пушкин «с согласия Дуровой подверг записки тщательному редактированию: значительные куски устранил вовсе, велеречиво-сентиментальные заменил сжатыми характеристиками, точно передающими ход и сущность событий; в целом освободил записки от литературно-беллетристической окраски, но зато бережно сохранил все дышащие неподдельностью реалистические описания и подробности военно-бытовой обстановки», то есть привел «Записки» Дуровой к мемуарному типу [Тартаковский, 1980, с. 45].
Если все было действительно так, как это описывает А. Тартаковский, то значит, предположение В. Г. Белинского, считавшего «1812 год» пушкинской мистификацией, было вполне обоснованным. Но тут можно привести, по крайней мере, два существенных возражения. Без согласия Дуровой Пушкин никогда бы не стал ничего менять в тексте «Записок», да в этом и не было необходимости, судя по высокой оценке им дуровского текста.
Нигде в переписке Пушкина и Дуровой нет ни одного намека на то, что Пушкин каким-либо образом редактировал ее «Записки» и, тем более, правил отрывок «1812 год».
Более того, при выходе в свет первой части «Записок» Пушкин, объявивший об этом в «Современнике», настойчиво подчеркивал их оригинальность. Он писал: «Читатели… оценили, без сомнения, прелесть этого искреннего и небрежного рассказа, столь далекого от авторских притязаний, и простоту, с которой пылкая героиня описывает самые необыкновенные происшествия» [Пушкин, т. 7, с. 333].
Во-вторых, мы знаем, что отрывок «1812 год», напечатанный в «Современнике», вошел без изменения в декабрьское издание «Записок». Отсюда, если верить А. Тартаковскому, следует, что мы до сих пор читаем вместо главы «1812 год» пушкинскую стилизацию. Тогда возникает законный вопрос, а могла ли Дурова написать остальную часть (или, скорее, переделать уже существующие.
«Записки») так хорошо, чтобы они ничем не отличались от «пушкинского» отрывка, так как стиль «отрывка» полностью совпадает со стилем остальных «Записок».
Единственное, что мог сделать Пушкин, это посоветовать Дуровой убрать из текста некоторые эпизоды, не относящиеся непосредственно к событиям 1812 г. Например, «Рассказ татарина», в котором передается романтическая история любви Зухры и Хамитуллы. В целом же, если Пушкин и смотрел первоначально на «Записки» как на произведение, имеющее лишь документальнопознавательный интерес, то лишь до марта 1836 г., когда в письме к брату писательницы В. А. Дурову написал об их «прелестном слоге».
Традиция рассматривать «Записки» только как военные мемуары сохранялась до конца XX в. Основа для этого была заложена еще в 1912 г., когда к 100-летию Отечественной войны 1812 г. произошло первое за 72 года их переиздание именно как мемуаров участницы войны 1812 г. Эта традиция существует до сих пор, правда, с небольшими оговорками.
Даже Н. Изергина — автор единственной в XX в. статьи, посвященной всему творчеству Дуровой, ставит их в один ряд с «Опытом теории партизанских действий» Д. Давыдова и «Записками 1812 года» С. Н. Глинки, оговариваясь, однако, что «Записки» Дуровой менее публицистичны, менее суровы в описании, чем военные записки других писателей: «Дуровой в большей степени свойственен личностный подход к материалу, поэтизация, романтизация отдельных событий» [Изергина, с. 30].
Между тем, еще А. Сакс отмечал, что «Записки» Дуровой «полулегендарны»: «Как это ни странно, — писал исследователь, — но и сама Дурова нередко пускается в область фантазии, предпочитая вымысел правдивому изложению событий» [Сакс, с. 5]. И далее: «В своих „Записках“ Дурова, касаясь периода детства и времени, предшествующего ее поступлению на службу, часто мешает истину и вымысел» [Там же]. Это очень точное замечание, но с одним уточнением — это смешение не случайность, но сознательная установка автора.
Существует и другая крайность. Так, В. Муравьёв пишет: «Записки» не мемуары, но литературно-художественное произведение, в котором главное не цепь событий, но образ автора" [Муравьёв В., с. 19].
Попытка примирить эти две противоположные точки зрения была предпринята М. А. Турьян, которая писала в биографическом словаре «Русские писатели. 1800−1917»: «„Записки“ Дуровой и в историческом, и в литературном отношении представляют собой значительное явление; им принадлежит заметное место в развитии русской мемуаристики 1-й половины 19 века. Вместе с тем, „Запискам“ Дуровой не свойственна установка на строгую фактическую точность — как историческую, так и биографическую (запутаны даты, неточно изложены некоторые военные события, скрыто замужество, существование сына). Повествование подчинено общей автоконцепции Дуровой: она стремится создать романтический образ „русской амазонки“, решительно эмансипировавшейся от социальных запретов, тяготеющих над женщиной 19 века, и претендующей на равенство с воином-мужчиной или даже превосходство над ним в духовной силе, инициативности и воинском искусстве» [Турьян, с. 197].
Очевидно, что, отвечая на вопрос, что же на самом деле представляют собой «Записки» Дуровой, нужно прежде всего разобраться, что же мы будем называть мемуарами, в отличие от «не-мемуаров».
А. Тартаковский, сделавший очень много для разработки теории военной мемуаристики, давал следующее определение мемуаров: «Повествование о прошлом, основанное на личном опыте и собственной памяти автора», цель которого — «запечатлеть для современников и потомков опыт своего участия в историческом бытии, осмысление себя и своего места в нем» [Тартаковский, 1980, с. 22]. По Тартаковскому, сочетание подлинно действительных событий с творческим вымыслом недопустимо для мемуарного текста. Если посмотреть с этой точки зрения на «Записки» Дуровой, то нетрудно заметить, что указанные условия в целом невыполнимы для «Записок» в силу их структурной неоднородности и влияния на них традиции романтического моделирования действительности.
«Записки» Дуровой состоят из двух глав. Первая глава охватывает временной промежуток от 1782 г. (года свадьбы родителей мемуаристки) до войны 1812 г. Вторая глава посвящена описанию событий пяти лет, начиная с Отечественной войны до 1817 г. — года выхода Дуровой в отставку. В свою очередь, первая глава логически делится на два хронологических периода:
- 1. События, предшествующие уходу Дуровой в армию (1782−1806) с подзаголовком «Детские лета мои».
- 2. Годы службы в Коннопольским уланском и Мариупольском гусарском полках.
Именно первая глава дает нам пример синтеза элементов, принадлежащих к различным жанровым системам. Например, первая часть главы, в которой описывается период жизни до ухода Дуровой в армию, представляет собой попытку создания романтической автобиографической повести. Именно здесь мы сталкиваемся с наиболее откровенной установкой на романтическое моделирование, когда Дурова решительно исключает из «Записок» все, что не укладывается в нужную для нее схему действительности. Во-первых, она изменяет свой возраст. В реальной жизни она ушла в армию в возрасте 23 лет, в «Записках» — в 16 лет — обычный возраст романтических героинь, вступающих в жизнь. Во-вторых, в соответствии с существующим романтическим каноном, она убирает из «Записок» историю своего неудачного замужества и рождения сына, так как эти факты являются скорее счастливым финалом обычной женской судьбы, но никак не началом жизнеописания «российской амазонки». Следуя реальным фактам своей биографии, Дурова, безусловно, скомпрометировала бы себя, дав лишний повод сплетням и пересудам, с которыми ей и так приходилось много бороться в своей жизни. Прав был Я. С. Рыкачев, когда писал: «Дурова прожила две жизни: подлинную земную и романтическую жизнь, воображаемую… Она создала не записки, не дневник, а романтическую повесть» [Рыкачёв, с. 53]. Только нужно уточнить при этом, что романтической повестью можно назвать не все «Записки», а именно первую часть первой главы, представляющую собой подготовку к основному событию ее жизни — поступлению на военную службу.
Именно в этой части «Записок» можно найти множество несовпадений между реальными фактами ее биографии и их освещением в произведении. Во всех этих случаях у Дуровой действует вполне сознательная установка — строить свою жизнь в соответствии с существующим романтическим каноном, когда исключительная героиня, следуя своему высокому предназначению, порывает с угнетающей ее обстановкой родного дома и уходит в армию.
По времени написания первая часть первой главы «Записок» наиболее поздняя. Она создавалась уже при подготовке их к печати, преимущественно в 1834—1835 гг., когда романтическая традиция в русской прозе достигает своего наивысшего расцвета, в том числе и в женской литературе, в творчестве Е. Ган, Е. Ростопчиной, М. Жуковой и др., почти исключительно посвященном разработке темы женской судьбы в современном обществе. Именно от романтической традиции берут свое начало многие сюжетные линии и обрисовка характеров действующих лиц «Записок». Так, мать Дуровой Надежда Александрович, по «Запискам», «одна из прекраснейших девиц в Малоросии» (с. 25), отец — «прекраснейший мужчина, имевший кроткий нрав и пленительное обращение» (с. 26), дед по материнской линии — «гордый, властолюбивый пан малороссийский… величайший деспот в своем семействе!» (с. 26). Побег матери из дома со своим будущим мужем происходит «в бурную осеннюю ночь», «в коляске, запряженной четырьмя сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли их по киевской дороге» (с. 26). За этим следует проклятие непокорной дочери, произнесенное старым Александровичем с амвона церкви, ненависть Надежды Александрович к дочери, доходящая до неистовства, и, наконец, освобождение.
Причем мотив романтической свободы очень явственно звучит в ее «Записках». Он пишет: «Свобода! Драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку! Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время, и отныне до могилы она будет и уделом моим и наградою!» (с. 43−44).
Итак, в первой части первой главы «Записок» Дуровой перед нами предстает самый яркий образец процесса романтического моделирования в отечественной мемуаристике первой половины XIX в. В этой части произведения Дурова не просто выстраивает сюжет «Записок», заостряя внимание на наиболее выигрышных моментах своей биографии, как это делает Д. Давыдов, но активно «исправляет» свою жизнь в соответствии с романтическим каноном. Данное обстоятельство ставит «Записки» в промежуточное положение между собственно мемуарами как специфическим жанром документально-художественной литературы и чисто художественной прозой.
Романтическое моделирование оказывает влияние и на другие части «Записок», посвященные описанию се военной службы (вторая часть первой главы и вторая глава), хотя в их основе лежит уже не романтический вымысел, но подлинный дневник, который будущая писательница вела, находясь на военной службе в 1807—1814 гг.
Если взять за основу классификацию А. Тартаковского, полагавшего, что в отличие от мемуаров, для дневника характерны такие жанровые черты, как отсутствие определенной концепции происходящего, ограниченность авторского кругозора, синхронный подход к действительности вместо мемуарной ретроспекции, стихийное течение событий и их стихийное фиксирование, то окажется, что и в этом случае чистота жанровой формы у Дуровой не соблюдается. Это при том, что жанр дневника допускал в начале XIX в. исключительно многообразное содержание — от педантично-размеренного, богатого фактической информацией и крайне скупого в выражении чувств дневника Н. Д. Дурново до написанного прекрасным литературным слогом, полного нравственнофилософских размышлений о сущности бытия, назначении человека, изобилующего множеством «чувствительных» сцен дневника А. Чичерина.
А. Тартаковский, характеризуя военные дневники Ф. Глинки, А. Раевского, И. Лажечникова, говорит о них как о «ретроспективных повествованиях собственно мемуарного или художественно-публицистического типа» [Тартаковский, 1990, с. 10]. «Но, — отмечает он, — в них то и дело звучат характерные дневниковые проговорки. Прерывистый ритм аналитических описаний с целыми кусками почти нетронутого текста поденных записей — неоспоримый признак существования в 1812—1815 годах походных дневников» [Там же].
К этому ряду ретроспективно обработанных дневников можно отнести и «Записки» Дуровой с оговоркой, что речь идет именно о второй части первой главы и второй главе «Записок», а не обо всех «Записках» в целом. Действительно, дневниковых «проговорок», пользуясь терминологией А. Тартаковского, в этой части более чем достаточно. Формально это выражается в прикрепленное™ того или иного события к определенному месту и времени, в их точной датировке. Характер этих записей убеждает в том, что первоначально Дурова делала записи наиболее важных с ее точки зрения событий своей жизни, как правило, это происходило в дни сражений. В записях отражается как ее участие в описываемых событиях, так и общее впечатление от происходящего. Например, 29 и 30 мая, Гейльсберг: «Французы тут дрались с остервенением… Полк наш в этом сражении мало мог принимать деятельного участия: здесь громила артиллерия и разили победоносные штыки пехоты нашей» (с. 66). Июль 1807, Фридланд: «В этом жестоком и неудачном сражении храброго полка нашего легло более половины. Несколько раз ходили мы в атаку, несколько раз прогоняли неприятеля и, в свою очередь, не один раз были прогнаны» (с. 73).
После таких документальных лаконичных вступлений, как правило, следуют описания переживаний самой героини типа: «Ах, человек ужасен в своем исступлении! Все свойства дикого зверя тогда соединяются в нем! Это не храбрость! Я не знаю, как назвать эту дикую, зверскую смелость, но она недостойна называться неустрашимостью!» (с. 66).
Встречаются случаи, когда Дурова фиксировала в дневнике только свое первое впечатление от события, и впоследствии оно без каких-либо пояснений или дополнений переносилось в окончательный текст «Записок». Например, Шепенбель: «Великий Боже! Какой ужас! Местечко все почти сожжено! Сколько тут зажарившихся людей! О, несчастные!» (с. 73).
Отмечает Дурова в дневнике и события, представляющие важность исключительно для нее одной. Например, «Полоцк 1807»; «Вызов в главную квартиру полка, отправка в Петербург»; «Петербург 1807»; «Встреча с царем»; «15 мая 1808»; «Назначение в Мариупольский гусарский полк».
Часто в «Записках» отсутствует точное указание времени происходящих событий и фиксируется только место, как правило, название города или местечка. Например: «Гродно. Я одна! Совершенно одна! Живу в заезжей корчме»; «Местечно Туринск. Я живу у нашего полкового берейтора поручика Вихмана и каждое утро часа полтора езжу верхом без седла, на попонке, и вечером, с час»; «Дубно. Граф приготовляется дать пышный бал завтрашний день» (с. 53; с. 104).
В подобных отрывках, кроме указания места действия, присутствует еще одна черта, указывающая на то, что в основу «Записок» положен текст дневниковых записей. Это, во-первых, употребление настоящего времени дневника вместо прошедшего времени воспоминаний. В основе подобных хронологических сдвигов лежат различные способы подхода к действительности — синхронный подход дневниковых записей и ретроспективный взгляд мемуарных произведений. Наконец, на дневниковую основу «Записок» указывают многочисленные наречия времени типа «сегодня», «вчера», «утром», «теперь», которые в изобилии присутствуют на их страницах. Например: «Сегодня я, к стыду моему, упала с лошади»; «Вчера был концерт в пользу бедных…»; «Сегодня было заложение инвалидного дома» и т. д.
Но, вместе с тем, чувствуется, что были длительные периоды, когда Дурова не вела дневника и при написании «Записок» просто забыла, что происходило в гот или другой период ее службы. Эго по относится в первую очередь ко времени ее службы в Мариупольском гусарском полку, когда она описывает лишь крупные события полковой жизни: блестящий бал, смотр, маневры, но в ее записях почти совсем не встречаются детали быта, те мелкие подробности жизни, которыми была так богата часть «Записок», описывающая первый год ее службы в Коннопольском полку. Это заставляет предположить, что в 1807 г. она вела очень подробный дневник. Это вполне объяснимо, если учесть, что в первый год службы все, окружавшее Дурову, носило для нее незабываемый оттенок новизны.
Даже по объему часть «Записок», посвященная 1806−1807 гг., значительно превосходит часть, в которой она описывает службу в Мариупольском полку (1808−1811). Такое соответствие характерно и для описаний кампаний 1812 и 1813−1814 гг.: насколько подробно она рассказывает о событиях Отечественной войны, настолько отрывочно и неполно все, что относится к заграничным походам русской армии. Причина этого очень проста — отсутствие ярких впечатлений от службы. Не забудем, что почти весь заграничный поход Дурова не принимала участия в боевых действиях, так как Литовский полк входил в состав резервной армии.
Готовя «Записки» к печати, она включает в них написанную к этому времени повесть «Павильон», представляющую собой вполне самостоятельное художественное произведение, квинтэссенцию романтического сознания автора, и «Рассказ татарина». Так же, как и «Павильон», он не связан напрямую ни с основной линией повествования в «Записках», ни с их основными действующими лицами. Это трагическая история любви разбойника Хамитуллы к прекрасной Зухре, рассказанная Дуровой старым татарином Якубом во время ее поездки домой в сентябре 1812 г.
Помимо этих совершенно самостоятельных художественных произведений, генетически восходящих к «Запискам» и объединенных с ними образом автора-повествователя, принимающего на себя роль скромного слушателя рассказываемых ему историй, в тексте «Записок» присутствует множество включений новеллистического типа. Не образуя самостоятельных рассказов, они представляют собой боковые ответвления от основной линии повествования. Это и описание отношений ротмистра Вонтробки с панной Выродковой, и повествование о любви полковника Тутолмина к прекрасной графине Мануцци, и рассказ о французской сироте, взятой на воспитание женой смотрителя, и т. д. Во всех этих случаях происходит непринужденный переход от стиля мемуарного описания к стилю художественного повествования.
Причина структурной неоднородности «военных частей» «Записок» во многом объясняется спецификой творческого пути Дуровой-писательницы. Когда Дурова готовила «Записки» к печати, она еще не предполагала, что это произведение послужит лишь началом ее писательской деятельности.
Именно поэтому она стремилась включать в свои «Записки» как можно больше художественных набросков и отрывков тех своих произведений, работать над которыми она начала еще во время своей службы в Мариупольском гусарском полку. В первую очередь это относится к таким произведениям, как «Павильон», «Елена, т-ская красавица», «Граф Мавриций», «Гудишки». После успеха «Записок», сопровождавшегося восторженными отзывами критики, в первую очередь статьями В. Г. Белинского, который назвал Дурову «феноменом нравственного мира» и заметил между прочим, что «кажется, сам Пушкин отдал ей прозаическое перо» [Белинский, т. 3, с. 149], Дурова решает продолжить свою литературную работу в Петербурге. В 1838 г. она выпускает в Москве «Добавления к Девице-Кавалерист», которые представляют собой литературно обработанные зарисовки с натуры, освещающие в большинстве случаев взаимоотношения Дуровой с товарищами по оружию, наиболее запомнившиеся ей эпизоды из походной и светской жизни («Занятия по службе», «Игра на биллиарде», «Неудачный прыжок»).
Если рассматривать «Добавления» как логическое продолжение и завершение «Записок», то можно сказать, что в них попреимуществу торжествует романтический метод изображения действительности. «Добавления» состоят из 25 новелл, сюжетно не связанных друг с другом, но объединенных между собой автобиографическим образом рассказчика, выступающего во многих новеллах в качестве главного героя. Вместе взятые, эти новеллы охватывают весь хронологический промежуток «Записок», начиная с «Некоторых черт из детских лет» и кончая «Прошением в отставку».
Ряд новелл, включенных в «Добавления», впоследствии был использован Надеждой Андреевной для создания самостоятельных художественных произведений («Гудишки», «Граф Мавриций», «Павильон»), но существует и обратная зависимость. Например, в новелле «Любовь» происходит развитие сюжета, едва намеченного в «Записках», о несчастной безответной любви к «корнету Александрову» дочери полковника Павлищева, что и послужило, по словам Дуровой, причиной ее перехода в Литовский уланский полк.
Сами по себе новеллы колоритны и занимательны, прекрасно передают нравы офицерского корпуса начала XIX столетия — той среды, в которой Дурова вращалась более десяти лет.
Так, «Шалость» — рассказ о проделках, впрочем, не всегда безобидных, офицера N, «мариупольского Бурцева», с образцами прекрасных светских диалогов — остроумной бальной пикировки в духе повестей А. Бестужева-Марлинского.
Большая часть новелл описывает те или иные забавные случаи, происходившие с самой писательницей. Новелла «Три князя», например, рассказывает, как на почтовой станции Дурову приняли за «сиятельную особу» из-за богатого шитья доломана, «Посещение» — полный юмора рассказ о том, как «корнет Александров» приехал в гости к помещикам Мутовинкам в неурочное время и какими маневрами они пытались избавиться от неожиданного посетителя. В новелле «Поход» с юмором дается описание множества неудобств, связанных с незнанием Дуровой польских обычаев.
Но заканчиваются «Добавления» новеллой «Лас-Казас», отличающейся от других серьезностью затронутых в ней проблем. Это объясняет, почему «невинные», на первый взгляд, «Добавления» выходили из печати с цензурными затруднениями: не из пропущенные петербургской цензурой, «Добавления» были напечатаны в Москве.
В первой части новеллы «Лас-Казас» речь идет об офицере Арском, разжалованном в солдаты за то, что отпустил арестованных мятежников, приговоренных к расстрелу; во второй ее части писательница поднимает вопрос о бесправном положении жен офицеров, зачастую становящихся жертвами ревнивой подозрительности мужей-самодуров.
Начатая как романтическая повесть о любви молодого офицера к прелестной Леонетте, юной жене полковника Азинского, у которого «черкесская кровь ни одной секунды не текла в жилах так, как должна течь кровь, но вечно била каскадом, и весь вид его был самым верным изображением тигра, готового прыгнуть на добычу» [Дурова, 1839, с. 323], новелла завершается самым невероятным для читателя образом. Вместо ожидаемых кровавых сцен между ревнивым мужем и его молодым соперником дело улаживается весьма «мирно и обыкновенно». Полковник попросту «поучил» свою жену нагайкой, после чего ее возлюбленный не только перестал питать к ней нежные чувства, но даже испытывал к ней отвращение, так оскорблял его эстетическое чувство сам вид женщины, над которой была произведена столь унизительная процедура. Кончается новелла сценой игры на бильярде полковника и молодого офицера, оставшихся после происшествия добрыми приятелями.
В целом, и «Записки», и «Добавления» к ним написаны Дуровой прекрасным литературным языком. В. Г. Белинский недаром писал, характеризуя первые произведения писательницы, что, «кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо». Ее язык по своей точности, выразительности и лапидарности порой напоминает язык прозы А. С. Пушкина. Тем не менее, он очень богат тропами. Сравнения, гиперболы, перифразы Дуровой, особенно несущие в себе отрицательный оттенок, оригинальны и свидетельствуют о природном таланте автора, его жизненной наблюдательности, прекрасном владении словом. Только характеризуя своих лошадей, на которых ей приходилось ездить, она употребляет более 20 определений, относящихся к их норову и темпераменту: добрый, неприступный, бодрый, гордый, горячий, заносчивый, нетерпеливый и т. д. Примечательны ее оценочные эпитеты: «тиранские казенные сапоги», «неприступная медведица» (о женщине), «лягушачьи глаза», «плешивое чучело», «проклятый шут» (о неком Пел* — сослуживце). Та свобода, с которой она их использует, делает язык Дуровой образным и неповторимым. Характерны для ее языка и точные выразительные сравнения. Например, поднятые по тревоге солдаты напоминают ей муравьев, в которых выстрелили из пистолета; тяжелая пика ассоциируется с бревном, сапоги — с кандалами, дорожные саквы — с двумя холмами, возвышающимися по бокам лошади, офицерская фуражка — с огромным цветком (из-за ее яркого малинового цвета); приказ о фуражировке лежит у нее на груди, как спящий змей; ночь темна, как погреб. Себя же она сравнивает то с римским героем Курцием, разумеется, в ироническом смысле: «Я, как Курций, слетела с седла», то с барашком, за которым гонится стая волков (сцена погони), то с бледным вампиром (после ранения).
Не менее удачно используются ею перифразы. Так, монахи — чудища в рясах, вербунок (вербовка новобранцев) — наша вакханалия, поездка в вагенбунд (обоз) — погребальное шествие и т. д.
Но отмечая оригинальность слога Дуровой, нужно заметить, что вместе с индивидуальными самобытными поэтическими тропами она широко использует общеромантическую лексику своей эпохи с ее «огненными поцелуями» и «злобным светом», устоявшиеся сравнения: «бледен, как мертвец», «трепетал, как осиновый лист», «летел, как вихрь», «как птица взлетел на седло». У нее присутствует сравнение слез с градом, слов — с «кинжалами, которые вонзаются в сердце», прекрасных дев — с ангелами и херувимами.
В дальнейшем слой общеромантической лексики, когда «кольцо — залог дружбы», а мертвец — «безмолвный обитатель хижин», в ее словаре будет возрастать, оттесняя собственно дуровский слог на второй план или же вовсе заменяя его. Особенно эта общеромантическая нивелировка языка писательницы будет очевидна в ее последних произведениях («Угол», «Ярчук — собака духовидец»), слог которых так сильно отличается от слога «Записок», что с трудом верится, что эти произведения принадлежат одному автору.
Вопросы и задания для самостоятельной подготовки
- 1. Охарактеризуйте мемуарно-автобиографическую литературу как «альтернативный» текст русской литературы. Докажите или опровергните данную точку зрения, ориентируясь на развитие русской мемуарной литературы XVIII — первой половины XIX века.
- 2. Определите феномен «правды голого факта» в мемуарном тексте. Перечислите основные функции фактографического материала в автодокументальной литературе.
- 3. Чем отличается функционирование фактографического материала в мемуарах профессиональных литераторов?
- 4. Как повлияли события Наполеоновских войн на развитие русской мемуарной прозы?
- 5. Стилевой эклектизм русской военной мемуарной прозы начала XIX века — достоинство или недостаток военной мемуаристики?
- 6. Опишите основные направления романтического моделирования действительности в военной мемуаристике Наполеоновских войн.
Список рекомендуемой литературы
Антюхов А. В. Русская мемуарно-автобиографическая литература XVIII века: (Генезис. Жанрово-видовое многообразие. Поэтика): автореф. дис. … докт. филол. наук/ А. В. Антюхов. М., 2001. 34 с.
Архипова А. В. Война 1812 года и эволюция русской прозы / А. В. Архипова // Рус. лит. 1985. № 1. С. 39−56.
Билинкис М. Я. Взаимоотношения документальных жанров и беллетристики в русской литературе 60-х годов XVIII века: автореф. дис. … канд. филол. наук / М. Я. Билинкис. Л., 1979. 27 с.
Веселова А. Ю. А. Т. Болотов и П. 3. Хомяков: Роман или мемуары? / А. Ю. Веселова // XVIII век. Сб. 22. СПб., 2002. С. 190−199.
Гачев Г. Частная честная жизнь: Альтернативная русская литература / Г. Гачев // Лит. учеба. 1989. № 3. С. 119−128.
П6.
Гюбиева Г. Е. Этапы развития русской мемуарно-автобиографической литературы XVIII: автореф. дис. … канд. филол. наук / Г. Е. Гюбиева. М., 1969. 19 с.
Егоров О. Г. Русский литературный дневник XIX в. / О. Г. Егоров. М., 2002. 288 с.
Елизаветина Г. Г. Становление жанров автобиографии и мемуаров / Г. Г. Елизаветина // Русский и западноевропейский классицизм: Проза / Г. Г. Елизаветина. М., 1982. С. 235−263.
Колядич Т. М. Воспоминания писателей: Проблемы поэтики жанра / Т. М. Колядич. М., 1998. 277 с.
Пекарский П. Русские мемуары XVIII века / П. Пекарский // Современник. 1855. Т. 50. № 3−4. с. 53−90; № 5−6. С. 29−62; № 7−8. С. 63−120.
Подольская И. И. Заметки о русских мемуарах 1800−1825 годов / И. И. Подольская // Русские мемуары 1800−1825 годов. М., 1989. С. 5−16.
Приказчикова Е. Е. Русская мемуаристика XVIII — первой трети XIX века: имена и пути развития / Е. Е. Приказчикова. Екатеринбург, 2006. 384 с.
Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика / А. Г. Тартаковский. М., 1980. 310 с.
Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII — I половины XIX в. / А. Г. Тартаковский. М., 1991. 288 с.
Чайковская О. «…И в прозе глас слышен соловьин…» (заметки о документальной литературе XVIII века) / О. Чайковская // Вопр. лит. 1980. № 11. С. 196−213.