Н. А. Добролюбов
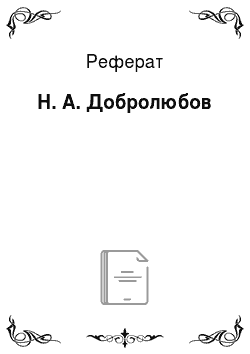
Требования, которые назрели во времена Добролюбова в среде закрепощенного крестьянства, сводились к очень короткой формуле: правовое и экономическое освобождение. Это, конечно, было еще очень далеко от такого состояния, при котором «всем хорошо», но это был необходимый ближайший этап. Чтобы проверить, насколько крестьянство пригодно для самостоятельной жизни и для открывающейся перед ним… Читать ещё >
Н. А. Добролюбов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
1911 —17 НОЯБРЯ—1861
I.
«Передовые люди» 30-х и 40-х гг. — все эти Онегины, Печорины, Бельтовы, Рудины, Лаврецкие и т. д., — проснувшись в одно прекрасное утро, с негодованием узнали, что они все не более, как Обломовы, что появилось на свет божий какое-то «молодое поколение», которое признало их «негодными к службе», сдало в архив, и само принялось за то «общественное дело», о котором, в силу традиции, полагалось до сих пор говорить только «передовым людям».
Это было нарушением всех приличий. Но хуже всего было то, что среди «молодого поколения» появился некий «желчный бес», отвергавший, по своей невоспитанности, все светские приличия и поднимавший на смех те святыни, о которых «старое поколение» говорило не иначе, как в приподнятом тоне и со слезой на глазах.
Весь наш прогресс, всю нашу гласность, Гром обличительных статей, И публицистов наших страстность, И даже самый «Атеней» —.
Все жертвой грубого глумленья Соделал желчный этот бес, Бес отрицанья, бес сомненья, Бес, отвергающий прогресс.
Этим «желчным бесом» был не кто иной, как Николай Александрович Добролюбов.
С ним вместе в русскую общественность и в русскую литературу хлынула целая рать «молодых людей», полных энергии, жажды дела, веры в светлое будущее, любви ко всем угнетенным и обездоленным. Это были выходцы из низов общества—дети мещан, мелкого духовенства, маленьких чиновников, а подчас и крестьян, — все люди, с детства приученные к лишениям и труду, к нужде и борьбе за жизнь. Отсюда характеры их были закалены и суровы, полны настойчивости и упорства в начатом деле, чужды барского фразерства и либеральной болтовни, вечно стремящиеся от слов перейти к делу, — одним словом, полная противоположность «передовым людям» дворянского происхождения.
Те выросли на готовых хлебах, доставляемых трудом крепостных. С детства не знали ни труда, ни забот, ни лишений. Воспитывались мамками да няньками, да гувернерами. Все желания их исполнялись, как по мановению волшебного жезла. Богатство, культурные удобства, знание, знакомство с прошлым и настоящим человечества, соблазны мира и сокровенные глубины философской мысли — все давалось им играючи, все падало для них с неба.
Эти лишь упорным трудом отвоевывали себе каждую пядь земли, каждый клочок знания, каждую крупинку радости. Для них не было ничего приуготовано предками: все надо было вырывать из когтей враждебного мира. Не удивительно, что, вооружившись, наконец, европейским знанием, сравнявшись в этой сфере с «передовыми людьми», они не могли не презирать разнеженного безвольного барства, утопавшего в потоках слащавых слов. Вот как рисуют люди «молодого поколения» старичков, устами своего представителя — Добролюбова:
«Люди того поколения были проникнуты высокими, на несколько отвлеченными стремлениями. Они стремились к истине, желали добра, их пленяло все прекрасное. Но выше всего был для них принцип. Принципом же называли общую философскую идею, которую признавали основанием всей своей логики и морали. Страшной мукой сомнения и отрицания купили они свой принцип и никогда не могли освободиться от его давящего, мертвящего влияния. Отвлекшись, таким образом, от действительной жизни и обрекши себя на служение принципу, они не умели верно рассчитать свои силы и взяли на себя гораздо больше, чем сколько могли сделать. Немногие только умели, подобно Белинскому, слить самих себя со своим принципом и, таким образом, придать ему жизненность[1].
Отсюда вечно фальшивое положение, вечное недовольство собою, вечное ободрение и расшевеливание себя громкими фразами и вечные неудачи в практической деятельности".
Основной чертой психики «старого поколения» была раздвоенность; «принцип» был сам по себе, а практическая деятельность сама по себе, «принцип» был велик и хорош, а воля и энергия — плохие и малюсенькие. «Принцип» разбивался о характерное безволие, воспитанное крепостнической обстановкой жизни.
Не то было с «молодым поколением»,.
Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день их должен добывать, —.
говорит Гете. А ведь «молодые люди» именно изо дня в день должны были бороться за жизнь и свободу. Поэтому и психика их была другого типа.
«Отвлеченные понятия заменились у них живыми представлениями… — говорит Добролюбов. — Люди нового времени не только поняли, но и прочувствовали, что абсолютного в мире ничего нет, а все имеет только относительное значение… Сознание кровного, живого родства с человечеством, полное разумение солидарности всех человеческих отношений между собою — вот те внутренние возбудители, которые занимают у них место принципа. Не те события обращают на себя особое их внимание, которые имеют характер грандиозный или патетический, а те, которые сколько-нибудь подвинули благосостояние масс человечества… Они хотят вести правильную, серьезную игру… и потому подвигаются понемножку, заранее обдумав план атаки и беспрестанно следя за всеми движениями противника… Признавая неизменные законы исторического развития, люди нынешнего поколения не возлагают на себя несбыточных надежд, не думают, что могут по произволу переделать историю… Они смотрят на себя, как на одно из колес машины, как на одно из обстоятельств, управляющих ходом мировых событий…».
Разночинец был новым человеком; это значит, что он не вынес из родной среды никаких воспоминаний, никаких традиций. Его психология была относительно свободна: она слагалась всецело под влиянием новых условий жизни, назревавших потребностей, нараставших интересов. Ни в мыслях, ни в делах его не смущали «бесполезные воспоминания и бесплодная борьба». Его общественные и нравственные идеалы сложились под влиянием тех же причин, что и его характер, вкусы, желания и личные интересы. Поэтому он отличался той редкой цельностью, какую удается наблюдать только в людях бурного, переломного периода, характеризуемого выступлением на общественное поприще новых классов или групп.
«У Белинского, — говорит Добролюбов, — отвлеченный принцип превратился в его внутреннюю жизненную потребность: проповедовать свои идеи было для него столько же необходимо, как есть и пить. Но немногие могли дойти до такого слияния своей личности с философским принципом». Эта цельность нравственной личности разночинца, в противовес характерной раздвоенности людей «старого поколения», является и в дальнейшей истории нашей общественности мерилом общественной ценности деятеля; общественные идеалы, бывшие для одних только «отвлеченной теорией», явились для людей добролюбовского типа «общим исключительным настроением» (выражения А. О. Новодворского). Для них действительно общественная работа явилась такой же неустранимой органической потребностью, как еда и питье.
Напротив, в людях «старого поколения» эта раздвоенность была весьма характерной чертой. Большая часть этих людей «осталась только при рассудочном понимании принципа и потому вечно насиловала себя на такие вещи, которые были им вовсе не по натуре и не по нраву… Принцип, витая в высших сферах духовного разумения, остался превыше всех обид и неудач; страсть же негодования ограничилась низшею сферою житейских отношений, до которых они почти никогда не умели проводить своих философских начал». Отсюда вечный разлад между интеллектуальной и нравственно-волевой стороной их душевной жизни. Самое маленькое дело терялось в болоте фраз, самые искренние желания вырождались в «надрывании себя», самые разумные планы распыливались в слащавое мечтательство. Получался тип непригодных к делу людей, «лишних людей» — тот самый тип, который полвека спустя, когда на поверхность русской общественности вышел новый класс, пролетариат, — снова сделался господствующим среди «лучших» людей «старого поколения» (см. Чехова).
Таковы были две наиболее передовые общественные группы, встретившиеся, столкнувшиеся и враждебно разошедшиеся в середине прошлого столетия. Они говорили нередко одни и те же слова, но смысл этих слов был различен, ибо за «передовыми» стремлениями этих двух групп стояла не только разница их психологий, но и разница социальная. Первые были либеральным дворянством, тяготевшим к буржуазно-конституционным порядкам, вторые были радикальным разночинством, стремившимся к освобождению народной массы от всякой эксплуатации, то есть к социализму. Одни с исполинским размахом подскакивали к реформам, другие медленным шагом подходили к революции. Какие же это попутчики?!
II.
«Одно из колес машины» как-никак имело ведь свои собственные взгляды на историю и свои собственные идеалы, осуществления которых оно ждало от истории. Откуда же у этого «колеса» была уверенность, что история идет в направлении его идеалов, что оно, «колесико», своими усилиями способствует именно осуществлению этих идеалов, а не идеалов Ноздрева или Скалозуба? Источником такой уверенности могла быть у Добролюбова только своя, строго продуманная, философия истории, которая убедила бы его, что направление его мысли и хода истории совпадают. Теория эта приблизительно такова.
С тех пор как нам известна история человечества, в ней всегда видим мы неравенство между людьми. Какая-нибудь группа данного общества ухитряется подчинить себе весь народ и эксплуатировать в свою пользу. Но дело в том, что в человеке крепко живет одно «естественное стремление» — избегать лишений, удовлетворять материальную и моральную нужду, добиваться такого положения, чтобы ему было хорошо. Поэтому на протяжении всей истории мы видим вечную борьбу народной массы с командующей группой. В конце концов народ побеждает, но как только сказываются плоды победы, от массы народа отрывается опять небольшая группа, которая примыкает к прежде господствовавшей группе и делится с нею властью и привилегиями за счет все той же народной массы. Обманутый народ снова начинает борьбу и, конечно, с таким же исходом. По крайней мере так было до сих пор. Но борьба, несмотря на многократные неудачи народных масс, не может прекратиться и должна продолжаться до тех пор, пока есть еще угнетаемые и эксплуатируемые слои народа. Ибо пока не осуществлены «естественные стремления» самых широких масс (или, как Добролюбов говорит в приведенной выше выписке: человечества'), до тех пор имеется в наличности материал для борьбы. «Лишениями не остановишь требований, а только раздражишь, — говорит он, — только принятие пищи может утолить голод. До сих пор поэтому борьба не кончена; естественные стремления, то как бы заглушаясь, то появляясь сильнее, все ищут своего удовлетворения. В этом состоит сущность истории». Ясно, что источник борьбы иссякнет только тогда, когда будут удовлетворены потребности всего народа или, захватывая шире, всего человечества. А так как во главу угла этих потребностей ставится уничтожение всякой эксплуатации человека человеком (как явления противоестественного), то такое состояние и есть не что иное, как социалистический строй или, по терминологии Добролюбова, «чтобы всем было хорошо».
Такова философия истории Добролюбова. Нечего прибавлять, что верная по существу мысль выражена в ней в утопической форме. «Естественного стремления» эксплуатируемых масс к тому, чтобы всем было хорошо, еще недостаточно; надо, чтобы и объективное развитие хозяйственных отношений также шло к такому устройству всех «по-хорошему». А это может быть узнано только из анализа экономических отношений и закона их развития. Эта работа по тому времени была до такой степени сложна и непосильна даже самым передовым умам, что только Марксу и Энгельсу, ушедшим с головой в изучение экономических отношений на Западе, да и то благодаря их близкому участию в рабочем движении того времени, удалось открыть законы движения капиталистического общества. Уже по этому можно судить, каким умом и талантом обладал Добролюбов, если, при столь неблагоприятных условиях, сумел верно нащупать хотя бы верхушки исторического процесса. Мало того, он не только постиг суть истории Запада, как борьбы классов, но понял, что и России предстоит та же судьба. Обрисовав постоянную борьбу общественных групп из-за власти в Западной Европе, вплоть до торжества «мещанства», он прибавляет: «Что и мы должны пройти тем же путем, — это несомненно и даже нисколько не прискорбно для нас. Что и мы на пути своего будущего развития не совершенно избегнем ошибок и уклонений, — в этом тоже сомневаться нечего. Но все-таки наш путь облегчен; все-таки наше гражданское развитие может несколько скорее перейти те фазисы, которые так медленно переходило оно в Западной Европе. А главное — мы можем и должны идти решительнее и тверже, потому что вооружены уже опытом и знанием».
Но если Добролюбову удалось постичь верно хоть внешнюю сторону исторического процесса, то этим он обязан своему правильному взгляду на взаимоотношения между «бытием и мышлением». Здесь он был последовательным материалистом и детерминистом. Все мышление, вся идейная жизнь есть лишь прямое порождение «обстоятельств»; всякое новое явление в умственной жизни — не более, как показатель назревших новых «обстоятельств», ищущих выражения для того, чтобы претвориться в сознательные действия. «Идеи и их постепенное развитие только потому и имеют свое значение, — говорит он, — что они, рождаясь из существующих уже фактов, всегда предшествуют изменениям в самой действительности. Известное положение дел создает в обществе потребность, потребность эта сознается, вслед за общим сознанием ее должна явиться фактическая перемена в пользу удовлетворения сознанной всеми потребности». Этим-то взглядом на отношение между «бытием» и «мышлением» и пользуется Добролюбов для изучения русской действительности.
Мы уже видели, как он выводил идеологию «старого поколения» из его крепостнического быта и на этом основании подвел все «поколение» под тип «обломовщины». Совершенно так же увидел он у «передовых людей» своего времени «частный», узкий, классовый характер всех их громких «вопросов» и предал их «грубому глумлению». Тем же путем определил он духовную ценность «молодого поколения» разночинцев, вышедших из трудящейся и бедной среды. Наконец, тот же метод проверки исторической ценности желаний и требований земного слоя его экономическим положением применил он и к народу, то есть, по тому времени, крестьянству.
Требования, которые назрели во времена Добролюбова в среде закрепощенного крестьянства, сводились к очень короткой формуле: правовое и экономическое освобождение. Это, конечно, было еще очень далеко от такого состояния, при котором «всем хорошо», но это был необходимый ближайший этап. Чтобы проверить, насколько крестьянство пригодно для самостоятельной жизни и для открывающейся перед ним исторической роли, Добролюбов анализирует условия его быта и сложившуюся в этих условиях психологию. Он очень далек от идеализации крестьянства, он, напротив, приветствует «мужественное, прямое и строгое воззрение на простой народ» в противовес «приторному любезничанию и насильной идеализации». При господстве крепостного права в народе должны были развиться «пороки и слабости, неизбежно соединенные с рабским или крепостным, вообще угнетенным состоянием», — лесть, обман, подличанье, продажность, лень, воровство и пр. Однако, сопоставляя эти пороки с другими фактами крестьянской жизни, Добролюбов находит, что «народ не замер, не опустился, источники жизни не иссякли в нем», нужно только поставить его на естественный путь развития. А так как «природные требования всегда сохраняют известную долю силы над человеком, то всегда есть надежда навести бедняка на правильную точку зрения. А как скоро он на эту точку станет, он ее применит к делу; в этой практичности состоит особенность крестьянской мысли и в этом заключается ее сила».
Таким образом, плодом и показателем назревших новых обстоятельств русской действительности явились: с одной стороны, новые потребности крестьянства, с другой — идеи и жажда деятельности «молодых людей». Сочетанием этих двух элементов мысль бедняка будет наведена на правильную точку, а крестьянская «практичность» гарантирует дальнейшее развитие в духе «естественных стремлений».
III.
«Как скоро общество или народ очнется и почувствует хотя смутно свои естественные нужды, станет искать удовлетворения своим потребностям, — и литература тотчас является служительницей его интересов». Это положение Добролюбова указывает место литературы в «естественных стремлениях» человечества. Как известно, он придавал литературе только «служебное» значение; как и вообще идеи, литература, по его мнению, в состоянии только оформливать то, что уже назрело в жизни. Так, например, появление Елены с ее новыми исканиями («Накануне» Тургенева) есть показатель изменившихся обстоятельств жизни; воплощение же ее художником в типичный образ свидетельствует, что и в жизни такие Елены — не случайное единичное явление. Однако вне созданного жизнью литература не может создать ничего своего. Любой жизненный факт может оказаться успешнее всякой литературы. «Действительный факт, отразившись в практической жизни деятельного рабочего человека, породит тоже действительный факт, тогда как книжные теории и предположения образованных людей, может быть, так и останутся только теоретическими предположениями». Но помимо этого литература вообще имеет смысл и значение только тогда, когда она идет в ногу с «естественными стремлениями» народа. До сих пор, за небольшими исключениями, и наука и изящная литература служили интересам «кружка, более или менее значительного» (то есть носили кастовый характер). Это умаляет их ценность. Поэтому-то и «мерою достоинства писателя или отдельного произведения мы принимаем то, насколько служат они выражением естественных стремлений известного времени и народа».
Добролюбов вовсе не требует от художника, чтобы он, наперекор своим внутренним потребностям, старался приспособиться к известным требованиям времени, искусственно воспевал известные идеи. Напротив, он решительный противник так называемого «тенденциозного» искусства. Но как человек, насквозь проникнутый общественными интересами, он очень невысоко ставит поэта, воспевающего листочки и ручейки, предпочитая ему художника, изучающего человеческую душу. Он находит, что поэт, по самой сущности своего таланта, не может не чувствовать того, что Добролюбов называет «естественным стремлением». «Талант есть принадлежность натуры человека, — говорит он, — и потому он, несомненно, гарантирует нам известную силу и широту естественных стремлений в том, кого мы признаем талантливым. Следовательно, и произведения его должны создаваться под влиянием этих естественных правильных потребностей натуры; сознание нормального порядка вещей должно быть в нем ясно и живо, идеал его прост и разумен, и он не отдает себя на служение неправде и бессмыслице не потому, чтобы не хотел, а просто потому, что не может, — не выйдет у него ничего хорошего, если он вздумает понасиловать свой талант». И в пример он приводит «бедные и трескучие заказные стихотворения Пушкина» и «жалкие аскетические попытки Гоголя», то есть творческая потребность художника есть такое же проявление «естественных стремлений» народа, как и жизненная потребность масс. Это — две стороны единого процесса.
Итак, настоящий талант волей-неволей будет действовать в направлении прогрессивного развития общества. В сущности талант есть «уменье чувствовать и изображать жизненную правду явлений».
Эта сторона дела и должна только занимать художника. Он интересуется не «идеями», а «живыми образами» и может в них «даже неприметно для самого себя уловить и выразить их внутренний смысл гораздо прежде, нежели определит их рассудком». Нередко бывает, что художник сам неверно понимает внутренний смысл создаваемых им образов: иногда он в отвлеченных понятиях высказывает суждения, прямо противоположные тем идеям, которые вытекают из его образов. Поэтому вполне понятно, что художник «может быть каких угодно мнений, лишь бы талант его был чуток к жизненной правде». Художник должен творить, что называется, не рассуждая, а уже дело критики осветить те идеи, которые логически выплывают из его писаний. Идеи же эти имеются в скрытом виде в произведении художника не потому, что он «задался ими при своей работе», а потому, что он жизненно, правдиво изобразил те факты, из которых эти идеи следуют сами собою. Вообще, над одними и теми же фактами могут работать и художник и мыслитель.
«Существенной разницы между истинным знанием и истинной поэзией быть не может», — говорит по этому поводу Добролюбов. — Мыслящая сила и творческая способность одинаково имеются и у философа и у поэта, но порядок работы и ее результаты другие. И поэт, и мыслитель должны при взгляде на предмет суметь сразу отличить его существенные, характерные черты от случайных, правильно организовать их в сознании и овладеть ими так, чтобы быть в состоянии свободно вызывать их для всевозможных комбинаций. Но художник, обладающий более живым воображением, «сильно поражается» первым фактом известного порядка и, не вдаваясь в его логическое объяснение, сразу сознает, что в нем есть «что-то примечательное». Он носит этот факт в себе, лелеет его, потом подходит с ним к другим аналогичным фактам и создает, таким образом, типичный факт или типичный образ, соединяющий в себе все существенные черты всех частных явлений. Мыслитель же, не отличаясь такой впечатлительностью, обыкновенно мало обращает внимания на единичный факт и только при постоянной повторяемости подобных фактов составляет на основании их «общее понятие» и переносит этот факт из «живой действительности в отвлеченную сферу рассудка». Первый мыслит «конкретно, никогда не теряя из виду частных явлений и образов», второй «стремится все обобщить, слить частные признаки в общей формуле». Мыслительный метод позволяет по немногим данным умозаключать о фактах, которые должны только наступить в будущем, между тем как поэтический метод способен оперировать только с уже назревшими или назревающими событиями. Однако Добролюбов признает, что немногим гениальным художникам, как, например, Шекспиру, удавалось путем поэтического метода достигать таких типов и образов, которые далеко опережали их эпоху.
Из задач, которые Добролюбов ставит художникам, и из сферы их деятельности следует, что одна изящная литература, без критики, еще не полна. Ибо литература только отражает жизнь, а объяснять ее приходится уже критике. Чисто «эстетической критике» Добролюбов не придает существенного значения, считая ее уделом «барышень». Он останавливается, главным образом, на критике общественного характера. Мы уже видели, что он требует от произведения безусловной жизненной правды. Но этого недостаточно. «Правда есть необходимое условие, — говорит он, — а еще не достоинство произведения». О достоинстве же произведения мы можем судить «по широте взгляда автора, верности понимания и живости изображения». Это определение Добролюбов развивает в другом месте, говоря о писателях, у которых «художественное чутье направлено здраво, в которых не только верно отражаются явления жизни, но которым доступен более или менее и общий таинственный смысл ее. Такие писатели становятся замечательными художниками, если их восприимчивость многообъемлюща, если жизнь открывается им не в отдельных только явлениях, а во всем своем стройном течении, если чутки они не к одной только внешней стороне явлений, но и к их внутренней связи и последовательности».
IV.
Миросозерцание Добролюбова отличается замечательной стройностью и цельностью: оно все проникнуто тем единством, без которого немыслимо научное миропонимание. И стихийный процесс нарастания новых потребностей и новой психологии, и сознательная идейная деятельность объясняются им одинаково одной причиной — развитием «естественных стремлений» человечества. Самые же эти «стремления» он объясняет переменой «обстоятельств». В основе всего процесса лежит, следовательно, рост материального обеспечения и материальных потребностей народных масс. Неудовлетворенность этих потребностей является психическим двигателем борьбы масс. На известной ступени этой борьбы — именно тогда, когда трудящиеся массы получают относительную свободу и возможность бороться уже только за свои интересы (а не таскать каштаны из огня для других), появляется (как знамение времени) народная литература, осмысливающая процесс борьбы и вскрывающая в нем действительно народные, то есть соответствующие «естественным стремлениям» народа, элементы. Так, путем борьбы и самосознания народ придет, наконец, к такому состоянию, при котором «всем будет хорошо».
В этой схеме, как мы уже сказали, самым слабым пунктом была неясность того, как и почему «обстоятельства» (теперь бы мы сказали: развитие производительных сил) развиваются именно в направлении, «чтобы всем было хорошо». Эту неясность чувствовал, по-видимому, и Добролюбов и объяснял тенденцию объективного развития чисто субъективным моментом, «естественными стремлениями», присущими самой «натуре» человека. Это была субъективно-утопическая заплата на объективной системе. Но, повторяем, при тогдашнем состоянии экономического развития и экономической науки в России (а в значительной мере и на Западе) Добролюбов не мог научно объяснить этот пробел. Ему доступно было объяснение общественного развития материальными причинами, доступно было и диалектическое мышление; но ему не были еще доступны законы развития экономических форм, в частности капитализма. Это ошибка эпохи, а не Добролюбова.
После изложенного выше должно показаться странным, что Добролюбов считается в нашей истории общественности родоначальником и духовным отцом так называемого «народничества». Ведь народничество все время твердило, что Россия пойдет своими путями развития, что капиталистическая эра для нее не обязательна; а Добролюбов ни на минуту не сомневался, что мы проделаем тот же путь, что и Западная Европа. Народничество придавало громадное значение уму, знанию, литературе, Добролюбов же, как мы видели, считал идеи, литературу лишь подсобниками, лишь служанками «фактического» развития. Народники высоко ставили «критическую» или «мыслящую» личность, ожидая от нее решительных действий в смысле направления хода истории; Добролюбов же писал о «ничтожестве личности перед общим ходом истории» и считал личность не более как искрой, которая вызывает пожар, если имеется в наличности горючий материал, но тухнет, попав на камень. А «материал всегда подготовляется обстоятельствами исторического развития народа, и вследствие исторических-то обстоятельств и являются личности». Народничество упорно отворачивалось от объективизма в истории, предпочитая утешать себя «субъективноэтическими» фантазиями. Добролюбов же последовательно проводил точку зрения объективного изучения истории.
Таким образом, по всем основным пунктам своих мировоззрений Добролюбов и народники расходились самым недвусмысленным образом. В чем же тогда преемственная связь между ними, что «унаследовали» народники от Добролюбова? Связь эта сводится исключительно к отношению к народной массе, на которую Добролюбов первый указал, как на носителя «естественных стремлений» и как на объект воздействия для интеллигенции. Но мы сейчас увидим, что и эта связь только условна.
Во времена Добролюбова в России под трудящимся и эксплуатируемым народом можно было понимать только крестьянство. Крестьянство это представлялось тогда, под игом крепостничества, цельной, единой массой. И когда Добролюбов возлагал свои надежды на крестьянство, он считался с ним именно как с той эксплуатируемой массой, которая в данный момент одна может явиться носительницей «естественных стремлений». Он вовсе не считал, что крестьянство не распадется в свою очередь, что оно навсегда останется выразителем этих стремлений. Об этом можно судить из того, что, говоря о положении дел на Западе, где дело дошло до борьбы между господствующими классами и рабочим классом, он прибавляет: «В рабочих классах накипает новое недовольство, глухо готовится новая борьба, в которой могут повториться все явления прежней». То есть даже в ушедшей вперед Европе он допускал возможность, что из среды «рабочих классов» оторвутся новые группы и примкнут к эксплуатирующим классам. Как же должен был он смотреть на отсталую Россию, которая только готовилась вступить на путь западноевропейского развития! Мог ли он надеяться, что на этом новом пути почему-то уцелеет крестьянство и явится каким-то избранным носителем «естественных стремлений» человечества? Такой мессианизм был чужд всему складу мышления Добролюбова.
А между тем народники, жившие и работавшие уже после смерти Добролюбова, собственными глазами видевшие расслоение деревни и «мещанские» идеалы более крепкого крестьянства, продолжали ждать чудес от пресловутых «народных начал». «Приторное любезничанье с народом и насильная идеализация» — на одном конце, знаменитый «трехходовой мат» вместо серьезной, медленной работы, завещанной Добролюбовым, — на другом — вот чем прикрывала народническая интеллигенция зияющую трещину между фактическими идеалами крестьянства и «естественными стремлениями» человечества. Где же здесь добролюбовское наследие?
Нет, Добролюбов неповинен в шалостях позднейшего народничества. «Молодые люди», выступившие на поприще общественной деятельности после Добролюбова, никогда не исповедовали и не применяли к жизни полностью его взглядов. У них были другие кумиры. То Писарев, то Бакунин и Ткачев, то Лавров, то Михайловский и даже (о, ужас!) В. В.3 Было только одно течение в этом хоре, верное заветам «Современника», но оно не было из самых влиятельных. Оно возродилось потом опять в конце 70-х гг. в «Черном переделе» и по преемственности вновь воскресло и окончательно укрепилось в 90-е гг. в марксизме. Конечно, марксизм подвел под шаткую систему Добролюбова прочное основание учения о развитии производительных сил и, сообразно времени и новому «горючему материалу», сделал другие тактические выводы. Но по духу своего учения, по методу мышления, по глубине анализа Добролюбов ближе к современному марксизму, чем к своим якобы преемникам 70-х и 80-х гг.
- [1] Добролюбов справедливо выделяет Белинского среди его современников, говоря:"Белинский был передовой из передовых, дальше его не пошел никто из его сверстников". Разночинцы конца 50-х и начала 60-х гг. сразу узнали в Белинском первого выдающегося разночинца. (Примечание В. В. Воровского.)