Очерк и «новая журналистика»
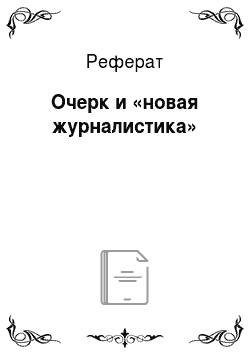
Психологи установили, что память человека крайне ненадежна. Что многие детали случившегося забываются либо меняются и спустя недели, месяцы или годы никто не сможет рассказать о событии так, как рассказал бы во время события или сразу же после него. Поэтому подобный очерк — это компромисс между желанием рассказать историю и невозможностью провести полноценный сбор материала для реконструкции… Читать ещё >
Очерк и «новая журналистика» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Еще один вариант очерка — реконструкция событий, случившихся с персонажем. Здесь материал подается с использованием приемов «новой журналистики» (см. гл. 1) — от третьего лица (глазами персонажа), с характерными деталями и реалистичными (происходившими на самом деле) диалогами.
Однако если в «новой журналистике» автор реконструирует событие путем многочисленных бесед с участниками, желательно проведенных на месте события, то при написании очерка достаточно одного источника информации — главного героя. Остальное журналист домысливает в меру своего понимания происходящего. Например, как в этом очерке про участника войны в Чечне:
От удара Леха свалился в канаву коромыслом. Кости в раздробленной ноге раскрошило, и при падении она оказалась у него на плече.
— Смотрю, менты дагестанские мимо бегут. Я им говорю — мужики, ногу положите нормально. Один остановился, ногу с плеча снял, приставил к туловищу как надо и дальше побежал. А кровищей как хлестанет в небо! А жгута-то нету, жгутом-то летехе руку перевязал! Ну, ремнем перетянул…
Бой шел накатами — несколько часов стрельба, потом затишье, — и Леха тоже жил накатами — несколько часов в сознании, потом в отрубе.
— Прихожу в себя — в ста метрах на высотке танк стоит и пацаны ходят. В другую сторону голову поворачиваю — в двадцати метрах от меня боевики. Начну кричать — услышат, заберут. Ни туда, ни сюда, в общем. Так я двое суток и пролежал — день, ночь, день, ночь…
Эти два дня, проведенные им на том поле под Новолаком с полуоторванной ногой, в полубреду-полузабытьи, без воды и еды, были так длинны, что составили отдельную, особую часть его жизни. Впадая в коматоз и выходя из Него, Леха никак не мог определиться, в каком он мире — здесь еще или там уже? И никак не мог решить главный для себя вопрос, никак не мог понять — хорошо это или плохо?
Один раз, очухавшись, увидел, как село бомбят вертушки, но бомбардировку ощутил уже отстраненно, словно смотрел мультфильм, персонажем которого себя больше не осознавал: накроют, не накроют — ему-то теперь какое дело?
Очнувшись в другой раз, Леха увидел, как в развороченном буграми мясе, которое раньше было его ногой, копошатся опарыши—сотни белых червей ели его еще живую плоть. Долго смотрел на них, не понимая, чего они хотят, — разве не знают, что он еще живой? Потом пробило страхом — так и сожрут посреди этого поля.
Эти опарыши переломили его сознание, выдернули из мира бредовых чудовищ, вернув в мир живых, и ему вдруг чертовски, до тошноты, захотелось жить. Счистив червей штык-ножом, Леха сумел изгольнуться и помочиться в рану…
А когда он очнулся в следующий раз, его нашли.
— Слышу — шепот. Ну, наконец-то, думаю, пацаны. Я ж все жду, пока раненых собирать начнут. Я им тоже тихонечко так — пацаны, пацаны, я здесь! Подходят человек пять, смотрю — нет, не пацаны. Обросшие мужики. «Ты кто?» Раненый, говорю… дырка же, опарыши, полсапога крови, все дела… «А ты знаешь, кто мы?» — «Знаю, — говорю, — боевики». Они мне нож к горлу: «Ну что, мы тебя в плен забираем» — «Да мне уже как-то… берите». Двое ж суток без воды, без ничего — в коматозе уже полном.
Притащили его то ли в школу, то ли в детский сад какой. Там другие бородатые, опять нож к горлу: ах ты сука — мусульманин, а против своих воюешь, братьев-мусульман убиваешь! Опять давай голову резать.
— Я говорю — я русский! Просто явБашкирии живу, там у нас все такие! У меня крест был, я им крест показываю — вот, я русский. Они в замешательство впали. Это и сыграло роль. Начали допрашивать: «Ты кто?» Я отвечаю: «Младший сержант Новиков» — «Молодец, не соврал. Раз не соврал, мы тебя резать пока не будем». Я говорю: «А с чего вы взяли, что я не соврал?» «А вон, посмотри, — и рукой показывают, — это твой лейтенант, Кортиков Дима». Я слышал, что кто-то стонет, но не знал кто. На год или на два старше меня был… В общем, поговорили они со мной, а потом пошли и отрезали моему лейтенанту голову. В этот момент я понял, что меня убьют.
Голову Лехе резали девять раз, но каждый раз он как-то отмазывался. Понял одно: надо вести себя нестандартно. Сбить с толку, зацепиться языками и загрузить. Только это и спасало.
— Нож подставляют, я—подожди, подожди, дай покурю, потом отрежешь! Потом зажигалку. Потом — можно себе оставлю? Зачем человеку, которому сейчас голову отрежут, зажигалка? Мелочи, а они сбивают с толку. У меня была «Прима», а она ж вонючая. Смотрю, один уже несет две пачки «Парламента» — на, кури нормальные, а то дышать нечем… И каждый раз я вот как-то отмазывался. Есть люди, которые сломались, — режь меня, делай что хочешь, лежит, как овечка. У меня этого не произошло, как-то пытался бороться за жизнь. Даже интересно было. Такие дискуссии разводил…
В этой школе продержали Л еху недолго — один день всего. Назавтра повезли кудато в тыл. Когда боль после тряски отпустила и смог он различать предметы, оказалось, что находится Леха в комнате. У двери — мужики с автоматами. И здоровый один среди них, как-то особенно бородатый — сразу видно, что главный. Глянул на Леху: «Больно?» Больно. Что-то сказал по-своему и ушел.
Через какое-то время появился врач, стал осматривать рану. «Знаешь, кто это был?» — спрашивает. «Нет, не знаю». — «Это Шамиль Басаев, наш командир». И вот там, в штабе у полевого командира Шамиля Басаева, глядя, как врач боевиков бинтует ему ногу, окончательно понял Леха — не будут его резать. Принял почему-то Басаев такое решение[1].
Психологи установили, что память человека крайне ненадежна. Что многие детали случившегося забываются либо меняются и спустя недели, месяцы или годы никто не сможет рассказать о событии так, как рассказал бы во время события или сразу же после него. Поэтому подобный очерк — это компромисс между желанием рассказать историю и невозможностью провести полноценный сбор материала для реконструкции случившегося.
- [1] Подорвался жить // Новая газета. 2006. 26 июня.