Евгений абрамович боратынский (1800-1844)
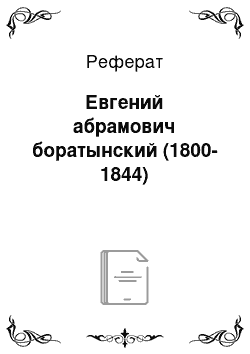
В этих произведениях важную роль играет предметное начало. В основу лирического сюжета положено развернутое сравнение или система сравнений, метафор, которые позволяют «опредметить» абстрактную категорию, каковой и является мысль. Так, в стихотворении «Сначала мысль воплощена в поэму сжатую поэта…» три последовательно сменяемых этапа «жизни» мысли предстают, с одной стороны, как смена форм… Читать ещё >
Евгений абрамович боратынский (1800-1844) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В результате изучения данной главы студент должен:
знать своеобразие «поэзии мысли» Боратынского; типологию и структуру элегии; принципы циклизации в книге стихов «Сумерки»; уметь характеризовать способы психологического анализа в лирике; — владеть навыками анализа лирического произведения.
Е. Л. Боратынского называют «поэтом мысли». Он стоит у истоков русской философской лирики, так как одним из первых предметом исследования в лирике сделал коренные вопросы бытия: стремился понять, что есть человек и в чем сущность его психологических состояний, какова логика исторических процессов, что есть истина, что такое мысль и как она «живет».
Боратынский — поэт, применительно к творчеству которого впервые стали использовать слово «исследует». Исследовательское начало, умение выявлять закономерности развития человеческого духа, способность подойти к своему личному духовному опыту как к объекту познания, взглянуть на него со стороны, отделить его от себя, провести скрупулезный анализ того или иного состояния души и дать его художественную картину называют главными особенностями лирики Боратынского.
В творчестве Боратынского выделяют три этапа. Первый (1818—1824) ознаменован тяготением к эстетике «арзамасского» круга поэтов, школы «гармонической точности». Для второго (1824—1835) характерны увлечение шеллингианством, переход к философской тематике. Третий период (1833—1844) называют временем расцвета философской лирики поэта.
Первым значительным произведением Боратынского считается элегия «Финляндия» (1820), которая стала «визитной карточкой» поэта: современники так и обращались к нему — «певец Финляндии». В этой элегии еще много традиционного: например, оссиановские мотивы. Сказывается в ней и опыт исторической элегии Батюшкова: певец, созерцающий суровый северный пейзаж, размышляет об оскудении человеческой природы, об ушедшей героике. Для обоих поэтов величие человеческого духа — в прошлом. Однако если у Батюшкова герои и их подвиги продолжают жить в мечте поэта, то у Боратынского все подается под знаком отрицания, забвения, конца (и в этом уже сказывается зрелый поэт):
Умолк призывный щит, не слышен скальда глас, Воспламененный дуб угас, Развеял буйный ветр торжественные клики;
Сыны нс ведают о подвигах отцов, И в дольном прахе их богов Лежат иизвержеиные лики!
Ваш след исчез в родной стране.
Зрелый Боратынский как трагическую ошибку человечества будет воспринимать чрезмерное доверие разуму в ущерб чувству. Это, по его мнению, ведет к тому, что поэтическое слово оказывается невостребованным, а следовательно, неизбежным становится «уход поэта» из мира. Неслучайно в цикл «Сумерки» включено стихотворение «Последний поэт». Примечательно, что уже античность будет мыслиться Боратынским как кризисная эпоха, так как именно в это время и происходит разрыв гармонического единства, начинается отчуждение человека от мира природы.
Входит в элегию «Финляндия» и тема современного поколения:
Что ж наши подвиги, что слава наших дней, Что наше ветреное племя?
О, все своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон — закон уничтоженья, Во всем мне слышится таинственный привет Обетованного забвенья!
В этих строках слышится приговор, вынесенный своему поколению другим поэтом — Лермонтовым. Созвучие как раз и обусловлено тем, что оба поэта говорят о своем поколении как об обреченном на забвение, и показывают, что сознание их современника трагически раздвоено. Эта тема раздвоенности сознания современного человека впервые мощно зазвучала именно в лирике Боратынского. В элегии «Рассеивает грусть пиров…» («Уныние») (1821) лирический герой одновременно пребывает в двух противоположных состояниях: внешнее — шумное веселье в кругу приятелей, пьяное забытье; внутреннее — грусть, одиночество, отстраненность от происходящего. Внешнее и внутреннее состояния лирического героя одномоментны; они не просто противопоставлены Боратынским — они не сводимы в принципе. Стремление «утопить ум» в бокале вызвано жаждой забвения, попыткой преодолеть то внутреннее состояние, которое определяет существо личности лирического героя, — состояние «грусти». Однако попытка вырваться из внутренней сосредоточенности, жить «вне себя», слиться с другими обречена уже потому, что внутреннее — это и есть истинное (природное) свойство человека.
Раздвоенностью сознания лирического героя обусловлен и основной художественный прием — прием антитезы (один из излюбленных у Боратынского; при этом антитеза в художественном мире поэта больше чем прием — это способ познания мира). Уже в первой строке сведены «грусть» и «веселье», антитеза усилена оксюморонным сочетанием «грусть пиров». Во второй строфе внутренняя раздвоенность получает более глубокую мотивировку через включение пейзажных моментов (возникает антитеза «тишина мира природы — буйное веселье людей»), в результате мир человека оказывается противопоставленным миру природы, человек выпадает из общего порядка.
В третьей строфе снова звучит «я», заменяя «мы» второго четверостишия. Эта строфа — парадоксальный итог, в ней обозначается неразрешимое противоречие: внешнее не захватывает героя, не становится его сущностью {"безрадостно с друзьями радость пел"), ему «чуждо» то, во что он погружен, он внутренне отстранен от своего внешнего «я», в нем сохраняется способность к самоанализу, расчленяющему душевное состояние.
Почему невозможно обретение желаемого: забвения и веселья? Финальный афоризм (а Боратынскому свойственна подчеркнутая афористичность концовок: «Одну печаль свою, уныние одно // Унылый чувствовать способен») показывает невозможность преодоления изначальных свойств личности, внутренней природы человека. Они заповеданы человеку «роком», судьбой.
Двойственным, противоречивым в лирике Боратынского предстает не только лирическое «я», но и чужое сознание. В стихотворении «Как много ты в немного дней // Прожить, прочувствовать успела…» раздвоено женское сознание. Заключительные строки {"Как Магдалина, плачешь ты, // И, как русалка, ты хохочешь!") рисуют образ, сочетающий в себе разнородные начала, мечущийся между крайностями, что и становится причиной опустошенности, жизненной пресыщенности. По Боратынскому, душа, пребывающая «в тоске душевной пустоты», обречена на раздвоенность, метания, на поиск своего истинного «я».
Одним из любимых жанров Боратынского является элегия. Первый этап творчества поэта прошел под знаком данного жанра. В это время параллельно развиваются две разновидности последнего: интимная (психологическая) и медитативная элегия. Первый тип представлен в таких стихотворениях, как «Разуверение», «Признание»; второй — «Истина», «Череп».
Аналитический психологизм Боратынского основан на том, что поэт как бы отстранен от своего «я», смотрит на свой духовный мир со стороны, извне, даст художественную картину разных состояний души. Он разлагает их, проводит скрупулезный анализ, может быть, поэтому даже названия стихотворений («Безнадежность», «Веселье и горе», «Вера и неверие», «Тоска», «Уныние» и др.) представляют собой перечень различных чувств и внутренних состояний. Мысль подвергает жесткому анализу те вещи, которые на первый взгляд кажутся неразложимыми. Эту особенность поэтической мысли Боратынского Вяземский называл «раздробительностью». Однако именно такие элегии Боратынского поразили Пушкина, который считал их вершинами жанра. Вот пушкинская оценка творений современника: «Боратынский — прелесть и чудо; „Признание“ — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий…»[1]
В основе таких элегий, как «Разуверение» («Не искушай меня без нужды…»), «Приманкой ласковых речей…», «Признание» («Притворной нежности не требуй от меня») и других, лежит любовное переживание, но Боратынский нашел новый круг эмоций, вызванных этим чувством. В «Разуверении», «Признании» любовь — в прошлом. Уже пережиты страдания, утихла боль от мучительного чувства. Как заметил С. Г. Бочаров, «Боратынский строит парадоксальную ситуацию любовной элегии уже без любви»; поэт размышляет не над тем, что было (в типичном для элегии ключе), а над тем, что стало. В «Разлуке» («Расстались мы, на миг очарованьем…») (1820) осуществляется анализ психологического состояния героя, вспоминающего о прежней любви, и в этой лирической медитации естественно сведены его прежние и нынешние чувства. В «Разуверении» (1821), «Признании» (1823, 1832) попытки женщины воскресить чувство рождают монолог лирического героя. Оба стихотворения начинаются с диалогически ориентированной реплики: «Не искушай меня без нужды // Возвратом нежности твоей…»; «Притворной нежности не требуй от меня; // Я сердца моего не скрою хлад печальной». Это как бы выхваченный фрагмент разговора, в котором отсутствует реплика героини, вызвавшая к жизни признание лирического героя. Однако в «Признании», например, в ткань лирического монолога входят и ее слова, они легко восстанавливаются, так как именно ими рождены горестные размышления, а свое высказывание лирический герой строит, как бы отталкиваясь от ее упреков: «Ты права, в нем (в сердце. — И. Ю.) уж нет прекрасного огня // Моей любви первоначальной»; «Я не пленен красавицей другою, // Мечты ревнивые из сердца удали». В стихотворении «Приманкой ласковых речей…» (1821) третья строфа организована подобным образом: возникает ощущение диалога, так как цитируются слова героини, но ее доводы тут же опровергаются как невозможные, ложные:
Вам дорог я, твердите вы, Но лишний пленник вам дороже, Вам очень мил я, но, увы!
Вам и другие милы тоже.
В любовных элегиях отчетливо прорисовываются психологические черты как героя, так и героини. В определенном смысле эти произведения двупортретны. Она (особенно в стихотворениях «пономаревского цикла») — ветреная, изменчивая, но одновременно милая, ласковая, нежная искусительница, которая манипулирует чувствами другого. В основе ее эгоистичной и прихотливой любви — тщеславное желание обладания. Для нее любовь — игра, для него — плен, поэтому так мучительно само воспоминание о пережитом, ведь вновь вспыхнувшее чувство сокрушит то состояние сна, в которое погрузилась душа, пройдя через страдание. Он волевым усилием «запрещает» возродиться чувству, ведь разочарование неизбежно, и оно станет непосильным грузом для души, с таким трудом обретавшей забвение. Любовные элегии Боратынского часто соотносят с пушкинским «романом в стихах». Тот тип сознания, который Пушкин сделал объектом изображения в «Евгении Онегине», у Боратынского выражает себя в лирической медитации.
В лирике Боратынского возникает парадоксальное понимание душевного забытья, покоя, сна, равнодушия. У Боратынского «душевный хлад» — итог жизненного опыта, перенесенных страданий, высшее (мудрое) состояние человеческой души. Сон — такое состояние души, которое заведомо исключает из своего круга все, что может ввести в волнение. Покой — реакция на перенаиряженность бытия. Все это — сформированное самой жизнью умение быть выше события, выше житейских треволнений. «Равнодушием богатый» — такую формулу встречаем в послании «Где ты, о Дельвиг мой…». Анализ этих душевных состояний Боратынский осуществляет в элегии «Две доли» (1823). В первом четверостишии заявлена основная антитеза: «надежда и волненье» — «безнадежность и покой». Однако это менее всего оценочное противопоставление; это две равноправные возможности, выбор между которыми осуществляет сам человек. «Надежда и волнение», с точки зрения поэта, — удел «юношей кипящих», когда «опыт строгий» еще не охладил порывов души, когда еще не пришло «знанье бытия». Зрелость тяготеет к покою. В той части стихотворения, где дается анализ состояния «безнадежности и покоя», возникает картина духовного оцепенения {"Берегите хлад спасительный // Своей бездейственной души"), усиленная сравнением ожившей души с трупом {"Своим бесчувствием блаженные, // Как трупы мертвых из гробов, // Волхва словами пробужденные, // Встают со скрежетом зубов; // Так вы, согрев в душе желания…"). Поскольку в стихотворении соотносятся разные этапы жизни человека, неизбежно возникает образ судьбы: сначала, когда речь идет о юности, это слово сопровождает эпитет «насмешливая», а затем слово «судьба» трансформируется в «судьбину», и эта метаморфоза выражает представление о жизни как о тяжелом испытании, ниспосланном человеческой душе. Однако сам трагический опыт, с точки зрения Боратынского, необходим. Одно из стихотворений начинается такой декларацией: «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам; // Не испытав его, нельзя понять и счастья…» Страдание обостряет чувства, формирует другую систему ценностей. Пройдя через страдание, человек получает дар воспринимать простые и естественные человеческие проявления как особо значимые, приобретает особый «вкус» к жизни:
Пусть мнимым счастием для света мы убоги, Счастливцы нас бедней, и праведные боги Им дачи чувственность, а чувство дали нам.
В целом ряде стихотворений Боратынский свою личную судьбу осмысливает как расставание с верой в возможность счастья, обретение холодного покоя, равнодушия, сознательное выпадение из общего потока жизни («Дорога жизни» (1825), «Безнадежность» («Желанье счастия в меня вдохнули боги…» (1823)) и др.). В одной из посмертных статей о Боратынском как раз и говорилось о том, что он «не умел уравняться с современностью». Однако поэт и не стремился идти в ногу со временем. Когда наступила эпоха николаевского безвременья, он выбрал позицию сознательного молчания. В одном из писем той поры Боратынский так и пишет: «Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным… Заключимся в своем кругу, как первые братия христиане, обладатели света, гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая. Может быть, придет благопоспешное время». В таких внутренних обстоятельствах создавался цикл «Сумерки», увидевший свет в 1842 г. В «Сумерках» Боратынский, по меткому определению Н. А. Мельгунова, из элегического поэта личности стал элегическим поэтом человечества. «Сумерки» — подчеркнуто интеллектуальный цикл.
«Сумерки» — явление необычное на фоне тех циклов, которые существовали в то время. Как правило, в цикл объединялись произведения, в которых просматривалось либо единство темы, либо общие герои. В «Подражаниях Корану», «Песнях о Стеньке Разине», «Песнях западных славян» Пушкина все связано единством предмета изображения. У Боратынского иной, более сложный принцип циклизации, напоминающий полифонию. И. М. Тойбин, например, считал, что «книга строится по принципу сюиты, но не психологической, личной, связанной обычно с историей любви, а философской»[2]. Неслучайно исследователи при анализе структуры цикла часто используют музыкальную терминологию. Своего рода камертоном, задающим звучание всему циклу, является его название. Боратынский реализует разные смыслы слова «сумерки». «Сумерки» — это название беседки в Муранове, в которой поэт любил работать. Однако прежде всего срабатывала символика заката: закат года, закат собственной жизни, закат цивилизации…
Своеобразной увертюрой является открывающее цикл «Послание князю Петру Андреевичу Вяземскому», где отчетливо проступают настроение и тема, которые затем не раз воплотятся в разных стихотворениях, — тема поэта и времени (поэт тоскует по миру, но осознает невозможность преодоления существующего разрыва).
В цикле варьируются в разных сочетаниях три основных мотива: античность и «железный» век; земное и небесное в человеке; существование художника. Боратынский располагает стихотворения так, что происходит постоянная смена интонаций и настроений. Когда эмоциональный строй достигает трагического напряжения, вдруг звучат иронические, сатирические нотки.
Ударные в смысловом отношении стихотворения («Последний поэт», «Приметы», «Недоносок», «На что вы дни?..», «Что за звуки? Мимоходом…», «Осень» и др.) Боратынский окружает миниатюрами: посвящениями, эпиграммами, стихотворениями в духе древних («антологическими пьесами»). Так, например, стихотворение «Ропот» («Красного лета отрава, муха досадная, что ты…») несколько разряжает атмосферу «Сумерек», потому что неожиданное воплощение получает банальная бытовая деталь (о назойливости мухи говорится в стилистике антологической пьесы). Через подобные «сближения» вечное соотносится с сиюминутным, высокое — с суетным (например, стихотворение «Увы! творец непервых сил…» в соотношении с темой художника-поэта в общем контексте «Сумерек»).
Кульминация цикла — стихотворение «Осень», где сходятся два смысловых обертона в общей символике сумерек: осень — сумерки природы («вечер года»), осень — сумерки в жизни художника («осень дней»). Такое схождение обусловлено тем, что в стихотворении контрастно соотнесены труд земледельца и труд художника, сопоставляется природное и духовное. Труд земледельца (природное начало) гармоничен, целостен; ощутимы его результаты:
Гуляет серп. Па сжатых бороздах Снопы стоят в копнах блестящих Иль тянутся вдоль жнивы, на возах, Под тяжкой ношею скрыпящих, И хлебных скирд золотоверхий град Подъем л ется кругом крестьянских хат.
Оттого и царит здесь атмосфера довольства и жизненной воплощенности, а лексический строй ориентирован на концентрацию позитивных смыслов: «овины весело дымятся», «отрадное тепло в его избе». Потому и будущая зима не вызывает тревоги: «Иди, зима! На строги дни себе // Припас оратай много блага…»
Иные плоды пожинает «оратай жизненного поля» — творец. Возникает ощущение трагической безысходности: слово поэта не находит отзыва. Глубочайшее постижение мира заведомо обрекает поэта на духовную изоляцию. В связи с этим Боратынский говорит о двух типах слова: одно — «пошлый глас, вещатель общих дум», другое — «…тот глагол, // Что страстное земное перешел». Толпа откликается на них по-разному: банальность «звучный отзыв в ней находит», слово духовного труженика остается без ответа. Итог раздумий Боратынского состоит в том, что выход к подлинно духовному труду обрекает художника на утрату «радостей земных». В этом вечная драма художника, духовная катастрофа.
Отличительной особенностью творчества Боратынского является высокая интеллектуальность его лирики. Пушкину принадлежит высказывание, в котором очень емко выявлена суть художественного мышления поэта: «Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко»[3].
Мысль (постижение ее сущности, эволюция, воплощение в слове и укоренение в общественном сознании) становится в лирике Боратынского самостоятельной темой. Поэта интересует мысль как онтологическая категория. Она, но Боратынскому, существует сама по себе, как некое изначально присущее миру знание, способное с помощью слова обрести плоть. Однако мысль не неподвижна, она «живет» во времени: трансформируется, изменяется, но не исчезает, не пропадает бесследно. Об этом такие стихотворения, как «Сначала мысль воплощена в поэму сжатую поэта…», «Все мысль да мысль, художник бедный слова…», «О, мысль, тебе удел цветка…», «Предрассудок» и т. д.
В этих произведениях важную роль играет предметное начало. В основу лирического сюжета положено развернутое сравнение или система сравнений, метафор, которые позволяют «опредметить» абстрактную категорию, каковой и является мысль. Так, в стихотворении «Сначала мысль воплощена в поэму сжатую поэта…» три последовательно сменяемых этапа «жизни» мысли предстают, с одной стороны, как смена форм, в каких она является человеку (поэма, роман, публицистика), с другой — как разные периоды жизни женщины («дева юная», «искушенная жена», «болтунья старая»). По сути, это сравнение подсказано родовой спецификой слова — мысль в русском языке женского рода. Мысль затаскивается, теряется, опошляется именно потому, что оказывается растолкованной и бесконечно воплощенной в разных формах. Она теряет новизну, превращается в банальность, а потому и утрачивает самою себя. Собственно это и есть смерть мысли как таковой. Однако, по Боратынскому, сама смерть мысли есть рождение нового знания. Это мнение пластично выражено в миниатюре «О, мысль, тебе удел цветка…». Над этим размышляет поэт в стихотворении «Предрассудок», где речь идет о верованиях, о смене мировоззренческих основ, коренных представлений о мире, которые определяют развитие человеческой цивилизации в целом. «Старый храм» — это те представления, которые сформировались во времена, когда человек еще не отделил себя от мира природы, когда не доверился всецело разуму, когда владел общим с природой языком («Приметы»). Новые представления о мире, новые опоры — на разум, а не на чувство — рождают новую истину, новую картину мира, однако былое чувство родства со всем природным как раз и отражается в том, что принято называть предрассудком. Понять их — значит понять и прошлое человечества, осознать свое настоящее. Этим обусловлено финальное четверостишие:
Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай;
Но пристойную могилу, Как уснет он, предку дай.
Так Боратынский в рамках лирического стихотворения выражает одну из основополагающих философских идей о бесконечности процесса познания.
Л. Я. Гинзбург так сформулировала основную тему поздней лирики Боратынского: «…трагическое самосознание человека, изолированного, отторгнутого от общих ценностей. В этом социальный смысл проблематики позднего Боратынского, ее историческая конкретность — поскольку за нею стояла судьба сломанного поколения»[4]. Боратынский особенно остро ощущал этот надлом, потому что испытал катастрофическое крушение надежд на будущее еще в юности, когда понес наказание за совершенный проступок. С тех пор чувство рока, несправедливо-слепой судьбы нс покидало его. Именно поэтому загадкой позднего Боратынского стало стихотворение «Пироскаф» (пироскаф — это пароход). В нем выражено нетипичное для поэта восприятие жизненного пути, поскольку в душе лирического героя возникает надежда. Однако, как справедливо замечают исследователи, время создания (а стихотворение было написано незадолго до смерти, в 1844 г.) накладывает трагический отсвет на те оптимистические обертоны настроения, которые ощутимы в «Пироскафе», ведь надежда воскресала в душе, предчувствующей кончину.
- [1] Пушкин Л. С. Письмо Бестужеву А. А., 12 января 1824 г. Из Одессы в Петербург // Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: в 10 т. Л.: Паука (Ленингр. отд-ние), 1977;1979. Т. 10. 1979. С. 64.
- [2] История русской поэзии. Л.: Наука, 1968. Т. 1. С. 360.
- [3] Пушкин А. С. Баратынский // Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: в 10 т. Т. 7.1978. С. 153.
- [4] Гинзбург Л. Я. О лирике. М.: Интрада, 1997. С. 78.