Обвиняемые и свидетели
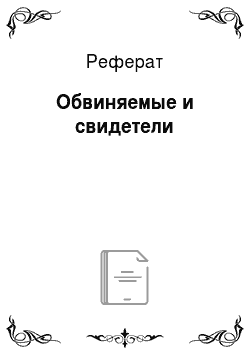
Зачастую человек, отличающийся сильной душевной восприимчивостью, бывающей во власти так называемой вспыльчивости (которую не следует смешивать с запальчивостью, являющейся состоянием не внезапным, а нарастающим, питающим само себя, подобно ревности), из потерпевшего в начале столкновения становится преступником в конце его. Если, однако, он владел собой после вспышки и затаенного гнева и подавил… Читать ещё >
Обвиняемые и свидетели (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Быть может, ни один род деятельности не представляет такого разнообразия живого материала, как публичная судебная деятельность. Она ставит лицом к лицу с судьею, прокурором и присяжным заседателем обвиняемого и подсудимого. Волны жизни выбрасывают в суд массу свидетелей со всем разнообразием их общественного положения, миросозерцания, образования, темперамента и способа выражаться; перед судьями плачется на свои обиды потерпевший, и защищает свое право частный обвинитель, и, наконец, перед ними вещают техническое знание и наука в лице «сведущих людей».
Без сомнения, самым интересным из упомянутого живого материала являются свидетели. Их можно разбить на группы и классифицировать, причем к показаниям и личности их можно относиться гораздо более непосредственно и доверчиво, чем к обвиняемым и их объяснениям. Новизна положения, обстановка судебного заседания и, наконец, отзвуки былого народного страха перед судом оказывают внешнее и часто поверхностное влияние на свидетеля, не касаясь его показания. Иначе обстоит дело с обвиняемым или подсудимым. Для свидетеля исход дела по большей части безразличен; для обвиняемого в этом исходе заключается грозная возможность потери доброго имени, общественного положения и вероятность принудительного, иногда тяжкого лишения свободы. Поэтому понятно, что он волнуется, что в большинстве случаев нервы его напряжены до крайности, что он нередко впадает в состояние панофобии, то есть боязни всего и всех, и что поэтому его объяснения, за очень редкими исключениями, проникнуты желанием обелить себя с ущербом для правды. Но в ряде случаев событие преступления и связь с ним обвиняемого до такой степени ясны и очевидны, что отрицание последним своей виновности являлось бы бесцельною и бесплодною ложью. Здесь сама собою возникает необходимость признания своей вины для обвиняемого перед следователем и для подсудимого перед судом. Я уже говорил, что в нашем старом, отжившем уголовном судопроизводстве собственное признание считалось «лучшим доказательством всего света» и играло решающую роль при рассмотрении дела.
Наш новый уголовный процесс, кладя в основу решения внутреннее убеждение судьи, выдвинул на первый план совокупность косвенных улик и отвел настоящее место собственному признанию обвиняемого, придавая ему значение доказательства исключительно в том случае, если оно подтверждается обстоятельствами дела. Таким образом, создалась широкая возможность критического отношения к собственному признанию обвиняемого и подсудимого. И действительно, каждый опытный судебный деятель знает, как разнородны по побуждениям и содержанию собственные признания в совершении преступления, начиная от явки с повинной к властям и кончая сознанием, вынужденным неотразимостью обвинения. Случаи так называемого чистосердечного и искреннего признания, в сущности, чрезвычайно редки. Их приходится, по большей части, наблюдать уже после того, как произнесен обвинительный приговор.
Отрицание своей виновности, обыкновенно, выражается двояко. Если совершитель не застигнут с поличным, не захвачен на месте преступления, не пойман или не найден со свежими неопровержимыми следами последнего или не изобличен в непосредственном пользовании его плодами, то он упорно отрицает всякое свое отношение к событию преступления. Если же, наоборот, такое отношение слишком явно и осязательно, то свои объяснения он строит так, чтобы этому отношению придать наиболее благоприятный для себя и мягкий характер. Таким образом, при убийстве с заранее обдуманным намерением и умыслом обвиняемый сознается лишь в умышленном убийстве, мысль о котором возникла у него внезапно, не дав ему одуматься и отвергнуть ее соблазн; при обвинении в убийстве умышленном — старается придать своим действиям характер гнева, вызванного раздражением, виною которого был сам потерпевший; обвинению в запальчивости — противопоставляет простую неосторожность и, в крайнем случае, состояние необходимой обороны и т. д. Этой своего рода торговле с правосудием содействует, по большей части, обучение в так называемой тюремной академии, то есть пребывание в предварительном заключении среди неоднократных тюремных сидельцев и рецидивистов. Там проходится опытный курс отрицания своей виновности и делаются ссылки на практическую и испытанную полезность его, причем преподавателям этого предмета дается со стороны учеников обыкновенно более веры, чем указаниям добросовестного защитника на значение собственного признания для смягчения наказания при несомненности вины. Призванный к следствию подозреваемый обыкновенно признается в том, в чем сознается неизбежно, и тогда его привлекают как обвиняемого. В этом положении, теряя надежду выпутаться из дела, он сознается более или менее подробно. Затем следует, к сожалению, слишком щедро практикуемое взятие под стражу. Здесь дело его иногда задолго до судебного заседания рассматривается бывалыми людьми, и под влиянием их советов и ободрений перед ним снова возникает надежда и даже уверенность уйти от осуждения. Представ перед судом в качестве подсудимого, он, по выслушании обвинительного акта, на традиционный вопрос председателя:
«Признаете ли вы себя виновным?» — отвечает уже отрицательно.
Мне вспоминается в процессе о подделке акций ТамбовскоКозловской дороги подсудимый акушер Колосов, злой гений остальных подсудимых и некоторых свидетелей по этому делу, соблазнитель и глубокий развратитель доверившейся ему девушки, с отталкивающим цинизмом объяснявший непонятное слово «faregatis» в своем дневнике, втравивший в подделку молодого поляка Ярошевича и хитрого, осторожного старика доктора Никитина, библиотекаря Медико-хирургической академии. Боясь, что он предаст их обоих вследствие ссоры с Ярошевичем на почве любовного соревнования, Никитин затеял его отравить и снабдил на этот предмет Ярошевича ядом. На суде Колосов — представитель мелкой хитрости и обыденного опыта — не мог отрицать своих поездок в Брюссель и сношений с жившими там лицами, с замечательным искусством подделавшими там акции, но, сознаваясь в этом, сочинил довольно неискусно длинный рассказ, в котором хотел приписать себе роль, похожую на роль современного нам Азефа. Вкрадчивым голосом, прищуривая маленькие глазки на измятом лице, он уверял присяжных, что ездил за границу с целью изобличить рус;
ских политических эмигрантов. Присяжные ему, однако, не поверили.
Гораздо тоньше и искуснее было сознание ряда подсудимых в деле о лжеприсяге в бракоразводном процессе 3-ных. В январе 1873 года ко мне как к прокурору петербургского окружного суда, пришла довольно пожилая женщина с сильной проседью и измученным лицом. Это была дочь известного в николаевские времена генерала П.1, главного заправилы в делах инвалидного капитала. Он дал за нею очень большое приданое, но таковое затем было конфисковано, когда обнаружилось, что роскошная жизнь генерала и его большие расходы имели источником сумму инвалидного капитала. Потеряв разжалованного в солдаты отца, застрелившегося под влиянием позора, г-жа 3-на потеряла и мужа, который, не привлекаемый более возможностью жить на широкую ногу на краденные у инвалидов деньги, стал от нее отдаляться, завел разные связи и, наконец, бросил ее с сыном на произвол судьбы без всяких средств, начав, после многих лет разлуки, требовать от нее развода с принятием ею вины на себя. Когда, возмущенная этим требованием, она категорически отказалась его исполнить, в консистории, по ходатайству ее мужа, занимавшего видное место в судебном ведомстве, возникло дело о ее прелюбодеянии. Свидетели последнего г. г. Залевский и Грохольский дали под присягой подробные показания о том, что присутствовали при этой грязной картине, которую, к стыду наших законов о духовном суде, необходимо было изобразить перед консисторией, чтобы расторгнуть ставшие невыносимыми или невыгодными брачные узы. Оскорбленная и испуганная этим, г-жа 3-на обратилась ко мне за помощью. Хотя передо мною было одно лишь ее заявление, но вид несчастной, опозоренной женщины, ее слезы и горячая искренность ее негодования убедили меня в правдивости ее рассказа, и я немедленно сообщил в синод, куда уже было переслано из консистории делопроизводство о расторжении брака, о том, что мною возбуждено следствие о клятвопреступлении свидетелей. Это следствие велось весьма энергично, и вскоре перед присяжными предстала живая иллюстрация одного из частых злоупотреблений, вызываемых нелепым и приводящим к безнравственным последствиям порядком осуществления.
‘ Имеется в виду известный казнокрад николаевского времени Политковский.
развода вследствие прелюбодеяния, порядком, при котором нередко великодушие обрекалось на позорную плотскую комедию, а низость и подлость находили себе «достоверных» помощников. Подсудимые — организатор всего Хороманский и свидетели Залевский и Грохольский, — не смущаясь предъявленным к ним обвинениям избрали для своей защиты очень ловкий маневр. Они поняли, что внушающая к себе доверие и почтительное сострадание личность г-жи 3-ой и все имевшиеся о ней сведения лишают их всякой возможности утверждать, что именно ее, эту пожилую, седеющую и согбенную под тяжестью пережитого женщину, видели они в «бракоразводной» гостинице «Роза» на факте нарушения супружеской верности. И вот, не отрицая действительности того, что они развязно и убежденно показали под присягой в консистории, они признали себя жертвами роковой ошибки, за которую их будто бы «наказует совесть». Дело, по их словам, произошло так: в театре некто Карпович показал Залевскому на даму, сидевшую в бельэтаже, и сказал, что это дочь знаменитого расхитителя инвалидного капитала П-го, по мужу 3-на; Залевский обратил на нее внимание Грохольского и под этим впечатлением они пошли в гостиницу «Роза», чтобы выпить и закусить. Здесь, по ошибке, они попали в отдельные номера, предназначенные для уединенных свиданий, и увидели там ту, которую в театре рассматривали как 3-ну, за занятием, обычным в таких номерах в полночные часы. О своем «открытии» они рассказали некоему Корзуну, а тот сообщил чуткому к своей супружеской чести 3-ну, и последнему ничего не оставалось, как обратиться к «бракоразводному ходатаю» Хороманскому, который и выставил указанных Корзуном свидетелей, то есть их, бедных подсудимых, попавших, «как кур в ощип», ибо, по предъявлении им гжи 3-ной, они решительно заявили, что она — не та. Оказалось, что, «к несчастью для правосудия», Карпович умер и не мог предстать перед судом, чтобы объяснить, на каком основании он ввел подсудимых в столь пагубное для них заблуждение. Не смущаясь этим, они сослались на свидетеля Иваницкого, который слышал, как Карпович в театре указывал Залевскому на даму, сидевшую в бельэтаже, и удостоверял, что это именно 3-на. При этом подсудимые объяснили суду и свое общественное положение: Залевский — как приготавливающийся окончить курс в Технологическом институте, Грохольский — как играющий на фортепьяно в «разных местах», и Хороманский — как занимающийся тем, что скоро собирается уехать из Петербурга. Иваницкий, мелкий канцелярский чиновник министерства путей сообщения, подтвердил на суде, что он слышал, как умерший Карпович в театре показывал одному из подсудимых сидевшую в ложе даму, называя ее по фамилии невинно опозоренной женщины. Показание было дано определенно и с горячностью человека, будто бы сознающего, что, свидетельствуя истину, он спасает людей от гибели. Однако пришибленная судьбою наружность свидетеля, его засаленный вицмундир, обтрепанные панталоны, отсутствие видимых признаков белья и нервное перебиранье старой форменной фуражки дрожащими, по-видимому, не от одного волнения, руками невольно вызвали с моей стороны ряд вопросов. «Что давали в театре?» — «Оперу». — «Какую — итальянскую или русскую?» — «Итальянскую». — «Где происходил слышанный разговор?» — «В проходе у третьего ряда кресел». — «А вы сами часто бываете в опере?» — «Да». — «А в каком ряду сидите — далеко или близко?» — «Как придется, так, во втором или третьем». — «Вы абонированы?» — «Что-с?» — «Ну, сколько платите за место?» — (тогда пела Патти, и места доставались по очень дорогой цене). «Когда рубль, а когда полтора». — «А сколько получаете по службе канцелярским чиновником?» — «Двадцать три рубля». — «А в каком театре это было (итальянские оперы давались в Петербурге исключительно в Большом театре, где ныне здание консерватории): в Большом или Мариинском?» — «В Мариновском». Свидетель сел на место, бросая беспокойные взгляды на скамью подсудимых, а я посоветовал присяжным обойтись без его показания, так как свидетель имеет слишком необыкновенные качества, чтобы пользоваться его рассказом, при обсуждении обыкновенного дела: он обладает удивительным свойством дальнозоркости, и для него до такой степени не существует непроницаемости, что из второго или третьего ряда кресел Мариинского театра он видит, кто сидит в бельэтаже Большого…
Источником собственного признания на суде бывают, наконец, побуждения, вытекающие из особого душевного строя. Сюда, во-первых, относится та явка с повинной, к которой в великодушном порыве прибегает человек для того, чтобы спасти близкое или дорогое лицо, дав ему время скрыться или бежать или направив исследование преступления на ложный путь. Такие случаи редки, но все-таки существуют, и мне в моей председательской практике пришлось видеть мать, которая принимала на себя вину своего внебрачного сына, заподозренного в убийстве посредством отравления. Затем собственное признание может быть делаемо из личных видов, не лишенных корысти или других расчетов, для того, чтобы по пословице «семь бед — один ответ», собрав над своей головою ряд поглощающих одно другое обвинений, освободить от преследования действительно виновных. В пятидесятых и шестидесятых годах при производстве следствий о лицах, оказавшихся оскопленными, большинство последних приводило в объяснение своего увечья один и тот же рассказ о том, как каждый из них шел лесом в одной из великорусских губерний, встретил неизвестного, разговорился с ним и расположился вместе закусить, причем выпил предложенный тем стакан водки, вина, воды или съел пряник и тотчас же потерял сознание, а когда пришел в себя, то почувствовал страшную боль и с ужасом увидел, что лишен неизвестным спутником вполне или отчасти половых органов, то есть неведомо для себя принял скопческую малую или большую печать, а оскопитель скрылся. Вслед за этим содержавшийся в курской тюрьме арестант-скопец, обвиняемый в ряде оскоплений и не только сознавшийся в этом, но даже явившийся с повинною, заявил, что он припоминает еще, что там-то и там-то он опоил сонным зельем или предложенным отравленным пряником встречного человека и оскопил его ad majorem gloriam1 «батюшки-искупителя Селиванова». Время преступления совпадало обыкновенно с временем несчастия, приключившегося бедному прохожему или проезжему. Между последним и курским тюремным сидельцем делали очную ставку, и они узнавали друг друга. При недостаточно выработанной экспертизе того времени дело кончалось обыкновенно оправданием оскопленного, а принявший вину на себя продолжал свои признания, спокойно проживая в курском остроге и в течение многих лет не отправляясь в Сибирь ввиду постоянно возникавших о нем новых дел. Таков был отставной солдат Маслов, сознавшийся.
' Для вящей славы.
в 114 оскоплениях. Он заместил мещанина Чернова, принесшего разновременно повинную в приобщении к «белым голубям» 106 оскопленных им. Есть, наконец, между последователями крайних и мрачных сектантских учений, вроде морельщиков, самосожигателей, бегунов, люди, считающие, что царствие небесное может быть достигнуто только тяжкими и незаслуженными земными испытаниями, и потому ищущие «принять страдание», возводя на себя небывалые преступления или обвиняя себя в совершении преступления, несомненно, содеянного другими. Я помню одного такого старика, принадлежавшего к секте бегунов, или странника так называемого сопелковского согласия, который, будучи задержан в Казани, возводил на себя разные преступления, с угрюмым упорство, м отвергая твердо установленные данные, указывавшие на его невиновность. Внизу протоколов своих показаний он писал полууставом: «За истинную православную христианскую веру раб божий Иона Воробьев руку приложил».
Мне приходилось раза два наблюдать собственное сознание под влиянием отчаяния. Так, тот Ярошсвич, о котором сказано выше, человек способный и в сущности недурной, вовлеченный в преступление своим отцом и Колосовым, упорно и весьма искусно отрицал свою виновность в провозе поддельных акций и в приготовлении к отравлению Колосова. Но когда ему показали переписку девушки, в которую он был страстно влюблен, с Колосовым, и он убедился, что она не только играла его чувством и насмехалась над ним в своих письмах, но даже состояла в связи с грязным и подозрительным Колосовым, он впал в глубокое отчаяние, и у него вместе со слезами горькой обиды вылилось откровенное во всем признание, на котором он и стоял до конца процесса.
Отсылая моих читателей к характерному поведению подсудимых по делам Овсянникова, Ландсберга, Гулак-Артемовской и Жюжан, считаю нужным заметить, что поведение подсудимых при следствии и на суде бывает различно не только в зависимости от значения их объяснений, но и от свойств их характера. Одни махают на все рукой и, как бы говоря: «Будь, что будет», — вяло реагируют на то, что перед ними и с ними происходит. Другие держат себя вызывающе, с известного рода бравадой или рисовкой. Третьи — сравнительно редкие — принимают живое участие в перекре;
стном допросе и вступают в словесную борьбу со свидетелями. Четвертые играют заранее обдуманную роль и дают объяснения, проникнутые таким ловким лицемерием, которому мог бы позавидовать Тартюф. Наконец, пятые, относясь в общем равнодушно или со спокойной сдержанностью к своему положению в деле, вдруг приходят в волнение и теряют самообладание по поводу какоголибо второстепенного и не имеющего особого значения эпизода. Я говорю, конечно, об общих преступлениях, а не о людях, обвиняемых в политических или религиозных преступлениях. Там их душевный строй и взгляд на значение содеянного совсем иной, чем у обвиняемых в обыкновенных преступлениях, не расходящихся с уголовным законом и обществом во взгляде на преступный характер тех или других действий. Все сводится у последних к отрицанию события преступления, или своей виновности, или, наконец, к стремлению картиной собственных страданий и испытаний заслонить картину своего преступного дела. Наоборот, в делах о преступлениях политического или религиозного характера обвиняемые в большинстве случаев отрицают цели, требования и самый источник карающего их уголовного закона. Они дают свои объяснения со страстностью убеждения в своей правоте в делах первого рода или с’оттенком мрачного фанатизма, не допускающего возможности поступить «инако», в делах второго рода.
Говоря о поведении обвиняемого на суде, я, конечно, разумею исключительно людей, находящихся в здравом уме, потому что образ действий людей, оказавшихся затем душевнобольными — так называемыми маниаками, то есть страдающими первичным помешательством (паранойя), внушается им болезненными представлениями. У этих несчастных, по большей части, является сначала навязчивая идея, чуждая здравой оценки обстоятельств и дикая по своему существу. Она возникает все чаще и чаще и приобретает, наконец, насильственно-навязчивый характер. Затем, человек мало-помалу сживается с нею, теряет способность относиться к ней критически и отдается во власть безумному представлению. Это представление составляет ядро бреда, вокруг которого начинают группироваться все мысли больного, и создается, таким образом, безумный круг идей, то есть целое миросозерцание. Здесь исследователь преступления и обвиняемый стоят не только на разных плоскостях понимания действий и побуждений последнего, но и на разных плоскостях представления о существующем в окружающем их мире.
Из среды обвиняемых в обыкновенных преступлениях мне вспоминается Егор Емельянов — номерной банщик по ремеслу, утопивший свою наскучившую ему жену в Ждановке, — и мещанин Караганов, выдавший себя за владетельного кавказского князя, женившийся на прекрасной молодой девушке из лучшего харьковского общества и принятый с большим вниманием русским послом в Константинополе, обвинявшийся в целом ряде грубейших мошенничеств. Оба они держали себя со свидетелями, так сказать, зуб за зуб; первый даже покрикивал на них, причем его очень красивое лицо бледнело и искажалось от злобы. Замечательно, что, защищаясь «unguibus et rostro»[1] против моего обвинения, построенного на косвенных уликах, он после произнесения обвинительного приговора подал заявление, в котором совершенно неожиданно, сознаваясь в своем преступлении, отказался от кассационной жалобы и просил о скорейшем приведении приговора в исполнение.
Из державших себя с напускною бравадой мне особенно вспоминается мещанка Разомасцева, обвинявшаяся в краже цепи ордена Андрея Первозванного у военного министра Милютина и в краже нескольких карманных часов (между которыми находились часы, бывшие при Александре I в день Аустерлицкого сражения) из стенной витрины в кабинете великого князя Константина Николаевича в Мраморном дворце. В оба помещения она успела проникнуть по внутренним ходам, никем не замеченная, и благополучно скрыться, будучи обнаружена лишь через несколько дней, когда пришла продавать часы Александра I в часовой магазин Бург. Бойкая девушка двадцати двух лет с миловидным лицом, большими живыми черными глазами и постоянной веселой усмешкой, она, улыбаясь, рассказывала про свои похождения, остроумно описывая свое изумление при виде, как мало охраняются от посторонних входы и выходы в «этакие-то важные дома». «Ну, как тут было не взять? — прибавляла она со смехом, — уж очень оно лестно». Во время осмотра по ее указаниям пути, которым она проникла в кабинет великого князя в Мраморном дворце и в уборную военного министра, ее объяснение пожелал выслушать августейший хозяин дворца, и на вопрос его, как у нее хватило смелости проникнуть в кабинет, куда он мог войти каждую минуту и застать ее на краже, она ответила, смеясь: «Смелым бог владеет», — и пояснила: «Кабы изволили войти до этих самых часов, так я бы сказала, что заблудилась по лестницам, и попросила извинения, а если бы после часов, так то же самое сказала бы, да и ушла бы с часами. Может быть, даже лакея меня проводить послали бы: ведь не стали бы смотреть на стену, все ли там часы. Ну, а когда я их брала, так в кабинете никого не было». Эти же объяснения повторила она и в судебном заседании, постоянно посмеиваясь и весело поглядывая на публику.
Напускное спокойствие и известного рода молодечество подсудимого вспоминаются мне и по делу молодого человека Александра Штрама, обвиняемого в убийстве своего дяди с целью грабежа. На суде он, чрезвычайно развязно посмеиваясь и покручивая усики, рассказывал, не без оттенка комизма, выдуманную им историю ссоры с убитым, которого он в действительности убил сонного, разрезал на куски и спрятал в сундук. Показания свидетелей он слушал, иронически пожимая плечами и стараясь показать, что ему все нипочем. На нем сказывалось влияние кружка разных темных личностей, между которыми особенно выделялся допрошенный в качестве свидетеля опустившийся «на дно» бывший студент, принимавший, по его словам, под свое покровительство развитых молодых людей и. дававший им аудиенции в кабаках, «покуда не иссякнут источники». А между тем, находясь в учении у переплетного мастера Бремера, подсудимый был старательным, скромным и любимым всеми юношей очень мягкого характера и отличался большим состраданием даже к животным. В судебном заседании Бремер дрожащим голосом описал все эти его свойства и тоном невольной нежности заявил, что просто не может поверить, чтобы такой добрый молодой человек мог совершить такое злое дело. Подсудимый слушал его отзывы о себе с презрительной усмешкой и на вопрос председателя, желает ли он дать какие-либо объяснения по поводу показания свидетеля, ответил, пожимая плечами: «Да что ж тут объяснять? Мало ли чего не наболтает старик», — и снова сел на свою скамью. Но когда судебный пристав пошел за новым свидетелем, и в зале наступило молчание, Штрам вдруг склонил голову на руки и горько заплакал. Очевидно, что слова доброго немца пробудили в его ожесточенном сердце лучшие чувства. И затем он не сразу попал в тон прежнего молодечества…
«Принципиально я не желал бы быть наказан, но в данном конкретном случае ничего не имею против», — сказал в своем последнем слове один из рисовавшихся своим объективным отношением к самому себе подсудимый, обвинявшийся в присвоении себе чужого титула и фамилии. В деле о расхищении имущества умершего богатого купца Солодовникова, оскопленного в детстве своим дядей и страдавшего от этого нравственно и физически всю жизнь, подсудимый Сусленников, лицемерно удивлявшийся своему привлечению и повествовавший с поддельным умилением о нежной любви к себе покойного, с которым он, однако, ничего не мог иметь общего в духовном отношении, на вопрос о причинах такой дружбы отвечал, что таковая заключалась в том, что у него очень мягкие руки, удобные и приятные для растираний. Кончая свою обвинительную речь, я выразил уверенность, что присяжные признают Сусленникова имеющим руки не только мягкие, но и длинные, — и эта уверенность меня не обманула.
Я говорил выше, что бывают, наконец, отдельные эпизоды во время слушания дела, когда обвиняемый, державший себя спокойно или безучастно на суде, вдруг начинает волноваться или раздражаться и теряет свое самообладание. Таково было волнение Гулак-Артемовской во время ядовитого показания против нее свидетеля Полевого. Нечто подобное произошло на моих глазах в процессе Янсен и Акар, обвиняемых в привозе в Россию из-за границы и сбыте фальшивых десятирублевых ассигнаций. Герминия Акар, бойкая француженка, содержала в Михайловской улице в доме, где ныне Европейская гостиница, обширный магазин и мастерскую дамских платьев и имела многочисленных великосветских заказчиц, сбывая им при расчетах, во время любезной болтовни, фальшивые бумажки, фабрикуемые Янсенами за границей и привозимые курьером французского посольства Обри. Она упорно отрицала свою вину и защищалась очень искусно, с большим достоинством и спокойствием, так что могла произвести впечатле, но ние несчастной жертвы случайных обстоятельств. Но это продолжалось лишь до того времени, когда в залу заседания была введена бывшая у ней мастерицей Маргарита Дозьер. Последняя пробыла у Акар три месяца и вследствие ссоры с нею была ею рассчитана, причем молодой красивой иностранке, выброшенной на улицу большого, чужого и полного соблазнов города, ее бывшая хозяйка всучила в следуемые по расчету тринадцать рублей фальшивую десятирублевку. Через два года после этого Дозьер явилась в залу суда свидетельствовать против Акар, блистая красотою, в изящном дорогом наряде и с большими бриллиантами в ушах и на пальцах. Ее вид почему-то, быть может, по каким-нибудь воспоминаниям о распрях интимного свойства до того раздражал подсудимую, что она потеряла все свое спокойствие, стала усиленно жестикулировать, постоянно перебивать Дозьер и, задыхаясь от гнева, предлагать той вопросы оскорбительного характера. Дозьер отвечала ей с благодушной улыбкой и очень мягко, очевидно, давно простив ей эти десять рублей и, быть может, даже считая их первым толчком к своему настоящему эфемерному благополучию. Но Акар просто выходила из себя и в своих длинных и ненужных объяснениях указывала на такие условия и обстановку в хозяйстве и «делопроизводстве» своей мастерской, которые составляли сами по себе улику против нее самой. Таков же был в своих показаниях Амфилогий Караганов, привлеченный к суду вместе с братьями Мясниковыми за подлог завещания от имени Беляева, в чем он и сознался. Кратко и без всяких подробностей признавал он свою вину в том, что на предъявленном ему Мясниковым белом листе подделал, после нескольких проб, подпись Беляева, и апатично относился ко всему во время длившегося много дней дела, очень волновавшего общество. Но лишь ему или кому-либо другому приходилось упомянуть о его семейной жизни с хористкою, бывшею прежде на содержании у одного из его патронов, как он приходил в крайнее волнение, начиная со слезами и бессвязно твердить, что он всегда был человеком честным, верным своим хозяевам и никогда не торговавшим женщинами, ни своими, ни чужими. Очевидно, что воспоминание о семейной жизни и предшествующем ей браке будило в нем какие-то болезненные и едкие воспоминания, овладевавшие его мыслью и словом.
Был, однако, и случай несколько противоположного характера. Судился в Петербурге крестьянин Федор Дмитриев по обвинению в умышленном поджоге своей мелочной лавки с целью получения страховой премии. Как всегда в делах о поджогах, обвинение строилось на косвенных уликах, которые складывались против подсудимого в довольно неразрывную цепь. Человек робкий и, повидимому, большой тяжкодум, он на суде только вздыхал и крестился, а на предложения мои как председателя дать объяснения по поводу тех или других показаний говорил: «Не виноват, вот вам крест святой! Объяснить ничего не могу, просто словно наваждение какое». Совершенно неожиданно один из свидетелей упомянул о большом еже, который жил у подсудимого в лавке, и дальнейшими расспросами выяснилось, что еж был довольно ручной, расхаживал ночью по лавке и забирался в разные пустые хранилища. Оказалось также, что пожар начался на рассвете в запертой на ночь лавке, с того ее угла, где хранился большой запас пачек с серными спичками, и что никаких следов материала для поджога найдено не было. Затем, чтением акта осмотра пожарища и допросом страхового агента было установлено, что в том месте, где хранились сгоревшие и обуглившиеся спички, найден был труп обгорелого ежа. Страховой агент на вопросы защитника признал возможным, что пожар мог произойти от воспламенения спичек, между которыми пролезал куда-либо еж, задевая их своими иглами. С этого момента подсудимый совершенно преобразился. Перед ним мелькнула надежда на спасение, и он стал давать оживленные объяснения о привычках рокового для него, злополучного ежа. Объяснения эти создали у присяжных мнение о том, что еж мог, действительно, быть виновником пожара, и это послужило основанием к сомнению в виновности подсудимого, а последнее привело к оправдательному приговору.
Существует мнение, что поведение обвиняемого на суде может быть тоже относимо к числу доказательств за или против него. С этим никак нельзя согласиться. Никогда не должно забывать, что во время первого допроса при следствии обвиняемый, а в особенности человек, сидящий на скамье подсудимых в зале судебных заседаний, с каким бы видимым спокойствием он себя ни держал, не находится во вполне нормальном состоянии. Естественное волнение после долгих месяцев ожидания, иногда в полном одиночестве тюремного заключения, страх перед приговором, стыд за себя или близких и раздражающее чувство выставленности «напоказ» перед холодно-любопытными взорами публики на огромное число подсудимых, независимо от содержания их объяснений, действует подавляющим или возбуждающим образом. Начальственный, отрывистый тон председателя может еще больше запугать или взволновать обвиняемого. Спокойное к нему отношение, внимание к его объяснениям, полное отсутствие иронии или насмешки, которыми так грешат французские президенты суда, а иногда и слово ободрения входят в нравственную обязанность судьи, который должен уметь без фарисейской гордыни представить себя в положении подсудимого человека. Говорить о поведении на суде как об одном из доказательств невозможно. Иное дело, житейское поведение обвиняемого, строго проверенное по не возбуждающим сомнения показаниям. Изучение его на суде может быть только полезно для правосудия, если им разъясняются такие свойства обвиняемого, которыми вызваны движущие побуждения его преступного деяния или, наоборот, с которыми это деяние находится в прямом противоречии. Поэтому, например, вспыльчивость человека, не раз проявленная им в жизни, конечно, должна иметь значение при обвинении его в убийстве в запальчивости и раздражении, или его чувственное, наглое и грубое отношение к женщинам не может быть упускаемо из виду при оценке обвинения его в насильственном поругании целомудрия девушки. Но, с другой стороны, расточительность обвиняемого лишена всякого значения при обвинении его в богохулении, и говорить о его вспыльчивости при обвинении в государственной измене было бы по меньшей мере излишне.
Переходя преимущественно к свидетелям и потерпевшим от преступления, я затрудняюсь часто приводить отдельные их показания, несмотря на всю их нередкую характерность. Это заняло бы слишком много места и утомило бы внимание читателя. Поэтому приходится, на основании многолетних наблюдений и судейского опыта, ограничиться лишь повторением указаний общих, особенных и исключительных свойств свидетелей, намеченных мною в неоднократных публичных моих лекциях о так называемой экспериментальной психологии, которой придается преувеличенное и не осуществимое на практике значение. Оставляя в стороне подробный разбор приемов и методов этой новой науки в применении ее к свидетельским показаниям, я нахожу, что среди общих свойств свидетелей, которые отражаются не только на восприятии ими впечатлений, но и на способе передачи последних, видное место занимает, во-первых, темперамент свидетеля, различаемый как темперамент чувства (сангвинический и меланхолический) и как темперамент деятельности (холерический и флегматический). Для опытного глаза, для житейской наблюдательности эти различные темпераменты и вызываемые ими настроения обнаруживаются очень скоро во всем: в жесте, тоне голоса, манере говорить, способе держать себя на суде. Типическое настроение, свойственное тому и другому темпераменту, дает возможность представить себе и отношение свидетеля к обстоятельствам, им описываемым, и понять, почему и какие именно стороны в этих обстоятельствах должны были привлечь его внимание и остаться в его памяти, когда многое другое из нее улетучилось.
Во-вторых, в оценке показания играет большую роль пол свидетеля. Опыт показывает, что чувствительность к боли, обоняние, слух и в значительной степени зрение у мужчин выше, чем у женщин, и что, наоборот, любовь к жизни, выносливость, вкус и вазомоторная возбудимость у женщин выше. Вместе с тем, у женщин гораздо сильнее, чем у мужчин, развита потребность видеть конечные результаты своих деяний и гораздо менее развита способность к сомнению, причем доказательства их уверенности в том или другом более оцениваются чувством, чем анализом. Отсюда преобладание впечатлительности перед сознательною работою внимания, соответственно ускоренному ритму душевной жизни женщины. Наконец, опытом установлено, что мужчинам время кажется длиннее действительного на 35 процентов, женщинам же — на 111 процентов, а время ведь играет такую важную роль в показаниях. В каждом из этих свойств содержатся и основания к оценке достоверности показания свидетелей, а также и потерпевших от преступления, которые часто подлежат допросу в качестве свидетелей.
В-третьих, возраст свидетеля влияет на его показание, особенно если оно не касается чего-либо выдающегося. Внимание детей распространяется на ограниченный круг предметов, но детская память удерживает иногда некоторые подробности с большим упорством. Детские воспоминания, обыкновенно, обратно пропорциональны — как и следует — протекшему времени, то есть ближайшие факты помнятся детьми сильнее отдаленных. Наоборот, память стариков слабеет относительно ближайших обстоятельств и отчетливо сохраняет воспоминания отдаленных лет юности и даже детства. Многие старики с большим трудом могут припомнить, где они были, кого и где видели накануне или несколько дней назад, и отчетливо, в подробности, способны рассказать о том, что им пришлось видеть или пережить десятки лет назад.
В-четвертых, большой осторожности при оценке показания требует поведение свидетеля на суде, отражающееся на способе передачи им своих воспоминаний. Замешательство его еще не доказывает желания скрыть истину или боязни быть изобличенным во лжи, улыбка и даже смех при даче показания о вовсе не вызывающих веселости обстоятельствах еще не служат признаком легкомысленного отношения его к своей обязанности свидетельствовать правду; наконец, нелепые заключения, выводимые свидетелем из рассказанных им фактов, еще не указывают на недостоверность этих фактов. Свидетель может страдать навязчивыми состояниями без навязчивых идей. Он может быть не в состоянии удержаться от непроизвольной и неуместной улыбки, от судорожного смеха (risus sardonicus), от боязни покраснеть, именно под влиянием которой кровь бросается ему в лицо и уши. Надо в этих случаях слушать, что говорит свидетель, совершенно исключая из оценки оказанного то, чем оно сопровождалось. Свидетель может быть глуп от природы, а глупость отличается от ума лишь количественно, а не качественно, и глупец, прежде всего, является свободным от сомнений. Но глупость надо отличить от своеобразности, которая тоже может отразиться на показании.
Обстановка судебного заседания, ее торжественность, присутствие публики, сознание своей ответственности и перед законом, и перед собственной совестью — все это может иногда очень сильно отражаться на смущении свидетеля и на некоторой его растерянности или взволнованности. Но по этим его состояниям отнюдь не следует судить о недостоверности его показания. Мне пришлось самому три раза быть свидетелем — два у мирового судьи и один в окружном суде — и, несмотря на то, что я сам был много лет почетным мировым судьей и один из допрашивавших меня судей был моим товарищем по мировому съезду, и на то, что мне пришлось давать показания в той самой зале окружного суда, в которой я сам в течение 10 лет допрашивал в качестве прокурора и председателя суда огромное число свидетелей, я был смущен и взволнован. В одном случае дело шло о нарушении порядка в суде несколькими лицами, желавшими во что бы то ни стало проникнуть в залу судебного заседания по делу офицера Ландсберга, обвиняемого в убийстве; в другом — я был свидетелем нарушения общественной тишины и благопристойности; в третьем — мне пришлось, среди жадного любопытства публики отвечать по делу о плагиате в драматическом произведении на сыпавшиеся, как из рога изобилия, вопросы поверенного одной из сторон, за которыми чувствовалось желание получить от меня сведения о происхождении одного из романов великого русского писателя. С грустным чувством вспоминаю я характер допроса по второму из этих дел, когда мое смущение было вызвано обращением мирового судьи, далеким от того, что мы, старые судебные деятели, привыкли видеть в лучшие годы нового суда.
Затем свидетель, смущенный непривычною обстановкой судебного заседания или вопросами сторон, может в течение одного и того же допроса проявить различные настроения. Мне пришлось обвинять в Харькове крестьян Лобойко и Китаева, обвиняемых в покушении на убийство содержательницы постоялого двора Рулевой, которая заподозрила их в краже спрятанных у нее во дворе двух волов, в чем она была совершенно права. Один из подсудимых стал на страже у дверей, а другой набросился на нее сзади и нанес ей около двадцати ран, после которых она каким-то чудом осталась жива. На суде она сначала испугалась, увидя подсудимых, но, выпив воды, ободрилась и дала толковое и точное показание. Защитник — частный ходатай с профилем Шиллера, с развязными ухватками провинциального «сердцееда» и большим нахальством в исполнении своих обязанностей — спросил ее, почему она полагает, что обвиняемые хотели ее убить. «Да как же, батюшка, — отвечала она добродушно, — не без причины они меня резали…» — «Но почему вы думаете, что они хотели именно убить?» — Рулева развела руками и молчала. «Я вас снова спрашиваю, на чем вы основываете ваше умозаключение, что они имели намерение вас убить?» Рулева смущенно оглянулась вокруг и молча поникла головой. «Вы не отвечаете? Господа присяжные, обратите внимание на то, что свидетельница на мои категорические вопросы не отвечает. Вы молчите, свидетельница, вы упорно молчите. Господа присяжные, оцените это молчание!» — «Ах, отцы мои, — внезапно оживившись и всплеснув руками, воскликнула Рулева, обращаясь к суду, — я у этих под ножом была, а этот, — она ткнула пальцем в сторону шиллеровского профиля, — спрашивает, хотели ли они меня убить!..» Наконец, смущение свидетеля может вызваться и его личною деликатностью, благовоспитанностью, не позволяющими ему, несмотря на настояние допрашивающих, выразиться резко или в оскорбительном смысле о ком-либо. Я помню дело об одном ходатае по делам, обвиняемом в разных корыстных преступлениях, который защищался сам и вызывал в качестве свидетеля в свою пользу предводителя дворянства графа Ш., человека высокой порядочности. На вопрос подсудимого, говорил ли свидетелю о нем один его знатный доверитель и что именно он сказал, граф Ш. смутился и после некоторого колебания попросил избавить его от ответа на этот вопрос. Но подсудимый настаивал и просил председателя указать свидетелю на его обязанность давать показания. «Я очень просил бы вас избавить меня от ответа», — отвечал, все более и более смущаясь, граф Ш. «Нет! — воскликнул подсудимый, — мне очень важно, чтобы присяжные знали мнение обо мне моего многолетнего доверителя, князя NN. Я настаиваю, чтобы вы показали, что именно сказал он вам…» — «Он сказал, — и граф Ш. запнулся, взглянув умоляюще на подсудимого, — он сказал… но я очень прошу вас избавить меня от ответа…" — «Нет-с! Я требую, чтобы вы сказали», — повторил свое настояние в непостижимом ослеплении подсудимый. «Он сказал, — и лицо графа Ш. залила краска, — он сказал, …что вы мошенник… «
В-пятых, наконец, некоторые физические недостатки, делая показания свидетеля односторонними, в то же время, так сказать, обостряют его достоверность в известном отношении. Так, например, известно, что у слепых чрезвычайно тонко развиваются слух и осязание. Поэтому все, что воспринято ими этим путем, приобретает характер особой достоверности. Известный окулист Люфур даже настаивает на необходимости иметь в числе служащих на быстроходных океанских пароходах одного или двух слепорожденных, которые ввиду крайнего развития своего слуха могут среди тумана или ночью слышать приближение другого судна на громадном расстоянии. То же можно сказать и о более редких показаниях слепых, основанных на чувстве осязания, если только оно не обращается в болезненное преувеличение числа ощущаемых предметов или преувеличение их объема. Кроме того, опытные исследования указывают на существование у слепых особого чувства, своеобразного и очень тонко развитого, — чувства препятствий, развивающегося независимо от осязания и помимо его вследствие повышенной чувствительности головной кожи. Когда это чувство бывает в каждом отдельном случае вполне установлено, ему приходится отводить видное место по отношению к топографической части показания слепых.
Обращаясь от этих общих положений к тем особенностям внимания, в которых выражается разность личных свойств и духовного склада людей, можно отметить в общих чертах несколько характерных видов внимания, знакомых, конечно, всякому наблюдательному судье. Отражаясь в рассказе о виденном и слышанном, внимание, прежде всего, может быть разделено на сосредоточенное и рассеянное. Внимание первого рода, в свою очередь, представляется ими сведенным почти исключительно к собственной личности созерцателя или рассказчика или же, наоборот, отрешенным от этой личности, которая в их передаче отходит на задний план. Есть люди, которые, о чем бы они ни думали, ни говорили, делают центром своих мыслей и представлений самих себя и проявляют это в своем изложении. Для них — сознательно или невольно — все имеет значение лишь постольку, поскольку и в чем оно их касается. Ничто из окружающего мира явлений не рассматривается ими иначе, как сквозь призму собственного «Я». От этого маловажные сами по себе факты приобретают в глазах таких людей иногда чрезвычайное значение, а события первостепенной важности представляются им лишь отрывочными строками «из хроники происшествий». При этом житейский размер обстоятельств, на которые устремлено такое внимание, играет совершенно второстепенную роль. Важно лишь то, какое отношение имело оно к личности повествователя. Поэтому обладатель такого внимания нередко с большею подробностью и вкусом будет говорить о вздоре, действительно только его касающемся и лишь для него интересном, будь то вопросы сна, удобства костюма, домашних привычек, тесноты обуви, сварения желудка и т. п., чем о событиях общественной важности или исторического значения, свидетелем которых ему пришлось быть. Из рассказа его всегда ускользает все общее, родовое и широкое в том, о чем он может свидетельствовать, и остается, твердо запечатленное в памяти, лишь то, что задело его непосредственно. В памяти свидетеля, питаемой подобным вниманием, напрасно искать более или менее подробной или хотя бы только ясной картины происшедшего или синтеза слышанного и виденного. Но зато она может сохранить иногда ценные характеристические для личности самого свидетеля мелочи. Когда таких свидетелей несколько, судье приходится складывать свое представление о том или другом обстоятельстве из их показаний, постепенно приходя к уяснению себе всего случившегося. При этом необходимо бывает мысленно отделить картину того, что в действительности произошло на житейской сцене, от подобной словоохотливости свидетелей. Надо заметить, что рассказчики с такой памятью не любят выводов и обобщений и в крайнем случае, наметив их слегка, спешат перейти к себе, к тому, что они сами пережили или ощутили. «Да! Ужасное несчастье, — говорит, например, такой повествователь, — представьте себе, только что хотел я войти, как вижу… ну, натурально, я испугался, думаю, как бы со мною… да вспомнил, что ведь я… тогда я стал в сторонке, полагая, что, быть может, здесь мне безопаснее, — и все меня так поразило, что, при моей впечатлительности, мне стало…», и т. д., и т. д. Несчастие, поразившее сразу ряд людей, обыкновенно дает много таких свидетелей. Все сводится у них к описанию борьбы личного чувства самосохранения с внезапно надвинувшеюся опасностью, и этому описанию посвящается все показание, с забвением о многом, чего несомненно, нельзя было не видеть или не слышать. Таковы были почти все показания, данные на произведенных под моим наблюдением следствиях о крушении императорского поезда в Борках 17 октября 1888 года и о крушении парохода «Владимир» в августе.
1894 года на пути из Севастополя в Одессу. У нас, на Руси, под влиянием печальных воспоминаний о старых судах, когда можно было «затаскать человека», показание очень часто носит слишком личный характер вследствие пугливого отношения свидетеля к происходившему перед ним и желания избежать возможности видеть и слышать то, о чем, может быть, придется показывать потом на суде. Изложение обстоятельств, по отношению к которым рассказчик старался избежать положения свидетеля, обращается незаметно для него самого в изложение того, что он делал и думал, а не того, что случилось перед ним.
В полной противоположности с таким показанием находится то, в котором свидетель старается понять значение явления и, не останавливаясь долго на его подробностях и мелочах, стремится уяснить себе смысл и важность того или другого события. Человек, дающий такого рода показание, зачастую совершенно не задумывается над тем, в каком отношении к нему самому находится то или иное обстоятельство, и с большой легкостью из наблюдателя становится мыслителем по поводу созерцаемого или услышанного. Такой свидетель, определив точно, верно и иногда вполне объективно главные черты события, сами собой слагающиеся в известный вывод, не может, однако, указать времени происшествия, места, где он сам находился, своих движений и даже слов. Но этого нельзя объяснить простой рассеянностью или невнимательностью свидетеля в его обычной, повседневной жизни и считать его человеком «не от мира сего». На простую и привычную обстановку внимание его распределяется равномерно, но если событие выходит из ряда обыкновенных явлений жизни и поражает своею неожиданностью и богатством возможных последствий, живая работа мысли и чувства свидетеля выступают на первый план. Способность сосредоточиваться на мелочах на время подавляется, и в памяти свидетеля частное затемняется общим, характер события стирает его подробности. Опытный судья никогда не станет сомневаться в правдивости такого показания из-за того только, что свидетель, изложив в подробностях бедный впечатлениями день, не в состоянии припомнить многое лично о себе по отношению ко дню, полному сильных впечатлений. «Этот человек лжет, — скажет поверхностный и поспешный наблюдатель, — он с точностью определяет, в котором часу дня и где именно он нанял извозчика, чтобы ехать с визитом к знакомым, и не может определительно припомнить, от кого именно вечером в тот же день, в котором часу и в какой комнате он услышал о самоубийстве сына или о трагической смерти жены…» «Он говорит правду, — скажет опытный судья, — и эта правда тем вероятнее, чем больше различия между обыденным фактом и потрясающим событием, между обычным спокойствием после первого и ошеломляющим вихрем второго…».
Внимание (и память, на нем основанная) рассеянное есть то, которое не может сосредоточиться на одном предмете, а развлекается целым рядом побочных обстоятельств. Мысль и наблюдения человека, обладающего таким вниманием, никогда не имеют прямого направления, а заходят в стороны, задевают второстепенные данные, иногда ничем не связанные с предметом, который первоначально привлекал внимание. Нужно немало терпения и снисхождения к свидетелю, повествование которого идет ломаной линией и постоянно отвлекается в сторону, чтобы спокойно выслушивать все ненужное и сохранять нить Ариадны в лабиринте словесных отступлений и экскурсий по сторонам. Таковы свидетели, начинающие свое повествование «ab ovo», не упускающие случая передать подробные биографические о себе или других сведения и вообще отдающиеся безотчетно и безгранично своим воспоминаниям; при этом из существенного, случайного и второстепенного получается в ходе их мышления одна бесформенная масса без всякой перспективы. Тип подобных рассказчиков настолько известен и, к сожалению, так часто встречается, что нет нужды приводить примеры. Но наша русская жизнь представляет одну характерную особенность, на которую нельзя не указать. Это любовь к генеалогии и семейным сведениям, тягостные как со стороны слушателя, предлагающего вопросы из этой области, так и со стороны рассказчика, прибегающего к ненужным подробностям. Случается, что рассказчик, взволнованный каким-нибудь особенным событием, сжато и последовательно передавая о нем, бывает вынужден назвать то или другое имя. Горе ему, если среди слушателей есть человек с рассеянным вниманием. Такой человек способен среди общего напряженного внимания слушателей прервать самое существенное место повествования и изложение внутреннего смысла события или значения его как общественного явления и спросить: «Это какой N.N. Тот, что женат на М.М.?» или «Это ведь тот N.N., который, кажется, служил в кирасирском полку?», или «А знаете, я ведь с этим N.N. ехал однажды на пароходе. Это ведь он женился на племяннице М., который управлял Казенной палатой? Где только, не помню… ах да! в Пензе или… нет, в Тамбове… Нет, нет! Вспомнил! — именно в Пензе… а брат его…» и т. д. Когда человек с таким рассеянным вниманием, направленным на мелкие, незначащие подробности, становится свидетелем на суде, он нередко плохо отдает себе отчет о сущности и центре тяжести своего рассказа. В большинстве случаев умственно ограниченный, педантично исполнительный в служебном или светском обиходе и вместе с тем полный самодовольства, такой рассказчик, помимо экскурсий в область брачных и родственных отношений, отличается еще особенной точностью в названиях и топографических подробностях. Он не назовет человека просто по фамилии, а непременно прибавит чин, имя и отчество, не скажет: Петербург, Нижний, «Исакий», Синод, конка, а всегда — Санкт-Петербург, Нижний-Новгород, храм Исаакия Далматского, Святейший правительствующий Синод, конно-железная дорога и т. д.
Показания подобного рода свидетелей могут сразу показаться полными и точными, но эта полнота лишь кажущаяся. Педантическое усвоение себе подробностей, этих «выпушек и петличек» свидетельского показания, не дает вниманию возможности сосредоточиться на главном и единственно нужном. В некоторых мемуарах рассказывается, что в прежние годы воспитанникам закрытых казенных учебных заведений подавали пирожки, которые, при больших размерах, оказывались внутри почти пустыми. Воспитанники прозвали их «пирожками с ничем». С этими «пирожками с ничем» можно сравнить часто очень подробные и вполне корректные показания свидетелей, достигших успеха в изощрении рассеянной памяти. Опытному судье всегда будет предпочтительнее неполное в подробностях, с пробелами и «запамятованиями» показание свидетеля, живо воспринимающего и различно отзывающегося на впечатления неодинаковой ценности.
Внимание может направляться или на процесс действий, явлений и собственных мыслей, или же на конечный их результат, так сказать, на итог их. Способ изложения обыкновенно чрезвычайно ярко выражает это. Одни свидетели, передавая виденное и слышанное, неизбежно излагают все в порядке последовательности; другим же, наоборот, хочется скорее сказать главное. Первых при допросе приходится нередко просить сократить свой рассказ, вторых же приходится от конечного итога их рассказа возвращать к подробностям места, времени, обстановки и т. п. Но, делая это, не надо забывать осторожности, особенно со свидетелями первого рода, так как наклонность к процессуальному изложению обыкновенно бывает связана еще с другими свойствами или, вернее, привычками, причем свидетель усиленно цепляется за последовательность и постепенность впечатлений и путается в воспоминаниях, если только эта последовательность нарушается чем-нибудь извне. Эти же свойства и особенности рассказчика проявляются обыкновенно и в том, как он слушает. Есть люди, умеющие ценить логическую и психологическую нить повествования, отдельные части которого, строго связанные между собой, содействуют нарастанию настроения, достигающего своего апогея в заключении, в освещающей и осмысливающей все событие картине или лирическом порыве; но есть и другие слушатели — нетерпеливые, жаждущие скорейшей «развязки», высказывающие о ней догадки во всеуслышание или задающие досадные вопросы. Среди читателей, преимущественно между женщинами, есть такие, которые, начиная чтение повести или романа, заглядывают прежде всего в последнюю главу, желая узнать, чем и как все окончилось. Бывают и свидетели, подобные таким читателям.
Есть, наконец, два рода внимания сообразно со способностью души реагировать на внешние впечатления. Одни с полным самообладанием и вполне объективно как бы регистрируют то, что приходится видеть или слышать, и внутреннюю, душевную переработку всего этого начинают лишь тогда, когда прекратилось внешнее воздействие на их слух или зрение. У таких людей все воспринятое ими сохраняет в памяти большую ясность и не страдает пробелами, являющимися результатом перерывов внимания. Это те, которые, «научившись властвовать собою», по образному выражению великого поэта, умеют «держать мысль свою на привязи» и «усыплять или давить в сердце своем мгновенно прошипевшую змею».
Не то бывает с другими, которые отдаются во власть своим душевным движениям. Сразу и безусловно завладевая ими, эти движения прежде всего поражают внимание. Нельзя здесь говорить о забывчивости человека или недостатке внимания: последнее просто не существует вовсе — оно парализованно. Таковы люди, по выражению того же Пушкина, «оглушенные шумом внутренней тревоги», тем шумом, который действует подавляющим образом на способность вдумываться в окружающее и даже просто замечать его. В таком положении зачастую бывают потерпевшие от преступления, которых допрашивают в качестве свидетелей, бывает изредка и подсудимый, искренно желающий быть добросовестным свидетелем в деле о своем преступлении, о своем несчастье. Чем внезапнее впечатление, вызывающее сильное душевное движение, тем более оно овладевает вниманием и тем быстрее внутренние переживания заслоняют собою внешние обстоятельства. Весьма редкие из подсудимых, совершивших преступление под влиянием аффекта, в состоянии изложить подробности решительного момента, но это не мешает им помнить быструю смену и перекрещивание в их душе мыслей, образов, чувств до сделанного ими удара, до оскорбления, выстрела, до расправы ножом.
Зачастую человек, отличающийся сильной душевной восприимчивостью, бывающей во власти так называемой вспыльчивости (которую не следует смешивать с запальчивостью, являющейся состоянием не внезапным, а нарастающим, питающим само себя, подобно ревности), из потерпевшего в начале столкновения становится преступником в конце его. Если, однако, он владел собой после вспышки и затаенного гнева и подавил в себе мстительное движение, его внимание, тем не менее, в большинстве случаев действует лишь до определенного момента, затем являются отдельные проблески, не имеющие между собой связи. Оскорбительное слово, угрожающий жест, вызывающая поза, питающие давнишнее негодование, тайную ненависть, прочно сложившееся презрение заставляют взор и слух «вспылившего» обращаться внутрь и терять способность воспринимать внешнее. Этим надо объяснить то, что возмущенный до последней степени обиженный не тотчас же «выходит из себя» после оскорбления, а лишь спустя некоторое время, в течение которого обидчик успел уже спокойно обратиться к другому разговору или занятию. Это затишье перед грозой. Внезапно прорывается в самой резкой форме протест против слов, движений личности обидчика. Не следует думать, что человек, промолчавший первоначально и только через известный промежуток времени проявивший свое негодование криком, исступлением, ударами, мог в этот перерыв наблюдать и направлять на что-либо свое внимание. В такой момент он ничего не видит и не слышит: он весь во власти охватившего его вихря внутренних вопросов: «Да как он смеет?! Да что же это такое? Да неужели я это перенесу?» — и т. д. Но если даже ему удастся овладеть собой, приняв решение пропустить слышанное «мимо ушей» или представившись непонявшим из уважения к той или иной обстановке или в расчете на будущую месть, требующую еще обдумывания, потерпевшему все-таки требуется столько сил на внутреннюю борьбу с закипевшими в нем чувствами, что его внимание на время совсем подавлено. Этим объясняются разные неловкости или ответы невпопад внезапно оскорбленного, что каждому приходилось наблюдать в жизни. Из показаний такого потерпевшего надо брать то, что сохранилось в его памяти до наступления внутренней борьбы, и не сомневаться в правдивости его слов лишь оттого, что внимание потом изменило ему. Но не один потерпевший бывает свидетелем, а и лицо постороннее столкновению или печальному стечению обстоятельств. Если оно не лишено впечатлительности и нервности и одарено способностью чувствовать и страдать, а следовательно, и сострадать, то вид нарушенного душевного равновесия в другом, иногда в близком и дорогом человеке, производит на него самое тяжелое впечатление. Будучи заразительно, волнение этого человека отражается на внимании свидетеля, ослабляя его или делая его односторонним. Кому не приходилось в жизни быть в таком положении, когда хочется «провалиться сквозь землю» за другого и когда неожиданное душевное смущение кого-либо вызывает собственную растерянность? В таких случаях человек, одаренный чутким сердцем, страдая за другого, бессознательно не хочет быть внимательным.
Сильные приливы чувства, являющиеся результатом сложного процесса душевного переживания скорби, утраты, разочарования и т. д., также нужно отнести к числу причин, затемняющих в памяти или устраняющих из области внимания отдельные, находящиеся между собой в связи части того события, о котором приходится свидетельствовать. Обращаясь мысленно к неуловимым для постороннего взора подробностям отношений к дорогому человеку, вспоминая невозвратно ушедший милый образ во всех его проявлениях или переживая оказанную кому-либо и когда-либо жестокость или несправедливость, человек вынужден бывает остановиться иногда в самом, казалось бы, безразличном месте своего повествования. Волнение охватывает его, к горлу подступают слезы, и тоска, безысходная и жгучая, уснувшая лишь на время, вновь начинает терзать сердце, а какой-нибудь звук или слово, вызывающие целую цепь воспоминаний, так овладевают вниманием, что все последующее погружается в тень и обрывается вследствие физической (слезы, дрожь голоса, судороги личных мускулов) и нравственной невозможности продолжать рассказ. В подобном положении, я помню, находилась жена весьма достойного человека — Рыжова, убитого на глазах ее и трех маленьких детей за то, что он вступился за честь обольщаемой братом жены девушки. С достоинством и твердостью защищая честь своего мужа от полных клеветы оправданий брата, Рыжова и при следствии, и на суде при повторных показаниях спокойно рассказывала про событие, но едва она доходила до слов покойного мужа: «Стреляй, если смеешь», сказанных в ответ ее брату, когда он угрожал стрелять, как черты ее искажались, и, несмотря на все усилия овладеть собой и не прерывать нити своих тяжелых воспоминаний, она не могла продолжать рассказа от внезапно подступивших горьких слез и рыданий.
К исключительным свойствам свидетелей нужно отнести особую склонность иных людей обращать исключительное и даже болезненное внимание на какую-нибудь отдельную часть тела человека, в особенности же на его уродливость. Некоторые свое внимание направляют в глаза человека, другие — на походку, третьи — на цвет волос и т. п. Случается, что люди не в состоянии сохранить в памяти черты чьего-либо лица, но одновременно с этим с большой отчетливостью представляют себе голос того же человека, со всеми его особенностями в оттенках, вибрации и произношении. Свидетель, внимание которого привлекают во всей физиономии человека глаза, опишет с точностью их цвет, форму и выражение, но станет в тупик или даст неопределенный ответ, если его спросить о цвете волос или о росте обладателя этих самых глаз. Разные уродливости, как косоглазие, кривоглазие, горб, болезненные наросты на лице, шестипалость, проваливающийся нос и т. п., производят на многих особенное, гипнотизирующее впечатление. Помимо воли и даже против желаний взор направляется постоянно на этот прирожденный или приобретенный недостаток и почти не в силах от него оторваться. Нарушение иногда бессознательного чувства эстетики и стремления к симметрии и гармонии, свойственных человеку, усиливает протестующее внимание, и тогда другие черты и свойства наблюдаемого отходят на второй план и стушевываются. Изучив подробно телосложение горбуна или отлично запомнив движения человека с искалеченными, скрюченными или вообще уродливыми ногами, свидетель вполне добросовестно может оказаться не в состоянии сказать что-нибудь об одежде, цвете глаз или волос тех же самых людей.
Подобная же связанность внимания является и тогда, когда чувство отвращения или ужаса заставляют, наоборот, отворачиваться от предмета, вызывающего такое чувство. Есть люди, которые не в силах заставить себя глядеть на труп вообще, а тем более на труп обезображенный, покрытый зияющими ранами, с вывалившимися внутренностями и т. п. Внимание их привлекается всем, что находится вокруг и около предмета, наводящего ужас, но с упорством обходит этот самый предмет. Конечно, это не может не отразиться на их показаниях. Бывает, наоборот, что такие именно предметы производят на некоторых то гипнотизирующее влияние, о котором упоминалось выше. Чувство ужаса и отвращения действует на них так, что они не в силах отвести взора от зрелища, от которого, по народному выражению, «тошнит на сердце». Глаза неизменно устремляются к тягостной и отталкивающей картине, и, помимо воли, память впитывает в себя с необыкновенной пытливостью и изощренностью подробности, от которых возмущается душа и которыми вызываются чувство мурашек в спине и нервная дрожь в конечностях. Следует признать, применяя эти замечания к свидетельским показаниям, что обостренность внимания, направленного на картины, вызывающие отвращение и ужас, роковым образом ведет за собою притупленность внимания к побочным и особенно к последующим впечатлениям. Это, несомненно, отражается на неодинаковой полноте и весе различных частей показания. Однако не следует усматривать в этом неправдивость свидетеля или намеренное с его стороны умолчание. Часто бывает, что о каком-либо выходящем из ряда обыкновенных событии или резком столкновении, о полном трагизма положении или несчастном происшествии имеются несколько показаний разных лиц, находящихся внешним образом в одинаковых условиях относительно их; они показывают каждый неполно, но все вместе дают, в своей совокупности, весьма полную, соответствующую действительности картину. Один из свидетелей опишет все мелочи обстановки, в которой найден труп, но не сумеет сказать, в каком положении лежал убитый, что на нем было и т. д., другой же расскажет подробно про выражение лица убитого, пену на губах, были ли глаза открыты или закрыты, в каком направлении шли раны, как расположены и в каком количестве кровавые пятна на белье и одежде, в каком положении были конечности, но не сможет определить, висели ли на стене часы, на дверях портьеры, сколько окон было в комнате и т. д. Таким образом, один и тот же предмет, отталкивая от себя внимание первого свидетеля, привлекает внимание второго.
К индивидуальным особенностям отдельных свидетелей, отражающимся на содержании их показаний, нужно отнести, помимо разных физических недостатков, как-то: тугого слуха, близорукости, дальтонизма, амблиопии[2] и т. п., также и пробелы памяти, наполнение которых невозможно даже при самом напряженном внимании. Прекрасная, в общем, память бывает развита односторонне и может давать на своей прочной и дельной ткани трудно объяснимые разрывы при показаниях о специального рода предметах. В эти, если можно так выразиться, дыры памяти чаще всего проваливаются числа и собственные имена, однако нередко то же самое делается с внешним обликом человека, с его физиономией. Человек с сильной, но дырявой памятью будет совершенно напрасно напрягать все свое внимание с целью удержать у себя в уме число или какую-нибудь фамилию или запечатлеть чье-либо лицо, разбирая отдельные его черты и силясь представить себе каждую из них отдельно и все в совокупности. Будучи допрошен в качестве свидетеля, он почти несомненно забудет имена и числа, если перед глазами у него не будет бумажки, на которой они записаны; в житейском же обиходе он всегда будет бессильно недоумевать, когда явится необходимость связать то или другое лицо с определенным именем. При этом память двояким образом коварно отказывается служить: или, удержав имя теряет образ соединенной с ним личности, или, сохранив ясное представление об облике, утрачивает безнадежно присвоенное ему прозвание. Бывают другие случаи, когда из памяти людей одновременно исчезают и личность, и имя, но в то же самое время чрезвычайно отчетливо рисуются жесты, слова, тон и звук речи, связанные с этим именем и личностью. С первого взгляда показание свидетеля с такой особенностью памяти может вызвать недоумение и даже недоверие, так как, не зная подобных свойств памяти иных людей, нельзя не найти очень странным, каким образом, передавая, например, с мельчайшими подробностями чей-либо рассказ со всеми оттенками, манерой и даже интонациями речи, человек не в состоянии назвать имени и фамилии говорившего или затрудняется сказать, кто это такой, будучи поставлен с ним «с очей на очи». И тем не менее свидетель, безусловно, правдив во всех подробностях своего показания и в ссылках на свою плохую память. Позволю себе привести личный пример. Занимая много лет должность прокурора и председателя окружного суда в Петербурге, я был способен, по отзыву всех знавших меня, к самому тщательному и проницательному вниманию и, тем не менее, всегда был «беспамятный» на имена и лица. Мне необходимо было видеть много раз подряд одно и то же лицо, чтобы при встрече узнать его; при этом самая небольшая перемена — отпущенная борода, надетая шляпа, очки, другой костюм — делали из этого встречного новое и незнакомое лицо в моих глазах. То же бывало и с именами и фамилиями. А между тем я произносил без письменных заметок большие, длившиеся несколько часов обвинительные речи и руководящие напутствия присяжным по самым сложным делам и лишь изредка, в крайних случаях, пользовался полоской бумажки с разными условными знаками. Будучи обязан в качестве председателя суда рассказывать удаленному из залы заседания по какой-либо причине подсудимому, что происходило в его отсутствие, я, желая, чтобы у подсудимого были, согласно требованию судебных уставов, все средства к оправданию, передавал ему на память все содержание прочитанных в его отсутствие протоколов и документов и излагал, повторяя почти дословно, показания свидетелей. И тем не менее, я не раз бывал в неловком положении из-за своей забывчивости на собственные имена в такие моменты процесса, когда наводить справки в списке свидетелей было не только стеснительно, но даже невозможно. Однажды, начав обвинительную речь по обширному, длившемуся несколько дней делу о подлоге нотариального завещания Седкова, я, несмотря на все старания, никак не мог вспомнить фамилию одного свидетеля, а между тем без ссылки на его показания было невозможно обойтись, так как он был очень важным из впервые вызванных в суд по просьбе защиты свидетелей. У свидетеля на шее была медаль на анненской ленте. За эту медаль я и ухватился. Неоднократно возвращаясь к разбору показания этого свидетеля, правдивости которого я доверял безусловно, я стал ссылаться, в самых осторожных и уважительных выражениях, на этот внешний признак. Во время перерыва заседания, после речей защиты этот свидетель обратился ко мне в зале для публики, выражая свою крайнюю обиду. «Я, милостивый государь, — говорил он, — имею чин, имя, отчество и фамилию; я был на государственной службе; я не „свидетель с медалью на шее“, как вам угодно меня называть, я этого так не оставлю!» Пришлось извиняться, ссылаясь на свою «дырявую» память и на невозможность справляться во время речи с деловыми отметками. Но «свидетель с медалью», иронически смеясь, сказал: «Ну, уж этому-то я никогда не поверю: я прослушал всю вашу речь и видел, какая у вас чертовская память — вы чуть не три часа целые показания на память говорили, а перед вами ни листочка! Только мою фамилию изволили забыть! Вы меня оскорбили нарочно, и я желаю удовлетворения». Наш разговор был прерван возгласом судебного пристава о том, что «суд идет!». «Я к вашим услугам, если вы считаете себя оскорбленным, — сказал я, торопясь на свое место, — и во всяком случае сейчас же, начиная возражения защите, публично извинюсь перед вами и объяснив, что вы считаете для себя обидным иметь медаль на шее, назову ваше звание, имя, отчество и фамилию». — «То есть, как же это?! Нет, уж лучше оставьте по-старому и, пожалуйста, не извиняйтесь — еще хуже, пожалуй, выйдет, — нет уж, пожалуйста, прошу вас…» И инцидент, вызванный пробелом памяти, разрешился благополучно.
В свидетельских показаниях очень важную роль играют бытовые и племенные особенности свидетеля, язык той среды, в которой он живет, и затем его обычные занятия. Показания, безусловно, добросовестные и точные, данные по одному и тому же обстоятельству свидетелями, принадлежащими к разному племени, будут, несомненно, сильно отличаться одно от другого по форме, яркости, сопровождающим их жестам, по живости передачи. Можно представить себе изложение события нанесения раны «в запальчивости и раздражении», свидетелями которого сделались случайно обитатель «финских хладных скал» и уроженец пламенной Колхиды. После перекрестного допроса рассказ в отношении фактов окажется в обоих случаях тождествен, но как велика будет разница в передаче фактов, в отношении к ним свидетеля, какие оттенки в красках! На северянина, с его спокойным созерцанием, наибольшее впечатление произведет смысл действия обвиняемого, которое получит краткую и точную характеристику («ударил ножом, кинжалом…»); южанин проявит свою пылкую натуру в картинном описании действия («выхватил кинжал и вонзил его в грудь…»); в повествовании любящего порядок мирного обывателя срединной России будет слышаться осуждение кровавой расправе; в показании еврея — нервная впечатлительность перед таким делом; горец или любящий подраться обитатель земель старых «северо-русских народоправств» будет рассказывать не без некоторого сочувствия «молодцу», который умел постоять за себя…
Сказываются также и бытовые особенности, образ жизни и род занятий. Те, кому, как мне, случалось иметь дело со свидетелями в Великороссии и Малороссии, несомненно, уловили разницу в форме, свободе и живости показаний людей, принадлежащих к этим двум ветвям русского племени. Великоросс обыкновенно рассказывает все или почти все сам; малоросса же в большинстве случаев нужно спрашивать, так сказать, вытягивать из него показание. Великоросс в своих показаниях пользуется обыкновенно описаниями, в вялом и неохотно данном показании малоросса встречаются зато гораздо чаще блестки тонких и остроумных опредепений. В моих воспоминаниях о мировом суде я привожу примеры такого остроумия и живой находчивости. Рассказ простой великоросской женщины в большинстве случаев более бесцветен, чем мужской: в нем заметна иногда ее забитость и подчиненность; рассказ же хохлушки, «жинки», всегда красочен, полнее и определеннее рассказа мужчины. Это особенно ярко выступает в тех случаях, когда по одним и тем же обстоятельствам дают показания муж и жена. Здесь наглядно проявляются бытовая разница семейных отношений и характер взаимной подчиненности супругов. В Великороссии жена, давая показание, оглядывается на мужа, сидящего на скамье свидетелей; в Малороссии, наоборот, муж поглядывает тревожно и подчас беспомощно на жену. Стоит ли говорить, что городской и сельский жители, фабричный рабочий и кустарь, чиновник и матрос, повар и пастух при рассказе об одном и том же событии подчеркнут непременно в своих воспоминаниях те особенности, которые находились в каком-либо отношении с их обычными занятиями и родом жизни и прошли для других незамеченными, не привлекая особенного внимания, или то, что составляет больное место этих обычных занятий. Известно, до какой степени у нас часты и, к сожалению, по нашей привычной сентиментальности на чужой счет недостаточно строго осуждаемы растраты, совершаемые доверенными, приказчиками, артельщиками и т. п. лицами, ссылающимися обыкновенно в свое оправдание на игру в карты, на увлечение такой покровительствуемой у нас, развращающей народ мерзостью, как тотализатор, и т. д.
Мне вспоминается дело о растрате приказчиком денег из «выручки» у своего хозяина, разбиравшееся в семидесятых годах в петербургском окружном суде. Как «свидетель к оправданию» (temoin a decharge) был вызван прежний хозяин подсудимого, который, по словам последнего, должен был дать о нем наилучшую аттестацию. Старичок с седою бородой, в длинном кафтане и в сапогах «бутылками», будучи введен в зал заседания, помолился на образ, истово поклонился суду и стал ждать вопросов защитника. «Подсудимый служил у вас?» — «Этот самый? Как же, служил». — «Что вы можете сказать о нем хорошего?» — «Да ничего хорошего, окромя дурного!» — «Подсудимый не того ожидал от вас…» — «Напрасно беспокоился!» — «Вы, может быть, находите, что молодой человек был немного легкомыслен, увлекался, но служил в общем честно?» — «Это вы насчет распутства: по этой части других таких поискать, но мы в это не входим, а что в выручку лапу запускал, так это точно…» — «Может быть, это были просчеты, ошибки…» — «Просчеты само собой, а воровал без просчетов». — «Это все, что вы можете о нем сказать?» — «Да что же еще? Разве, что вот таких вешать мало! — отрезал старик с ожесточением и прибавил со вздохом: От такого народу торговать становится невозможно». К этой же категории показаний относится и рассказ, за достоверность которого я, не бывший лично в суде, однако, не ручаюсь. К разбирательству дела Крон и Вестфаль, в котором обвинение было в подделке французского шампанского известной фирмы, Спасовичем был вызван в качестве знатока опытный виноторговец, и ему было предложено испробовать спорное шампанское. — «Ваше заключение?» — спросил его председатель. «То есть о чем же?» — спросил виноторговец. — «О качестве этого шампанского сравнительно с шампанским, несомненно принадлежавшим французской фирме»? Свидетель отпил еще, посмотрел вино на свет, задумался и потом успокоительным тоном сказал: «Покупатель выпьет!».
Манера свидетелей выражаться, их стиль, своеобразные особенности в понимании ими различных слов бывают источником многих недоразумений и ведут иногда к неправильной оценке добросовестности их показаний. Судье необходимо знать местные выражения для избежания роковых в некоторых случаях заблуждений и ошибок. Это важно также и для судебных следователей ввиду сохранения картинности и жизненного колорита в самом содержании записываемого ими в протокол показания. Сколько сцен, полных комизма, близкого, однако, по временам к трагизму, приходилось видеть при введении судебной реформы в областях харьковской и казанской судебных палат! Приехавшие в качестве судей и сторон уроженцы столиц не понимали местного значения слов «турнуть», «околеть» (озябнуть), «пропасть» (околеть), «отмениться» (отличиться), «пестовать» (говеть), «наджабить» (вдавить) и т. д.; малороссийской девушке торжественно предлагали вопрос о том, был ли у нее «жених», и вызывали тем негодование ее присутствующих при этом родителей; или в Пермском крае отказывались понимать, зачем свидетельница говорит, что у нее «пропала дочка» в то время, как дело шло об убитой свинье; или недоумевали при заявлении, что свидетель «убежал на пароходе» в Сарапуль или в Казань, когда мог свободно уехать на пароходе; или же угрожали ответственностью за лжеприсягу свидетелю, который на вопрос о том, какая была погода в день кражи, упорно отвечал, что «ни якой погоды не було».
Язык свидетеля очень часто служит показателем силы его способности мышления. Нередко внешняя словоохотливость прикрывает скудность соображения и отсутствие ясности в представлениях, и, обратно, сдержанность, краткость слова бывают следствием честного к нему отношения и сознания его возможных последствий. В людях внешней культуры и полуобразования замечается особенная склонность к пустому многословию. Простой человек, попробовавший городской жизни, любит выражаться вычурно и употреблять слова в самых странных и неожиданных сочетаниях, но свидетель из простонародья на месте говорит обыкновенно языком образным, полным силы и оригинальности. Наряду, например, со слышанными мною выражениями полуобразованных свидетелей о «нанесении раны в запальчивости и разгорячении нервных членов», о «страдании падучей болезнью в совокупности крепких напитков», о «невозможности для меры опьянения никакого Реомюра» и о «доведении человека до краеугольных лишений и уже несомненных последствий» мне приходилось слышать в показаниях простых русских людей такие образные выражения и поговорки, как: «они уже и дальше ехать собирались, ан тут и мы — вот они!», «нашего остается всего ничего», «только и осталось, что лечь на брюхо, да спиной прикрыться», «святым-то кулаком да по окаянной шее», «все пропил! Мать ему купила теперь сюртук и брюки — ну вот он и опять в пружинах», «да ему ведь верить нельзя — он человек воздушный», «он выпивши был — у нас престольный праздник, ну он и напрестолился «. Обвиняемый в убийстве жены, застигнутой на прелюбодеянии, Ларионов, между прочим, выразился: «Как увидел я это, то и говорю себе: когда так, приходится повесить замок своей жизни». Наконец, надо отметить свидетелей (да и подсудимых), любящих щегольнуть иностранными или вошедшими в моду выражениями, искажающими наш язык. «Я убил фоментально», — говорил в Казани Нечаев, обвиняемый в убийстве и, очевидно, где-то наслышавшийся слова «моментально». В 1888 году в моем присутствии в харьковском окружном суде сознавшийся в убийстве военного врача хулиган (по-местному ракло) рассказывал: «Идем мы с товарищем по Карпову саду, а он на ванечке едет одетый в белом кителе; месяц очень ясно светит и все обозначает. Я и говорю товарищу: «Вот бы вдарить.» — «Сыпь!» — отвечает товарищ. Я и вдарил его в спину…» — «Чем же вы ударили: ножом?" — спрашивает председатель. «Ножом-с, — отвечает подсудимый, — обязательно ножом!» Не могу без невольной улыбки не припомнить заседания мирового съезда, в котором остался недоволен моим прокурорским заключением один из обитателей знаменитой Вяземской лавры близ Сенной. Он был привлечен к следствию о покушении на «противоестественное совокупление», но дело это по недостаточности улик было прекращено судебной палатой, а затем он обвинялся в двух кражах в разных мировых участках и обжаловал оба приговора в мировой съезд. Давая заключение в съезде, я полагал оба приговора утвердить и постановить общий, согласно закону, по совокупности. Когда подсудимому было предоставлено слово, он посмотрел на меня с мрачным видом и сказал мне укоризненно: «Нет, уж вы, ваше благородие, эту самую совокупность оставьте: она уже в палате прекращена».
Судебный навык показывает, что касательно ряда свидетелей нужно быть весьма осторожным в доверчивом отношении к их показаниям вследствие бессознательной лжи, которую они допускают, совершенно искренне веря в действительность того, что говорят. Например, потерпевшие от преступления всегда и при этом часто с полной добросовестностью склонны преувеличивать обстоятельства или действия, в которых выразилось нарушение их имущественных или личных прав. Особенно часто встречается это в показаниях потерпевших от преступников, то есть у тех, которые были, так сказать, очевидцами совершенного над ними преступления. В подобных случаях вполне применима пословица: «У страха глаза велики». Опасность, возникшая неожиданно, вызывает невольное преувеличение размеров и форм, в которых она явилась; опасность прошедшая представляется взволнованному сознанию большею, чем она была в самом деле, отчасти под влиянием того, что она уже прошла. На людей впечатлительных, находящихся уже в безразличном или безопасном, по их мнению, положении, действует, как известно, самым тяжелым образом внезапно прояснившееся понимание опасности и тягостных последствий, которые могли бы, произойти, и сердце их сжимается от возможного в прошлом ужаса так же сильно, как в том случае, если бы он предстоял. Вот чем надо объяснить сильные выражения при описании ощущений и впечатлений и преувеличения в определении размера, быстроты, силы и т. п. Простая палка является в показании дубиной, угроза пальцем — подъемом кулака, возвышенный голос — криком, первый шаг вперед — нападением, всхлипывание — рыданием, и слова «ужасно», «яростно», «оглушительно», «невыносимо» встречаются на каждом шагу в описании того, что произошло или могло произойти с потерпевшим. Сопоставление этой, в большинстве случаев неумышленной лжи пострадавшего с намеренной ложью подсудимого, желающего оправдать себя на фактической почве или смягчить свою вину, вносит нередко юмористический элемент в отправление правосудия. В петербургском окружном суде разбиралось под моим председательством дело о профессиональной воровке кур, судившейся уже в седьмой или восьмой раз. Зайдя на двор большого дома в отдаленной части столицы, она приманила петуха и, накинув, по словам сидевшей у окна в четвертом этаже потерпевшей, на него мешок, быстро удалилась, но была задержана хозяйкой украденной птицы и городовым уже тогда, когда она продавала петуха довольно далеко от места похищения. На суде она утверждала, что зашла во двор «за нуждой» и, лишь уходя, заметила, что какой-то «ласковый петушок» настойчиво следует за нею, и тогда она взяла его на руки, опасаясь, чтобы его не раздавили при переходах через улицы. Потерпевшая с негодованием стала опровергать это объяснение, заявив, что у нее «петушище характерный» и ни за кем бы не пошел, как собака. Обе так и стояли на своем. Присяжные решили, что петух был «характерный».
К той же области бессознательной лжи относится у людей, мыслящих преимущественно образами (а таких большинство), совершенно искреннее представление себе душевного состояния тех лиц, о которых они говорят, состояния, сквозящего в кажущемся жесте, тоне голоса, выражении лица. Воображая, что другой думает то-то и так-то, человек склонен отправляться в своей оценке всего, что этот другой делает, от убеждения в том, что он руководим именно такой, а не другой мыслью, что им владеет непременно такое, а не другое настроение. Подобное представление вызывает в обыденной жизни известную реакцию на предлагаемые мысли другого, — и вот является сложная и в большинстве случаев совершенно произвольная по своему источнику формула действий: «Я думаю, что он думает, что я думаю… а потому надо поступить так, а не иначе». Отсюда разные эпитеты и прилагательные, далеко не всегда основывающиеся на действительности и вытекающие исключительно из представления, из самовнушения говорящего. Отсюда «презрительные» улыбки или пожатие плечами, «насмешливый» взгляд, «вызывающий» тон, «ироническое» выражение лица и т. п., усматриваемые там, где их, собственно, вовсе и не было. Одаренный некоторой живостью темперамента свидетель зачастую даже наглядно представляет того, о ком он говорит, и добросовестно выдает кажущееся ему за действительность. Особенно часто бывает это при изображении тона выслушанных свидетелем слов.
Сюда же, наконец, надо отнести рассказы о несомненных фактах, передаваемые в безусловно фантастической форме, не замечаемой, однако, рассказчиком. Такова, например, передача простыми людьми слов не знающих совершенно русского языка иностранцев при действительном совершении последними тех или других действий. Наши солдаты и матросы, как известно, в чужих краях и в периоды перемирий на полях битв разговаривают с иностранцами, вполне понимая их по-своему!
Но есть, несомненно, ложные по самому своему существу показания, которые надо отличать от показаний, данных недостаточно точно или отклоняющихся от действительности под влиянием настроения и увлечения. Такие показания по своему происхождению весьма различны, и общего мерила для них не существует. Необходимо выделить из них прежде всего те, которые даются под влиянием гипнотических внушений. Рядом с ними можно поставить показания, даваемые под влиянием самовнушения. Таковы очень часто показания детей. Отсутствие необходимой критики по отношению к себе и к окружающей обстановке при крайней впечатлительности и живости воображения делает многих из них под влиянием наплыва новых ощущений и идей жертвами самовнушения. Приняв свою фантазию за действительность, незаметно переходя от «так может быть» к «так должно было быть» и затем к «так было», они упорно настаивают на том, что кажется им совершившимся в присутствии их фактом.
Есть, наконец, область безусловно сознательной и, если можно так выразиться, здоровой лжи, которая существенно отличается от заблуждения под влиянием притупления внимания и ослабления памяти. То, что мною рассказано выше о показаниях свидетеля Иваницкого в бракоразводном деле 3-ных, представляет яркий пример такой лжи. В заключение остается указать еще на один вид сознательной лжи в свидетельских показаниях, лжи беззастенчивой и нередко наглой, нисколько не скрывающейся и не заботящейся о том, чтобы быть принятою за правду. Есть свидетели, для которых явка перед судом по тем или иным причинам представляет своеобразное удовольствие, давая возможность произвести эффект «pour epater le bourgeois»1, как говорят французы, или же получить аванс за свое достоверное показание, не приняв на себя никакого обязательства за качество его правдоподобности. Так, например, свидетель по громкому делу о подлоге миллионного завещания Беляева — Шевелев мог быть типичнейшим представителем сознательной и бьющей в глаза лжи. Находясь под стражей по другому делу, он сам просил вызвать его в суд, так как мог сообщить нечто чрезвычайной важности. Введенный в зал, он уселся, ссылаясь на боль в ноге, и, с любопытством рассматривая присутствующих, начал явно лживый рассказ, почти на каждом слове опровергаемый фактами и цифрами. Стараясь, по-видимому, рассмешить публику и самому потешиться, он отвечал на предлагаемые обычные вопросы тоном иронического почтения, называя председателя «господином президентом». Он с удивлением спрашивал, почему последний заинтересовался вопросом о его вероисповедании, любезно прибавляя: «Православный! православный — pour vous etre agreable…»[3][4], — объяснил, что нигде не проживает, ибо «геометрически закупорен» в месте своего заключения, и заявил, что судился дважды — один раз в ковенской уголовной палате в качестве таможенного чиновника «за содействие к водворению контрабанды», причем оставлен в «сильнейшем подозрении», а в другой — в версальском военном суде за участие в восстании коммуны, причем приговорен «к расстрелу». «Но приговор, — прибавил он, — как, быть может, господа присутствующие изволят заметить, не приведен в исполнение». В показании своем он настойчиво утверждал, что был в два часа дня 4 апреля 1866 года на Дворцовой площади, приветствуя вместе с собравшимся народом невредимого после выстрела Каракозова государя. На замечание мое (я был обвинителем по делу), что покушение было совершено в четвертом часу и весть о нем ранее четырех часов не могла облететь столицу, этот свидетель, хитро прищурив глаза и обращаясь к председателю, сказал: «Мне кажется, господин президент, что для патриотических чувств не должно существовать условий места и времени «.