Седьмая СУБЪЕКТИВНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПОНЯТИЙ ОБ ОТНОШЕНИЯХ
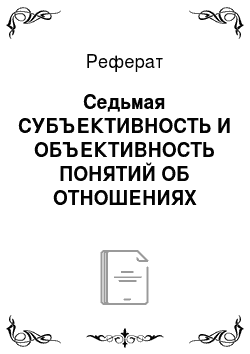
В этом пункте яснее всего расходятся друг с другом различные тенденции, являющиеся предметом современных теоретико-познавательных споров. С одной стороны стараются сохранить объективность логического и математического посредством принципиального отказа от всякого отношения к мышлению и «мыслящему духу». Если мы расчленим идеальный строй математики, если ясно и полностью установим целокупность… Читать ещё >
Седьмая СУБЪЕКТИВНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПОНЯТИЙ ОБ ОТНОШЕНИЯХ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Функциональные формы рационального и эмпирического познания. — Взаимоотношения «формы» и «материи» познания. — Совокупность «вечных истин». — Лейбниц и Больцано. — Понятие об истине в современной математике. — Понятия об отношениях и активность «я». — Проблема прагматизма. — Истина и полезность. — Незавершимость опыта и критическое понятие об истине. — Действительность как «проектированное единство». — Непрерывность и сходимость фаз опыта. — Двоякая форма понятия.
Анализ познания заканчивается определенными основными отношениями, на которых покоится материальный состав всякого опыта. Дальше этих общих отношений мысль не в состоянии проникнуть, ибо лишь в них и заключается само мышление и возможно мыслимое. И, однако, может казаться, что мы, давая этот ответ, двигались в порочном круге. Конец исследования как будто приводит нас к той же самой точке, на которой мы стояли в его начале. Проблема кажется отодвинутой, но не разрешенной, ибо противоположность между субъективным и объективным продолжает оставаться такой же резкой, как и раньше. И чистые отношения также подлежат тому вопросу, который был поставлен раньше по отношению к ощущениям и представлениям. Представляют ли они собою составную часть бытия или они являются только созданиями мысли; раскрывается ли в них природа вещей или они являются лишь общими формами выражения нашего сознания и, следовательно, значимы лишь для последнего и для круга его содержания? Или здесь существует таинственная предустановленная гармония между духом и действительностью, в силу которой и тот и другая в конце концов должны совпасть в одних и тех же основных определениях?
Но достаточно только поставить таким образом проблему, чтобы тотчас же заметить, что она принадлежит по своей постановке к такому типу проблем, который принципиально преодолен результатом предшествующего исследования. «Общая» область, в которой погашается противоположность между мышлением и бытием, действительно существует, но ее нельзя уже искать в абсолютной первооснове всех вещей вообще, а лишь в общезначимых функциональных формах рационального и эмпирического познания. Эти формы сами образуют очень сплоченную систему условий, и лишь в отношении к этой системе получают разумный смысл все высказывание о предмете, о «я», об объекте и субъекте. Нет объективности, которая стояла бы вне рамок числа и величины, постоянства и изменчивости, причинности и взаимодействия: все эти определения представляют собою лишь последние инварианты самого опыта и, следовательно, всякой действительности, которую можно констатировать в нем и через него. Но тот же способ рассмотрения простирается непосредственно также и на само сознание: без временного следования и порядка содержаний, без возможности объединять их в определенные единицы и снова разлагать их на отличные друг от друга множества, без возможности, наконец, отделять сравнительно постоянные составы от относительно изменчивых — мысль о «я» не обладает никаким понятным значением и применением. Анализ показывает нам недвусмысленно и определенно, что все эти формы отношения входят как в понятие «бытия», так и в понятие «мышления»; но он нам никогда не показывает, как они соединяются, не показывает также, откуда они выводят свое происхождение. Всякий вопрос об этом возникновении, всякий вывод основных форм из действия вещей или способа деятельности духа заключали бы в себе явное petitio principii, ибо само «откуда» есть не что иное, как определенная форма логического отношения. Раз мы понимаем причинность как отношение, то отпадает всякий вопрос о причинности отношений вообще, О них можно лишь еще спросить, что представляют они собою по своему логическому смыслу, а не каким образом и откуда они возникли. После того как эти отношения «установлены» в их значении, можно с их помощью и под руководством опыта проследить возникновение особых объектов и явлений; но будет совершенно безнадежным предприятием стремление вывести их самих, подобно возникающим и исчезающим эмпирическим предметам и явлениям, из начал, лежащих еще дальше, из психических или физических «основных сил».
Вместе с этим отпадает также возможность отделить «материю» познания от его «формы» так, чтобы можно было указать на различные их источники в области абсолютного бытия, чтобы можно было, например, искать происхождения одного фактора в «вещах», а происхождения другого — в единстве сознание[1]. Ибо всё, чем мы можем определит материю, принадлежит ей лишь в отношении к какомунибудь возможному порядку и, следовательно, к формальному понятию ряда. Отдельное качественно особенное ощущение получает свою особенность лишь посредством различения от других противостоящих ему содержаний, оно существует лишь как член ряда и может действительно мыслиться лишь как таковое. Забвение этого основного условия имело бы своим следствием не только большую или меньшую«неопределенность» содержания ощущения, а привело бы к полной бессодержательности1. Эта неразрывная логическая корреляция противится всякой попытке объяснить предлежащее здесь отношение двумя раздельными причинными факторами, которые, по допущению, существуют и действуют сами по себе. Материя всегда существует в отношении к форме, как форма, с другой стороны, значима лишь в отношении к материи. Если отвлечься от всякой координации, то для них обеих не останется никакого «существования», относительно основания и происхождения которого можно было бы задать вопрос. Материальная особенность эмпирических содержаний никогда не может, поэтому, служит доказательством зависимости всякого познания предмета от какого-то «трансцендентного» основания данной его определенности, ибо эта определенность, бесспорно существующая, как таковая представляет собою лишь характерную черту самого познания, которая только и завершает его понятие. Если мы выразим ее в ее самой чистой научной формулировке, она в конце концов будет означать только констатирование того, что для возведения опыта и конституирования его объектов недостаточно остановиться на общих правилах связей соединений, на универсальных уравнениях явлений природы, а нужно еще вместе с тем знание частных констант, которые можно открыть лишь посредством экспериментального наблюдения. Но что эти константы свидетельствуют о более чем эмпирической реальности самих объектов опыта, что они нам кое-что открывают относительно своих абсолютных основ, — этого ниоткуда не видно. Ибо особенность закона всё же предполагает наличность самого этого закона и понятна лишь по отношению к нему; отдельная, фиксированная величина остается, следовательно, в круге того понятия бытия, которое обозначается и очерчивается общими основоположениями математики. Но это очерчивание его границ и составляет его подлинную «идеальность», идеальность, которая утверждает и констатирует не коррелятивную координацию с представлениями и актами мышления психологических индивидов, а с общими принципами и условиями научной истины вообще.
Но если вопрос о метафизическом происхождении этих условий оказывается недоразумением, если проблема о том, нужно ли их вывести из духа, или из вещей, или из их взаимодействия, испаряется и превращается в ничто, то старая противоположность между «субъективным» и «объективным» здесь еще не во всех отношениях примирена и преодолена. Кажется, наоборот, что она снова выступает, как только задают вопрос, каковы те специфические средства познания, каковы те формы суждения относящего мышления, посредством которых мы получаем возможность представлять себе чистую, самое по себе вневременную значимость идеальных основоположений во времени,[2][3]
в фактическом эмпирическом переживании. Можно впасть в искушение во имя строгости и чистоты логического обоснования вполне элиминировать и отклонить также и этот вопрос. «Вечные истины» — так заявляет уже Лейбниц, тесно примыкая к Платону, — значимы совершенно независимо от какого бы то ни было фактического состояние действительности, какова бы она ни была. Они представляют собою исключительно лишь гипотетические системы умозаключений, они связывают значимость определенных заключений со значимостью определенных посылок, не обращая внимание на то, можно ли найти в мире эмпирических вещей конкретные примеры этих абстрактных связей, не спрашивая даже о том, существуют ли индивиды, в действительном мышлении которых когда-либо фактически совершился тот переход от посылок к заключениям, о котором здесь утверждается, что он существует de jure. Истины чистого учения о числах остались бы тем, что есть, даже в том случае, если бы не было ничего, что можно считать, и никого, умеющего считать[4]. До такой крайней резкости доходит отказ от всякого психологического обоснования у действительных классиков идеализма. Все они склоняются к той мысли, которая нашла свое парадоксальное выражение у Больцано в его концепции «царства суждений и истин в себе». «Состав» истин логически независим от того факта, что они мыслятся. Значение, например, положений чистой геометрии, как они в строгом и необходимом порядке вытекают друг из друга, составляя таким образом идеальное целое определений, можно вывести и изложит без всякого отношения к тем психологическим актам, в которых мы наглядно или абстрактно представляем себе содержание этих суждений. Различны ли эти акты у различных индивидов, или одинаковы и, таким образом, представляют собою нечто постоянное, — это всё равно: и в том и в другом случае мы разумеем не эти изменчивые или постоянные акты, когда мы говорим об объектах геометрии, о линиях, плоскостях и углах. «Бытие», которое мы приписываем этим объектам, не означает реальности во времени, свойственной каким-нибудь конкретным физическим или психическим содержаниям, а лишь их взаимоопределение; оно означает объективную зависимость в царстве мыслимого, а не какую-нибудь фактическую причинную зависимость в области мышления.
Современное расширение математики снова сделало вполне ясным это обстоятельство и таким образом снова подготовило почву для опирающихся на него логических теорий. Подлинными и вполне значимыми объектами математики являются те образования, которыми занимается учение о многообразии, и они только и исчерпывают понятие математики во всём ее объеме. Но систему этих образований можно вполне развить и изложить, не входя в сложный и трудный побочный психологический вопрос, в каких интеллектуальных процессах мы представляем себе значение бесконечных совокупностей, являющихся здесь предметом рассмотрения. Так как, далее, все свойства этих совокупностей основаны на их первоначальном понятии и принадлежат им необходимо и неизменно, то не остается здесь никакого места для какой-нибудь произвольной деятельности мышления: наоборот, мышление совершенно поглощается своим предметом, и последний определяет его и руководит им. «Пусть назовут это как хотят, — так высказывается современный представитель математической логики, — но существует мир, населенный идеями, совокупностями суждений, отношений и зависимостей, которые в бесконечном различии и многообразии начинают с самого простого и доходят до наиболее запутанного. Этот мир есть не продукт, а объект, не создание, а добыча мышления, ибо сущности, из которых он состоит — как, например, истинные суждение — также не тождественны с мышлением этих сущностей, как не тождественно вино с выпиванием вина. Устройство этого внеличного мира, его внутренняя онтологическая структура составляет существенный характер и субстанцию логики, как независимой и внеличной формы бытия… Как астроном, физик, геолог или какой-нибудь другой естествоиспытатель шагает в своих размышлениях через чувственный мир, так и дух математика идет вперед не в переносном, а в буквальном смысле слова, по универсуму логики; так он исследует все высоты и глубины, ища новых фактов: идей, классов, родственностей, зависимостей»[5]. Эти суждения самым отчетливым образом очерчивают границы предлежащей здесь проблемы как с положительной, так и с отрицательной стороны. Необходимость всеобщих математических связей должна оставаться неприкосновенной; и эта необходимость образует, в самом деле, своеобразную сущность, объективное содержание, которое противостоит психологической деятельности мышления как совершенно обязательная норма. Но стоит ли, на самом деле, это содержание на той же ступени, на которой стоит чувственная действительность, которую мы можем познать лишь эмпирически? Представляют ли «факты» математики и означают ли они что-нибудь другое, чем те факты, которые, например, констатирует анатом и зоолог, описывая и сравнивая между собою различные телесные строения? Как раз логика математики и математической физики окончательно запрещает такое непосредственное приравнивание друг другу точных и описательных методов. Необходимые положения не могут быть просто описаны, лишь «преднайдены» как таковые; ибо всё лишь преднайденное значимо только для того момента, для которого оно констатировано, и обозначает, таким образом, однократно эмпирическое обстоятельство. Вопрос об интеллектуальных операциях, в которых постигаются эти необходимые положения, снова выступает на сцену. Эти операции, разумеется, никогда не должны сливаться для нас до неразличимости с тем, что посредством них познается; закономерность познаваемого не есть то же самое, что закономерность познания. Эти две закономерности остаются, однако, соотнесенными друг к другу, поскольку они представляют собою два различных аспекта общей проблемы. Таким образом, между предметом и операцией мышления существует, в самом деле, более глубокое и тесное взаимоотношение, чем между вином и выпиванием вина. Вино и выпивание не координированы друг с другом однозначно — но всякий чистый акт познания имеет в виду объективную истину, которую он как бы ставит перед собою, и содержание истины, с другой стороны, может быть познано лишь в силу и посредством этого акта.
Нужно, поэтому, теперь исходя из понятия «объективности», полученного посредством анализа содержания научных основоположений, определить понятие «субъективности» в новом смысле. Полученная нами общая характеристика предмета содержит в себе вместе с тем implicite общий ответ на вопрос, каковы те средства и приемы мысли, благодаря которым мы достигаем его познания. Один момент выступает здесь всего решительнее. Пока предмет был просто «вещью» в обычном значении этого слова в наивном догматизме, до тех пор можно было считать, что для его постижения и внутреннего отображения вполне достаточно отдельного «впечатления» или простой суммы таких впечатлений. Но этот род усвоения оказывается негодным после того, как было признано, что значимость определенных логических отношений представляет собою необходимое условие и настоящую сущность понятия предмета. Ведь содержание чистых отношений никогда не может быть выражено только в терминах чувственных впечатлений: одинаковость или неодинаковость, тождество или различие того, что мы видели или осязали, сами не суть нечто, что можно видеть или осязать[6]. Всюду здесь нужно переходить от пассивного ощущения к активности суждения, в котором одном только находит себе адекватное выражение понятие логической связи и, следовательно, также и понятие логической истины. Можно еще представить себе, что мысль о вещи — как о комплексе чувственных свойств — возникла благодаря тому, что эти свойства воспринимаются самостоятельно и потом как бы сливаются друг с другом посредством автоматического механизма «ассоциации»; но мысль о необходимой связи нуждается в указании на самостоятельную деятельность сознания для того, чтобы вообще обозначить ее психологически. Закономерное движение в суждении есть коррелят закономерной связи отношений, составляющих единство в понятии предмета.
Может показаться, что этим, так сказать, снова делается текучим содержание истины и вместе с этим содержание «бытия», ибо, согласно развитому нами взгляду, можно уяснить себе, что такое «есть» определенная истина, лишь тем, что мы ее снова порождаем, заставляя ее возникнуть перед нами из ее отдельных условий. Но этот «генетический» аспект познания теперь уже не противоположен более требованию пребывающего состава. Ибо сама деятельность мышления, к которой мы здесь приходим, есть не произвольная деятельность, а строго регулированная и связанная. Функциональная деятельность мышления требует и находит себе опору в идеальной структуре мыслимого, которой оно характеризуется раз навсегда, независимо от всякого особого ограниченного по времени акта мышления. Лишь оба момента в своем взаимопроникновении определяют понятие познания. Целокупность наших интеллектуальных операций направлена к идее «пребывающего» царства значимости объективно необходимых отношений. Таким образом, оказывается, что всякое знание как бы скрывает в себе статический и динамический мотивы и завершает свое понятие лишь в этом соединении. Оно осуществляется лишь в некоторой последовательности логических фактов, в некотором ряде, который должен быть последовательно пройден для того, чтобы мы сознали правило его прогрессивного движения. Но если мы желаем понимать сам этот ряд как единство и брать его как выражение тождественного состава вещей, которое тем определеннее и точнее обозначается этим рядом, чем дальше он пройден нами, то мы должны мыслить его всё более и более приближающимся к некоторому идеальному пределу. Этот предел однозначно определен и существует как таковой, хотя для нас он достижим лишь посредством отдельных членов ряда и их закономерных изменений. Для нас, следовательно, получается различное понимание, смотря по тому, выберем ли мы нашу стоянку у мыслимого предела или внутри ряда, причем, однако, каждый из этих двух аспектов требует и вызывает для своего дополнения другой. Изменение стремится к постоянству, а постоянство, с другой стороны, может быть сознано лишь в изменении. Нет акта знания, который не был бы направлен как к своему подлинному предмету к какому-нибудь пребывающему содержанию из отношений, а это содержание, с другой стороны, может быть иллюстрировано и понято лишь в актах знания.
В этом пункте яснее всего расходятся друг с другом различные тенденции, являющиеся предметом современных теоретико-познавательных споров. С одной стороны стараются сохранить объективность логического и математического посредством принципиального отказа от всякого отношения к мышлению и «мыслящему духу». Если мы расчленим идеальный строй математики, если ясно и полностью установим целокупность ее определений, аксиом и теорем, то — настаивают сторонники этого взгляда — в остающихся таким образом в конечном счете «логических константах» отнюдь не содержится понятие мыслящего субъекта, которому была бы дана эта совокупная связь. Это понятие, согласно этому, не принадлежит самой области чистой логики и математики, а должно быть причислено к тем «лишенным всякого значения» концепциям, которые проникли в науку благодаря посредству философии[7]. Вместе с этим отпадает также всякое более близкое отношение идеальных истин математики и логики в активности мышления и, наоборот, определенно подчеркивается, что где бы дух ни постиг эти истины, он воспринимает их лишь пассивно, как нечто данное. В познании определенной связи умозаключений он так же вполне пассивен, как — согласно обычному пониманию — вполне пассивен орган чувств в своем восприятии чувственных объектов[8]. «Всякое познание, поскольку оно не является простой иллюзией, есть не что иное, как признание. Арифметику нужно открыть в том же точно смысле, в каком Колумб открыл Вест-Индию, и мы так же мало создаем числа, как он создал индейцев. Число „два“ есть не чисто духовная вещь, а сущность, которая может составить предмет нашего мышления. Что бы ни образовало предмета нашего мышления, оно обладает определенным бытием, и это бытие есть предварительное условие того обстоятельства, что имеется мышление, а не является само результатом мышления»[9]. «Объективность» чистых понятий и истин ставится, согласно этому, совершенно на одной ступени с объективностью физических отдельных вещей. Различие между обоими родами объективности снова, однако, резко выступает тотчас же, как только вспомним, что внутри круга, и логики и математики, мы можем добраться лишь до относительных, а не абсолютных «предметов». Не число, а лишь числа образуют подлинную «сущность». Единичное получает здесь свой смысл и свое содержание лишь от целого, но этого целого никогда нельзя представить себе сразу, наподобие покоящегося объекта созерцания — оно должно быть постигнуто в законе своего строения и быть определено этим законом для того, чтобы стать действительно обозримым. Для того чтобы понять численный ряд как ряд и, благодаря этому, лишь проникнуть в его систематическую сущность, нужен не только единичный апперцептивный акт, каковой считается достаточным для восприятия особой чувственной вещи, а всегда нужно многообразие таких взаимно обусловливающих друг друга актов. Всегда, следовательно, требуется здесь движение мысли, которое, однако, не есть простая смена представлений; в этом движении однажды достигнутое фиксируется и делается исходным пунктом новых эволюций. Из самой деятельности, следовательно, и проистекает признание пребывающего состава истин. Посреди акта продуцирования выделяется для мысли пребывающий логический продукт, поскольку она сознает, что сам этот акт не происходит произвольно, а протекает сообразно определенным правилам, которым он не может не подчиниться, если он хочет получить достоверность и определенность.
«Спонтанность» мышления образует, следовательно, не противоположность, а необходимый коррелят той «объективности», которая одна только доступна ему. Где это основное отношение не вполне понято, где односторонне подчеркивается лишь один из его мотивов, там скоро должна наступить реакция, которая оказывается опасной для постоянства самого логического. Этот общий мотив, может быть, легче всего дает нам возможность понять борьбу, которую «прагматизм» ведет против «чистой логики». Поскольку прагматизм состоит в приравнивании понятия «истины» понятию «полезности», мы спокойно можем предоставить его общей судьбе философских модных словечек. Те доводы, которые до сих пор приводились в защиту этого взгляда, остаются почти исключительно в области риторически-полемического стиля и рассеиваются, как только мы пытаемся перевести их на трезвый язык логического обоснования. Уже само понятие пользы противится всякой попытке точно очерченного определения, ибо эта польза констатируется и измеряется то по отношению к отдельному индивидууму с его особыми желаниями и склонностями, то по отношению к какой-то общеродовой структуре человека. Если мы будем придерживаться первого способа, то остается нерешенной как раз самая существенная проблема, именно возможность точного научного познания. Из индивидуальных чувств и стремлений так же мало можно построить науку природы, как и из индивидуальных ощущений, так как эта наука как раз стремится к выключению всех чисто «антропоморфных» элементов картины мира. Если же придерживаться второй альтернативы, то предполагается опять-таки существование постоянного физикопсихического субъекта, организация которого остается одинаковой и который развивается в условиях, которые сами характеризуются объективной правильностью: таким образом, всё понятие бытия, которое должно быть выведено, в действительности уже предполагается данным. Сама «польза» существует лишь в мире, в котором не что угодно может произойти из чего угодно, а определенные результаты связаны с определенными предпосылками: лишь внутри бытия и внутри однозначного порядка событий понятна и применима точка зрения «полезности».
Такого рода соображения не затрагивают, однако, более утонченной формы прагматизма, которую он получил в особенности в трудах Дьюи и его школы. Здесь проблема свободна, по крайней мере, от тех неясностей и двусмысленностей, которые облекают ее в популярно-философском споре. Дело идет — как это теперь делается ясно — о характере отношения между объективно значимы ми истинами науки и активностью мышления. Ведь само мышление, как оказывается при ближайшем рассмотрении, здесь превратилось в чистое и равнозначное выражение «действования». «Практическим» называется наше умозаключение, наше исследование, не потому, что оно необходимо к достижению внешней цели, а исключительно в том смысле, что оно представляет собою единство всего того, что мыслится, постоянно носящееся перед нами как последняя цель и указующее нашему познанию направление, по которому оно должно двигаться. Истинность какого-нибудь отдельного положения можно измерить лишь сообразно тому, что оно дает для решения этой основной задачи знания, для всё большего и большего объединения многообразного. Мы никогда не можем непосредственно сопоставить суждение с отдельным внешним предметом и сравнить его с последним как с самое по себе данной вещью, а всегда можем лишь спрашивать о функции, которую оно исполняет в возведении и толковании целокупности опытов. «Истинным» называется положение не потому, что оно совпадает с реальностью, пребывающей по ту сторону всякого мышления и всего мыслимого, а потому, что оно в процессе мышления само себя доказало на деле и привело к новым плодотворным выводам. Настоящим его оправданием является его действие, направленное в сторону всё большего и большего объединения. Всякая гипотеза науки обладает принадлежащим ей правом исключительно в отношении к этой основной задаче: она значима в той мере, в какой ей удается организовать в мыслях и единообразно формировать первоначально разрозненные чувственные данные[10].
Но критическое понимание познания и его отношения к предмету не опровергается всеми этими рассуждениями, ибо в них лишь получает дальнейшее развитие мысль, которую оно само с самого начала признает и кладет в основание. И для него также — как оно постоянно снова подчеркивает — понятия получают свою истинность не благодаря тому, что они являются отображениями существующих в себе реальностей, а потому, что они выражают идеальные порядки, устанавливающие и гарантирующие связь опытов. «Реальности», которые полагает и утверждает физика, не выходят за пределы этого смысла координирующих понятий. Они обосновываются не тем, что им указывается «соответствующее» им особое чувственное бытие, а тем, что они сами познаются как средства строгой связи и, следовательно, непрерывной относительной определенности самого «данного». Но признание этого обстоятельства не включает в себя ни одного из тех выводов, которые связывает с ним обыкновенно прагматизм. Сколько бы прагматисты ни подчеркивали «инструментальное» значение научных гипотез, всё же ясно, что здесь речь идет о чисто теоретической цели, преследуемой чисто теоретическими средствами. Воля, которая находит здесь свое удовлетворение, есть не что иное, как сама воля к логичному: не какие-нибудь индивидуальные потребности, меняющиеся от одного субъекта к другому, а общезначимые постулаты единства и непрерывности указывают направление прогрессу познания. И этот вывод, в самом деле, пробивает себе иногда путь через все двусмысленности понятия «практического». Сам Джемс указывает, что наше познание подчинено двойному принуждению: как в нашем знании фактов мы связаны природой наших чувственных впечатлений, так мы чувствуем «идеальное принуждение», определяющее наше мышление в области чистой логики и математики. Так, например, сотая цифра десятичной дроби, выражающей число л, определена наперед идеально, хотя бы фактически никто не вычислил ее. «Наши идеи, для того чтобы не сделаться добычей бесконечных самопротиворечий и бесконечных иллюзий, должны совпасть с реальностями, будут ли эти реальности конкретными или абстрактными, фактами или принципами»[11]. Ясно, что допущение такого рода «идеального принуждения» (caercions of the ideal order) ничем не отличается от объективного, логического критерия истины, оба суть лишь различные выражения одного и того же. То, что здесь дается, есть, следовательно, не опровержение «чистой логики», а лишь дальнейшее развитие мысли, лежащей в ее основании. Здесь не указывается новое решение, а ставится новая проблема, которая должна была отступить на задний план в первых общих приступах к обоснованию знания. Универсальные истины логики и математики не только не могут иметь эмпирического обоснования, но могут, как кажется, совершенно не иметь никакого отношения к миру эмпирических предметов. Их априорность опирается на их «свободе от существования» и действительна лишь в той мере, в какой выполнено это условие. В тот момент, в который мысль обращается к эмпирическому существованию предметов, она кажется как бы оторвавшейся от настоящего фундамента своей достоверности. Подлинное знание необходимости связи может быть достигнуто лишь там, где отказываются чтонибудь утверждать относительно элементов, входящих в отношение[12]. На этом безусловном разделении, как бы оно ни казалось сначала необходимым с методической точки зрения, нельзя, однако, остановиться, так как одна только возможность математического естествознания уже ему противоречит. Ибо в последнем оба типа знания, которые здесь противопоставляются друг другу, опять непосредственно соотносятся друг к другу: мы стараемся формулировать, постигнуть в форме рациональных математических порядков само эмпирическое бытие. Что это требование никогда не может быть выполнено в окончательной мере, вытекает из характера самой задачи. Ведь материал, который доставляется здесь для интеллектуальной обработки, сам никогда не предлежит готовым, как заполненный склад «фактов», а формируется лишь в процессе движения и получает в нем всё новые и новые формы. Это не постоянное, а переменное данное, которое должно быть понято и оценено именно в его изменчивости, в возможных преобразованиях, которым оно может подвергаться благодаря новым наблюдениям и опытам. Но эта переменчивость, составляющая характерную черту самой сути эмпирического, не включает, однако, в себя момента «субъективного» произвола. Само изменение определено и необходимо как таковое, поскольку переход от одной стадии к другой совершается не любым образом, а сообразно определенному закону. Чтобы доказать относительность понятия эмпирической истины, ссылаются больше всего на относительную значимость нашей астрономической картины мира. Так как абсолютные движения небесных тел — умозаключают те, которые приводят этот довод — нам не даны ни в каком опыте и никогда не могут нам быть даны, так как мы, следовательно, никогда не можем сопоставить астрономические построения с самими движениями небесных тел, то нет никакого смысла признать за какой-нибудь системой, например, за коперниковой, преимущество «истинности». Все системы одинаково истинны и одинаково действительны, потому что все они одинаково далеки от действительности вещей и означают не что иное, как субъективные объединения явлений, которые могут и должны оказаться различными, смотря по тому, какую мы изберем интеллектуальную и пространственную точку зрения. Но ошибка этого рассуждения совершенно ясна, ибо исчезновение абсолютного масштаба отнюдь не включает в себя исчезновения различия в ценности самих различных теорий. Это различие остается существовать во всей строгости, поскольку лишь сохраняется общая предпосылка, что меняющиеся фазисы понятия опыта не абсолютно разрознены, а связаны друг с другом логическими отношениями. Связь и сходимость ряда заменяют собою внешний масштаб реальности. Но и эту связь и эту сходимость можно открыть и установить (как и в арифметическом ряде) только посредством сравнения между собою самих членов ряда и посредством общего правила, которому они следуют в своем движении. Это правило дано, с одной стороны, благодаря тому, что форма опыта остается постоянной: особые пространственные конфигурации, которые мы кладем в основание нашего построения картины мира, меняются, но пространство и время, число и величина, как средства всякого построения, остаются. Но, кроме того, и некоторые материальные черты картины также остаются неприкосновенными при переходе от одной стадии к следующей: изменение не уничтожает прежнего состояния совершенно, а оставляет его существовать в новом толковании. Целокупность наблюдений Тихо де Браге входит в систему Кеплера, в которой она, однако, получила новую связь и новое значение. Но право всякой связи такого рода мы измеряем не сопоставлением с самими вещами, а сопоставлением с определенными верховными принципами познания природы, которые мы сохраняем в качестве логических норм. «Истинным» мы называем пространственный порядок, соответствующий этим принципам, построенный нами сообразно, например, с предпосылками и требованиями закона инерции. Сведение к такого рода верховным руководящим положениям гарантирует внутреннюю однородность опытного знания, в силу кото;
зоо рого все его различные фазисы объединяются, выражая один предмет. «Предмет», поэтому, столь же истинен и необходим, как и логическое единство опытного познания, — но, разумеется, не более истинен и необходим. Хотя это единство никогда не предлежит готовым, а, наоборот, всегда есть и остается лишь «проектированным единством», всё же его понятие определено вполне однозначно. Требование само представляет собою пребывающее, между тем как всякая форма его исполнения снова указывает путь дальше, за свои пределы. Единая действительность может быть определена и указана лишь как идеальная граница многообразно меняющихся теорий; но само полагание этой границы не произвольно, а неизбежно, поскольку лишь посредством нее устанавливается непрерывность опыта. Ни одной отдельной астрономической системы, коперниковой так же мало, как птолемеевой, мы не можем, согласно этому, признать выражением «истинного» космического порядка, а должны признать таковым лишь целокупность этих систем, как она непрерывно раскрывается согласно определенной связи. Таким образом, здесь не оспаривается инструментальный характер научных понятий и суждений: эти понятия значимы не постольку, поскольку они отображают некое данное неизменное бытие, но поскольку заключают в себе проект возможных полаганий единства, который должен оправдать себя в применении к эмпирическому материалу. Но сам инструмент, ведущий к единству, и вместе с этим к истинности того, что мыслится нами, должен быть в себе твердым и устойчивым; если бы он не обладал в самом себе определенной устойчивостью, то нельзя было бы сделать из него уверенного и продолжительного употребления; он искрошился бы при первом опыте и превратился бы в ничто. Мы не нуждаемся в объективности абсолютных вещей, но нуждаемся в объективной определенности пути самого опыта.
Реальное содержание мыслимого, до которого доходит познание, действительно, поэтому, точно соответствует активной форме мышления вообще. В области рационального, как и в области эмпирического познания, ставится одна и та же задача. В самом процессе познания возникает и укрепляется мысль об основном составе идеальных отношений, который, как таковой, остается тождественным самому себе и не затрагивается случайными, меняющимися во времени, обстоятельствами психологического постижения. Утверждение о такого рода постоянстве существенно для каждого акта мышления как такового; лишь способ доказательства этого утверждения создает отличие друг от друга различных ступеней познания. Пока мы остаемся в области логических и математических положений, мы обладаем прочно связанной целокупностью истин, которые покоятся неизменными в самих себе. Всякое положение здесь остается навсегда тем, что оно есть теперь; оно может быть дополнено другими присоединяющимися к нему положениями, но уже более не может быть преобразовано в своем собственном содержании. Но чисто эмпирическая истина как будто принципиально не поддается этой определенности: она назавтра — другая, чем была вчера, и означает, таким образом, лишь мимолетную остановку, которую мы делаем в смене представлений для того, чтобы тотчас же опять сдвинуться с нее. И, однако, эти два мотива, несмотря на всю их противоположность, объединяются, в конце концов, в единый тип знания. Лишь в абстракции мы можем отделить абсолютно пребывающие моменты от переходящих и противопоставить их друг другу. Ибо настоящая, конкретная задача познания состоит в том, чтобы сделать пребывающее плодотворным для самого преходящего. Состав вечных истин становится средством к тому, чтобы упрочиться в области самого изменения. Изменчивое рассматривается, как будто бы оно было пребывающим, так как мы пытаемся понять его как результат общих теоретических законов. Поэтому, хотя никогда и нельзя будет совершенно уничтожить различие этих двух факторов, всё же всё движение познания состоит в постоянном примирении, которое происходит между одним и другим фактором. Изменчивость эмпирического материала оказывается отнюдь не только препятствием, а также и положительным двигателем знания. Противоречия между математической теорией и совокупностью известных в то или другое время наблюдений были бы непримиримы, если бы с обеих сторон дело шло о неподвижных и неизменных данностях. Лишь после того как мы осознаем условность наших эмпирических познаний и, следовательно, гибкость материала, которым оперирует познание, открывается для нас возможность устранить противоречие. Мы устанавливаем согласие между данным и требуемым, снова обозревая данное в смысле теоретических требований и расширяя и углубляя, таким образом, его понятие. Постоянство идеальных форм теперь уже само имеет не чисто статический, а вместе с тем и преимущественно и динамический смысл; оно не столько постоянство в бытии, сколько постоянство в логическом употреблении. Идеальные связи, о которых говорят логика и математика, суть остающиеся одинаковыми линии, указующие направление, по которым ориентируется сам опыт в процессе его научного формирования. Эта функция, которую они постоянно исполняют, есть их пребывающее и непреходящее содержание, которое сохраняется как тождественное во всех изменениях случайного материала опыта.
Тождество и различие, постоянство и изменение, рассмотренные с этой стороны, также, следовательно, оказываются связанными между собою логическими моментами. Провозгласить абсолютную противоположность по существу между ними означало бы уничтожить не только понятие бытия, но и понятие мышления. Ведь мышление — как мы это всесторонне показали — не исчерпывается выделением аналитически общего из множества элементов, а проявляет свое настоящее значение лишь в совершаемом ею необходимом переходе от одного элемента к другому. Различие и изменение не образуют собою, согласно этому, принципиально «чуждых мысли» точек зрения[13], а принадлежат по своему основному значению к своеобразному вкладу интеллекта, и лишь в них он представлен в полном своем объеме. Если не признаётся эта коррелятивная двойственная форма самого понятия, то вскоре должна снова разверзнуться непроходимая пропасть между познанием и феноменальной действительностью. Мы тогда оказываемся опять перед основным взглядом элейской метафизики, которая в действительности получила в современных теоретико-познавательных исследованиях интересное и характерное возрождение. Для того чтобы понять действительность посредством наших физико-математических понятий, мы должны раньше — таков вывод представителей этого воззрения — уничтожить ее в ее подлинной сущности, в ее многообразии и изменчивости. Мышление не терпит внутренней разнородности и изменчивости элементов, из которых оно возводит свою форму бытия. Многообразные физические качества вещей растворяются для него, поэтому, в одном понятии эфира, которое само есть не что иное, как гипостазирование пустого, лишенного свойств пространства; живое созерцание временного течения событий застывает для него в неподвижность последних констант. Объяснить природу означает, следовательно, уничтожит ее как природу, как многообразное и изменчивое целое: вечно однородный, неподвижный «шар Парменида» представляет собою последнюю цель, к которой незаметно приближается всё естествознание. Лишь тому обстоятельству, что реальность противится стараниям мышления и ставит им наконец определенные непроходимые границы, мы обязаны тем, что она отстаивает себя от логического нивелирования ее содержания, тем, что в совершенстве знания не исчезает само бытие[14]. Как ни парадоксальным кажется это заключение, оно всё же является строгим и последовательным выводом из раз принятого объяснения интеллекта и его своеобразных основных функций. Но само это объяснение требует ограничения. Тождество, к которому всё больше и больше приближается мышление, есть не тождество последних субстанциальных вещей, а тождество функциональных порядков и координаций. Но последние не исключают момента различия и изменения, а лишь в них и с ними приобретают определенность. Многообразие как таковое не уничтожается, а ставится лишь многообразие другого измерения: математическое многообразие заменяет в научном объяснении чувственное многообразие. Мысль, следовательно, требует не угашения вообще множества и изменчивости, а овладения ими посредством математической непрерывности законов и форм рядов. Но для установления этой непрерывности мышление нуждается в точке зрения различия не менее, чем в точке зрения тождества; и первая точка зрения, следовательно, также не навязана ему извне, а имеет свое основание в самом характере и самой задаче научного «разума». Растворяя данные отдельные чувственные качества в множестве элементарных движений, превращая действительность «впечатления» в действительность «колебания», научный анализ показывает, что путь исследования не состоит исключительно в том, чтобы переходить от множества к единству, от движения к покою, но что и обратное направление, уничтожение кажущегося постоянства и простоты вещей восприятия, не менее правомерно и необходимо. Лишь проходя через это уничтожение, можно достигнуть нового смысла тождества и постоянства, лежащего в основании научных законов. Полное понятие мышления, таким образом, опять восстанавливает гармонию бытия: неисчерпаемость научной задачи не есть признак ее принципиальной неразрешимости, а содержит в себе условие и побудительный мотив ее всё более и более полного решения.
- [1] Ср. Riehl Der philosophische Kritizimus (в особен. II, 1. S. 285 ff.), и также изложениеэтого пункта в: Honigswald. Beitrage zur Erkenntnisstheorie u. Methodenlehre. Lpz. К дальнейшим рассуждениям ср. мою критику этого сочинения: Kantstudien XVI. S. 91—98.
- [2] 1 Ср. теперь в особенности Lipps G. F. Mythenbildung und Erkenntniss. Lpz., 1907.
- [3] 154 ff.
- [4] См.: Leibniz. Iuris et aequi elementa (Mollat, Mitteilungen aus Leibnitzens ungedrucktenSchriften. Leipzig, 1893 ff., cp. мое изд. главных философских сочинений Лейбница (Лейпциг, 1904 и сл., II. S. 504 ff.).
- [5] Keyser С. I. Mathematics — a Lecture Delirered at Columbia University. New York, 1907.P. 25 ff.
- [6] Подробнее об этом см. гл. VIII.
- [7] Ср. Russel. The Principles of Mathematics. I. P. 4: «Философия спрашивает у Математики: Что это означает? Математика прошлого была неспособна ответить — отвечала Философия, вводя абсолютно не относящиеся к делу понятия разума. Но теперьМатематика способна ответить — настолько, по крайней мере, чтобы свести все своиутверждения к некоторым фундаментальным логическим понятиям.
- [8] Ibid. § 37. Р. 33.
- [9] Ibid. § 427. Р. 451.
- [10] Ср. изданные Дьюи «Studies in Logicae Theory» (The Decennial Publications of theUniversity of Chicago. First series. Vol. III. Chicago, 1903).
- [11] James. Pragmatism. New York, 1907. P. 209 ff.
- [12] Cp. Meinong, Uber die Stellung der Gegenstandstheorie im System der Wissenschaften. Leipzig, 1907. § 5 ff.
- [13] Относительно понятия «чуждости мысли» («Denkfremdheit») см. Cohn J. Vor-aussetzungen u. Ziele des Erkennens. Lpz., 1908. S. 107 ff.
- [14] Cm. Meyerson E. Identite et Realite. P. 229 ff.