Приложение новых философских идей к пониманию истории
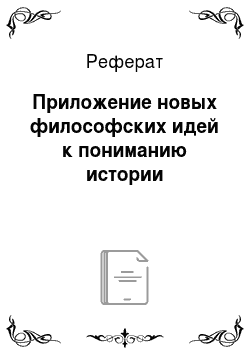
Таким образом, Лебедев возвращается к господствующим идеям системы. Не решаясь, во имя личной свободы и национального своеобразия, конструировать всемирно-исторический ход событий, он, тем не менее, допускает, как мы знаем, известную тенденцию всемирноисторического процесса, заключающуюся в постепенном совершенствовании человечества. Естественно ожидать при этом возражения, которое и делает себе… Читать ещё >
Приложение новых философских идей к пониманию истории (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
«Кант заметил уже и показал, что к прямой и существенной науке нет другого пути, кроме основательного исследования законов человеческого духа… Со времени его опытов вошло едва ли не в обычай — выводить внешнее из внутреннего, существенное из мысленного». «Фихте простерся дальше, возвыся духовную нашу организацию не только в первое и ближайшее, но и в единственное начало». «Шеллинг… увидел себя неудовольствованным состоявшейся философией… Объять вселенную действием умственного созерцания, не тесниться в кругу ограниченного, мелочного „я“, а познать все сущее, природу и дух в общем их начале, вот и главная цель его, блистательная заслуга»[1].
Мы не имеем в виду излагать здесь подробно философию Шеллинга, но для того, чтобы дать ясное представление о влиянии Шеллинга в России, кажется, будет всего удобнее напомнить общую связь его идей подлинными словами его русских последователей. Такой способ изложения всего лучше введет нас в понимание исторических идей русского шеллингизма.
Основной силлогизм той системы Шеллинга, которая получила название «философии тожества», может быть выражен следующим образом. Подобное познается подобным; посредством сознания можно познавать только сознание же. Но в сознании познается мир. Следовательно, мир есть видоизмененное сознание: бытие есть то же, что и мысль; познаваемое тожественно с познающим. Этот силлогизм точно формулирован на вступительной лекции И. И. Давыдова «О возможности философии как науки» (1826). «Если все, в видимости находящееся, должно быть познаваемо в духе, а сие возможно тогда токмо, когда законы познающего духа согласны с законами бытия явлений, — явствует, что формы знания согласны с формами бытия и могут служить одни другим взаимным объяснением». Содержание философии состоит в диалектическом развитии этого положения. Философия должна «показать единство и тожество законов обоих миров, идеального и вещественного, показать тожество знания и бытия»[2]. Для такого доказательства Шеллинг указывает два пути. Можно исходить от знания, — от мысли, от субъекта, — и вывести из него бытие, мир, объект. Дух создает из самого себя мир путем выделения из себя и противопоставления себе своих собственных духовных продуктов. Этим путем получается система трансцендентального идеализма. Но возможен и обратный путь. Можно пойти от природы, от объекта, и возвести ее к духу, к субъекту. Этот путь создает философию природы. Во всяком случае, тем и другим путем мы приходим к принятию тожества субъекта и объекта. «Субъект и объект по существу своему суть одно и то же; и в абсолютном понятии нет разницы между познанием и предметом оного… все объекты в мире по существу своему не различествуют, и видимая разница оных есть явление рефлексии (отражения) абсолютного в самом себе. Абсолютный универе… представляет самого себя под различными видами»[3]. «Чтобы представить мысль сию в чувственном виде, вообразим беспредельно обширное море, сильным ветром непрерывно волнуемое. Первое, что поразит нас, будут пенистые волны, с ужасным шумом воздымающиеся; к ним прикованный взор будет только видеть многоразличные формы пенистых возвышений, заметит только, как одна волна из другой рождается и поглощается последующей; как они, ежемгновенно исчезая и возникая, представляют постоянное явление волнения. Море — природа; волны — преходящие формы явления; вода в разных формах — вещественное; ветры — идеальное; все вместе взятое явление — производимость природы, а начальная причина сего общего волнения океана вещественности — „живый в движеньи вещества, теченьем времени Превечный“[4]. Эта картина не выдерживает, однако, духа учения Шеллинга в одном пункте. „Начальная причина“ производимости природы неотделима от самой природы, которая заключает в себе как „творимое“, так и „творящее качество“; идеальное начало не находится вне вещественного, как ветры» вне океана, а в нем самом. Если представить себе вещество и дух, как два полюса тожественного мира, то на каждой точке расстояния между полюсами будут присутствовать оба начала и сохранится между ними та же полярность; по мере приближения к противоположному полюсу каждое начало будет слабеть до бесконечности, но никогда не уничтожится вовсе. Таким образом, вещественное и идеальное неразрывно слиты в вечном процессе мировой жизни; этот процесс постоянного противоположения того и другого, непрерывной деятельности, и составляет самую сущность духовного начала, охватывающего обе противоположности и лежащего в основе мира. Мир вечен, как эта его основа, и, следовательно, не может считаться созданным во времени; основа мира неотделима от него и, следовательно, не может быть представлена «существом особого рода, еще же менее — существом оличенным»[5].
Итак, ни раньше мира, ни вне мира нельзя себе представлять существующей духовную основу мира; проникая собой мир, она сливается с ним и во времени, и в пространстве. Нельзя также заключать из психического характера мировой души, чтобы процесс мирового творчества был непременно сознательным. Самодеятельность природы существует раньше, чем в природе является самосознание. Бессознательная самодеятельность ведет только к созданию продуктов особого рода. Когда субъект имеет сознание, что созданный им объект есть его собственное произведение, тогда объект этот будет тожественным с мыслью, т. е. духовным. Таковы создания человеческого духа, идеи. Напротив, если субъект, выделяя из себя объект, не сознает своего тожества с ним, то он перестает узнавать в нем себя. Являясь на свет без этого сопровождающего сознания — тожества, объект не признается духовным и является фактом, внешним сознанию. Таков для человека реальный мир, не созданный человеческим сознанием; таков он и для природы, сотворившей его бессознательно: он не духовен, а веществен. Итак, тот же самый процесс творчества, который в самосознающем духе человеческом является идеальным и субъективным, в природе принимает вид реального и объективного. Деятельность, не сознающая самое себя, сознаваемая другим, представляется объективно, с точки зрения этого другого, как движение. И бессознательное творчество природы сознается познающим человеческим умом в форме движений. Деятельность объективирующая, выделяющая из субъекта объект, представляется при этом в виде расширяющегося движения. Деятельность, противопоставляющая выделенный объект субъекту, является в виде сжимающегося движения. На этих двух, противоположных друг другу, движениях основывается вся физика Шеллинга. Расширяющееся движение соответствует в сознании пространству, сжимающееся — времени; первое — свету, стремящемуся разлиться в бесконечность; второе — тяжести, стремящейся стянуть все к центру, к математической точке. Их взаимное противодействие или равновесие составляет твердое, непроницаемое, материю[6].Здесь мы вступаем в область натурфилософии Шеллинга, — часть его системы, особенно охотно усвоенная русскими шеллингистами. Уже «Биологическое исследование» Велланского познакомило русскую публику с фантастическим схематизмом немецких натурфилософов. Благодаря этому схематизму «сочинение сие имеет органическую целость, представленную в систематическом порядке так, что все части оного находятся между собой в непрерывной взаимной связи; и по силе содержания каждой одна проистекает из другой». В основе схематизма лежит динамический взгляд на явления природы, в противоположность механическому или атомистическому воззрению, господствовавшему в момент появления натурфилософии. Природа совершает целый ряд усилий, чтобы возвыситься до самосознания. Каждое следующее усилие опирается на предыдущее; каждая новая ступень (потенция), достигаемая творчеством природы, включает в себе все достигнутые раньше ступени. Каждый новый продукт природы есть микрокосм, в котором в малых размерах повторяется строение всего макрокосма. Основные черты схематизма природы уже намечены в схематизме математических понятий и геометрических форм. «Образование всей природы на нашей планете» происходит по аналогии линии, круга и эллипса с их изменениями во второй и третьей степени. В неорганическом царстве природы преобладает пассивный элемент над активным, «бытие» над «действием», объект над субъектом; в органическом мире, напротив, «творящее качество» природы имеет перевес над «творимым». Наконец, «человек есть целость органического мира на земле, общий центр животных и прозябаемых, где жизнь вселенной не отражается односторонне ни в творящем свойстве действия, ни в творимом качестве бытия, но в существенной одинаковости духа с материей». Если мы припомним, что и каждая отдельная ступень развития вселенной тоже есть сочетание творящего с творимым в известной пропорции и что каждая из них, подобно всему процессу, может быть разложена на те же противоположности или «полярности», то мы получим ключ к проведению того же схематизма в подробностях. Так, в мире неорганическом различными стадиями динамического процесса будут «магнетизм», «электрицизм» и «химизм». Магнетизм будет означать перевес пассивного элемента, соответственно тяжести; электрицизм — перевес активного, соответственно свету. Сочетание того и другого есть химизм, в котором, в свою очередь, можно опять различать «магнетический химизм», более пассивный, и «электрический химизм» или гальванизм, более активный. Продукты магнетической деятельности в природе суть твердые тела; продукты электрического творчества природы суть газы. «Средину между теми и другими занимают жидкости, как произведения химизма». Ту же постепенность динамического процесса Велланский указывает и в развитии форм органической природы. Страдательным элементом будет здесь растительный организм, деятельным — животный; первый относится ко второму, как магнетизм к электрицизму, как тяжесть к свету. И опять здесь мы можем совокупность растительных форм отдельно рассматривать как цельный организм, со своими особенными ступенями динамического процесса. Выделение этих ступеней даст основание для классификации растительного царства. То же самое можно сделать и с явлениями животного царства. Каждый высший класс явлений приводится схемой в тесную связь с предыдущими: например, устанавливаются взаимные отношения между каждым из найденных классов животных и растений — и магнетизмом, электрицизмом и гальванизмом, или твердыми, газообразными и жидкими телами, или даже линией, кругом и эллипсом. С каждой новой группой явлений количество этих параллелей увеличивается, сопоставление становится все запутаннее и произвольнее. Так, с животным миром присоединяется группа психических явлений: Велланский тотчас умещает их в свою схему. Три чувства воспринимают внешний мир в измерениях пространства, три другие — в измерениях времени (в интересах схемы Велланский вводит шестое чувство, отделяя «ощущение» от «осязания»; в своем «Начертании физиологии» он, впрочем, отказывается от этой классификации). Одни действуют магнитным, другие электрическим, третьи химическим способом. Далее, рассматривая совокупность животных форм как единый организм, Велланский устанавливает новые связи между отдельными классами животных и теми чувствами, которые они призваны выражать. Так, рыбы суть глаз животного организма, птицы воплощают слух, а млекопитающие составляют совокупность всех шести чувств. Будучи завершением животного царства, млекопитающие заключают в себе представителей всех шести классов: можно различать среди них млекопитающих-рыб, млекопитающих-птиц и т. д.
Истинным единством органического мира является человек. «Все царство животных можно почесть за один общий организм, которого частные члены суть все животные, а существенная целость представлена человеком». Отсюда вытекает ряд новых уподоблений между отдельными органами человека и соответственными классами животных: губы соответствуют червям, пальцы — моллюскам и т. д. Новые ряды нитей связывают человеческий организм с физическими силами и геометрическими фигурами и телами.
Не надо забывать, какое важное значение имели все эти искусственные аналогии для поколения двадцатых годов. Ценой их приобретался единственно возможный тогда монистический взгляд на мир; естественно, что молодежь переживала, благодаря этим теориям, «минуты восхитительные, минуты небесные, которых сладости не может понять тот, кого не томила душевная жажда, кто не припадал горячими устами к источнику мыслей, не упивался его магическими струями». Говоря словами одного из представителей этой молодежи, «для ее счастья было необходимо одно: светлая, обширная аксиома, которая обняла бы все и спасла бы ее от мук сомнения»[7]. Шеллингизм давал эту аксиому в своей идее единства мироздания, — и, притом, не мертвого, механического единства атомистической теории, а живого динамического единства жизни, проникавшей вселенную. Естественно, что атомизм и материализм XVIII в. становятся предметом горячих нападений молодежи: отсюда она выводила и падение науки, ударившейся в сухую специализацию, заразившейся духом формализма и ремесленное™, и падение искусства и религии, заменившейся утилитаризмом Бентама, безнравственностью мальтузианства, торгашеской расчетливостью и сухой прозой современного общества[8]. Лицом к лицу с этим упадком, молодежь проникается духом миссионерства и пропаганды. Она напомнит обществу про забытую им «любовь»; она снова «введет в уравнение» данные, забытые людьми при составлении «математической формулы» их поступков: «веру, поэзию, энтузиазм и высокое чувство»[9]. И вот, в пику политической экономии промышленного века, юные идеалисты культивируют самое бесполезное и самое философское из искусств — музыку; из противоречия прошлому здравому смыслу они создают апофеоз сумасшествия и помешательства как лучшего способа общения с таинственным миром духов. Словом, они переносят на русскую почву все вкусы и наклонности немецкого романтизма.
Естественно, что и из натурфилософии молодое поколение берет, главным образом, идею единой космической жизни и делает из этой идеи не столько научное, сколько поэтическое употребление. Такое перемещение интереса сразу чувствуется, например, если от «Биологического исследования» Велланского мы перейдем к «Размышлениям о природе» Максимовича, правда, довольно грубовато написанным[10]. Не входя в бесконечные подразделения Велланского, Максимович спешит принять (в главе V: «О разнообразии и единстве вещества») воду и воздух, друг в друга переходящие и производящие «все вещества минеральные», — за две основные стихии, которые могли «иметь своим началом одну общую земную стихию». В неорганическом мире жизнь природы сохраняется в застывшем, скрытом виде; в органическом — деятельность природы проявляется сохранением формы при непрерывном движении или изменении вещества. Далее, та же «жизнь, которая в минерале представляла мертвенное оцепенение, а в растении была деятельным хранителем своего произведения, в животном является еще чувствующею… посему животное имеет произвольное движение, происходящее от его внутреннего побуждения». «Наконец, жизнь восходит на высшую ступень, одухотворяется, и в храме природы воздвигается человек», природа «мыслит и сознает себя в человеке»[11].
С появлением человека бессознательное творчество природы кончается. Теперь она творит чрез посредство человеческого духа, и в результате являются духовные, а не материальные продукты. Но как бы для того, чтобы открыть человеку приемы собственного бессознательного творчества, природа наделила его способностью, аналогичной с ее собственной и составляющей переход от бессознательного творчества к сознательному. Фантазия и поэтическо-художественная деятельность человека — вот те области, которые вводят его в самые тайники зиждительного процесса природы. «Мир изящный — создание человека, — говорит Одоевский, — основан на тех же единых непременных законах, по которым движется и мир вещественный, создание Всемогущего»[12]. Таким образом, «достоинство искусства состоит в сообразии оного с натурою, которой скрытнейшие происшествия обнаруживаются искусством»[13]. Естественно, что эстетическая способность представляется нашим романтикам так же, как и немецким, каким-то особым органом познания, независимым от обычных и не всем доступным. «Эстетическая деятельность, — читаем у кн. Одоевского, — кого проникает до души не посредством искусственного логического построения мыслей, но непосредственно; ее условие есть то особое состояние, которое называется вдохновением, — состояние, понятное только тому, кто имеет орган сего состояния, но имеющее необъяснимую привилегию действовать и на тех, у кого этот орган на низшей степени». Этот взгляд объясняет нам тот первостепенный интерес, которым пользовались в глазах того поколения искусство и поэзия. Поэт в собственном вдохновении черпал объяснения сокровеннейших вопросов жизни и духа; в буквальном смысле слова, он жил мировой жизнью. «Вникните в поэзию величайших поэтов, каков Гомер, Данте, Шекспир… не видим ли во всяком их стихе,., что они глубоко изучили природу, что они проникли в мир действительный до самой сокровеннейшей его глубины, что они в нем все заметили, от Бога до червя?»[14]
Таким образом, эстетическая способность наиболее приближает человека к познанию истины; самое совершенное познание достигается тем же процессом, каким художник творит произведения искусства. Искусство становится высшей схемой для представления мирового процесса. Естественно, что и наиболее совершенная философия превращается в создание искусства; естественно и то, что такая философия перестает быть доступной для всякого, перестает быть общеобязательной формой знания. Истинное философствование есть дело гения: для него необходим особый талант «интеллектуального воззрения».
Не будем останавливаться на антропологических и психологических воззрениях русских шеллингистов и перейдем теперь прямо к историческим приложениям шеллингизма. Как мы видели, самый принцип мировоззрения Шеллинга есть исторический; первые его произведения носят явные следы гердеровского влияния. Однако же, сам Шеллинг ограничился самым общим приложением своих идей к объяснению хода всемирной истории: и даже то немногое, что сказано по этому поводу в конце «Системы трансцендентального идеализма», было им впоследствии взято назад. Преимущественные наблюдения единства, тожества в развитии делают Шеллинга даже равнодушным и невосприимчивым ко всему изменяющемуся в процессе. Все изменяющееся есть мнимое, кажущееся; истинная сущность остается неизменной. «Все, что происходит по определенному механизму или что может быть выведено a priori, — говорится в „Системе“, — совсем не составляет предмета истории. Теория и история прямо противоположны друг другу. Человек только потому имеет историю, что-то, что он совершит, нельзя рассчитать ни по какой теории. Произвол, в этом смысле, есть божество истории… С царством разума и совершенной свободы история бы закончилась»[15]. Другими словами, история есть субъективная человеческая иллюзия, происходящая от неполноты человеческого самосознания. Объективно истории не существует, как не существует и реального мира; существует одно абсолютное, бесконечно добивающееся полного сознания самого себя. Не сознающий себя мировой дух творит реальные явления природы; точно так же и не сознавший себя вполне человеческий дух создает в истории нечто реальное, внешнее себе, именно «правовой порядок». Не сознавая своего тожества с созданной им общественной формой, человеческий дух вступает в противоречие с этой формой, как несовместимой с его сознанием внутренней свободы. Таким образом, история на первой ступени является внешним духу стеснением его свободы, необходимостью, судьбой. Дальнейшее развитие истории состоит в постепенном примирении и слиянии этой внешней необходимости с внутренней свободой.
Отрицательное отношение Шеллинга к истории, как к чему-то иррациональному, сказалось, как увидим ниже, и в философско-исторических конструкциях русских шеллингистов. Но, несмотря на такое отношение к истории, в общих идеях философии тожества заключалось столько материала для исторических построений, что немецкие последователи Шеллинга не замедлили сделать из него соответствующее употребление, а следом за ними пошла и русская молодежь двадцатых годов. Под влиянием шеллингизма должны были перерешиться теперь самые коренные вопросы истории. Распространяется ли закономерность мирового процесса, изображенного Шеллингом, на исторические явления, или в них действительно господствует произвол, не подчиняющийся никаким законам? Заслуживает ли поэтому история названия науки или не заслуживает? Если признать закономерность исторического процесса, то как примирить с этим идею личной свободы и нравственного достоинства? Далее, если признать исторический процесс чем-то цельным, подобно мировому процессу, какие выводы вытекают из такого признания, и как должны быть конструированы важнейшие моменты процесса? Мы сказали, что с точки зрения шеллингизма предстояло перерешить все эти вопросы; но для правильного понимания роли шеллингизма в развитии русской исторической мысли вернее было бы сказать, что большая часть перечисленных вопросов под влиянием шеллингизма впервые были поставлены в России. Если раньше мы и могли говорить о «философии истории» различных русских исследователей, — в смысле их наличного мировоззрения, — то о сознательном и систематическом философствовании над теоретическими вопросами истории речь может идти, только начиная с двадцатых годов XIX в.
Честь первого связного ответа на наши вопросы принадлежит некоему И. Среднему-Камашеву, поместившему в «Вестнике Европы» за 1827 г. ряд статей под названием: «Взгляд на историю как на науку». Если припомнит читатель, с этой статьи мы готовы были вести новый период в развитии русской исторической мысли (с. 11—12). Статья Камашева не самостоятельна, а скомпилирована по Гердеру и некоторым шеллингистам; но это не уменьшает ее значения как первого печатного заявления новых идей.
«Науки точные, — говорится в статье, — по словам некоторых, только одни могут иметь систему, т. е. быть собственно науками, — все прочее есть только знание. Здесь основываются на том, что только в сих науках открыты законы непреложные, законы, удобные к определению… Но, с другой стороны, нам доказывают, что каждый порядок вещей видимых, каждое действие сокровенных сил природы или ума человеческого имеет свое начало, без которого бы существовать не могло, — и отсюда выводят понятие о науке каждого рода явлений. Рассматривая с этой точки все предметы наук, кажется, нельзя не одобрить и разделения их на три главные отрасли: богословие, изучение природы, т. е. вещественных сил ее, и на антропологию — учение о человеке. И здесь-то, в сей последней отрасли наук, где предначертания воли всемогущей являются в образе совершенной свободы, — здесь-то всего труднее отыскать непрерывную цепь законов, связующих человека с прочим творением. Сюда относится и самая история».
Отнеся, таким образом, историю к разряду наук антропологических, Камашев рассматривает затем ближайшим образом ее положение в ряду этих наук. «Какая могла бы быть связь между историей человека и науками, рассматривающими силы души, ее действия, ее отношения к предметам окружающим?» — спрашивает автор. Его ответ на этот вопрос удовлетворил бы и современного теоретика. «Такая же (связь), — отвечает он, — как между оптикой, механикой, астрономией и общим их началом — математикой. В последней рассматриваются силы, в первых — исполнение оных в лучах света, в движениях земных тел и небесных. Психология, логика, этика говорят нам о законах души; история — о ее действиях, которые также суть не что иное, как те же самые законы, только имеющие вещественную оболочку». Другими словами, по терминологии нашего времени, Камашев определяет историю как конкретную (или феноменологическую) науку по отношению к соответствующим ей абстрактным (номологическим): психологии, логике и этике; конечно, современные теоретики не согласились бы причислить к последним, наряду с психологией, такие чисто нормативные дисциплины, как логика и этика.
Далее, Камашев ставит на очередь вопрос, каким образом примирить идею закономерности с идеей свободы. «Возражение, — замечает он, — будет состоять в том, что человек одарен свободой в своих действиях». Ответ автора опять чрезвычайно любопытен, особенно если примем во внимание, что вопрос, по тогдашнему времени, был очень щекотливого свойства. «Свобода, — говорит Камашев, — нимало не отрицается! (Но) человек, при всей свободе в своих действиях, все остается орудием неисповедимых судеб Промысла; а свободы безусловной в мире вещественном и существовать не может, — только чистейший дух не имеет законов!.. Да и каким же образом не допускать никаких ограничений души, когда существует самая психология, в которой говорится о законах воли? Мысль, унижающая самое Божество: в ней я вижу титанов, воюющих против неба! Ею разрывается всякая связь между Творцом и человеком, Его творением, который является здесь как начало независимое».
Автор сам указывает затем резкое различие нового взгляда на историю от старого. «Не простое изменение событий, не затверживание годов и имен, ничего не значащих по самим себе, может возвысить историю до степени науки. Нам говорят о прагматическом ее преподавании? Полезно наблюдать каждое событие, отыскивать цепь причин, стечение которых послужило началом какого-либо переворота в существовании государств. Но таковые наблюдения подобны трудам ботаника…, не постигающего совершеннейшей системы царства прозябаемого. Итак, только с одной точки зрения, о которой было уже упомянуто, можно смотреть на историю как на науку, — как на чистейшее зеркало, в котором отражаются судьбы, управляющие человеком».
Если история, как наука, есть объяснение всемирных судеб человечества, то целью научной истории является открытие всемирно-исторического плана, управляющего этими судьбами. «Каким же образом разгадать безошибочно смысл огромной задачи, какова история веков?» — спрашивает автор. Ответ подсказывается общим схематизмом философии тожества. Здесь, как и в других случаях, аналогия послужит вместо объяснения: аналогия между мировым и человеческим организмом. «Мысль, что летописи планеты, нами обитаемой, — как изложение всех изменений ее в течение различных периодов времени, — точно в таком находятся отношении к повествованию о жизни человека в особенности, какое допускается между природой вообще и ее микрокосмом, — (эта мысль) будет положением, развитие и доказательство которого необходимо нужны для раскрытия всего плана истории… Так можно выводить понятие о периодах истории человечества». Проводя далее аналогию между историей человечества и биографией отдельной личности, мы получим уподобление этих периодов всемирной истории возрастам человеческого организма. Затем, остается только проверить это сравнение эмпирически. «Такие умствования сами по себе ничтожны, когда они не подтверждаются опытом; последний служит всегда наилучшей проверкой. Итак, мысль, что в истории вообще должен раскрываться тот же самый ход, который замечается в жизни каждого человека в особенности, тогда только может быть признана в полном размере истиной, когда ее совершенно оправдают самые исторические события». Сообразно этому замечанию, Камашев и переходит дальше к проверке или, точнее, проведению своей конструкции на действительных фактах. В напечатанных статьях он успел характеризовать историю Востока, как период младенчества, и классический мир, как период юности человечества. На этом статьи Камашева остановились.
Дальнейшим материалом для истории усвоения исторических идей шеллингизма послужат нам «Исторические афоризмы» Погодина, набросанные, как мы знаем, еще в 1823—1826 гг., и впервые напечатанные в 1827 г.[16] В способе усвоения новых взглядов Погодиным сказались его характерные особенности, отчасти нам уже известные. Но поскольку «Афоризмы» выражают личное историческое мировоззрение Погодина, мы будем о них говорить в своем месте. Здесь они нужны нам только как показатель той совокупности идей, которая пущена была в общий оборот шеллингизмом. Как будто нарочно для того, чтобы лучше оттенить эти общие места шеллингистской философии истории, за два года до отдельного издания «Афоризмов» вышла интересная книжка одного из слушателей Погодина, Кастора Никифоровича Лебедева, прошедшая, кажется, и в то время совершенно незамеченной[17]. По-видимому, Лебедев не принадлежал к поклонникам Погодина; по крайней мере, он отлично умел подметить его слабые стороны в своей шутливой сатире «О царе Горохе»[18]. Однако же, мысли, развиваемые в книжке Лебедева, во многих существенных чертах совпадают с мыслями «Исторических афоризмов». Нет надобности объяснять это сходство заимствованием, тем более, что Лебедев, как увидим, гораздо глубже Погодина вдумался в теоретические вопросы истории. Вернее будет предположить, что к началу тридцатых годов историческая топика шеллингизма сделалась общим достоянием интеллигентной молодежи. На общем фоне сходных положений различие между обоими авторами обрисуется тем отчетливее.
Что история есть наука, так как исторические явления подчинены законам, — это есть основная аксиома, из которой исходят все дальнейшие рассуждения Погодина и Лебедева. «Необходимо должны быть законы исторической жизни, — замечает последний, — иначе частные явления, без системы, без цели, представят несвязное совокупление подробностей, изучение которых не принесет никакой пользы уму и, по ложному понятию, будет принадлежать одной памяти». «Неужели, — спрашивает в свою очередь Погодин, — все разнообразные явления происходят сами собой, то есть могут быть и не быть, заменяться другими, не имеют никакого единства, согласия? Рассудок невольно противится принять такое нелепое положение… Так, мир нравственный верно подчинен таким же непреложным законам, как и мир физический»[19].
«Но как согласить теперь существование сих высших законов необходимости… с человеческой свободой?»[20] «Мир вещественный имеет законы, — говорят новейшие систематики, — следовательно, и мир человеческий должен иметь таковые же, но как согласить фатализм с христианством, предопределение со свободой духа, судьбу и случай?» «Действие природы необходимо… бессознательно, определенно, всегда правильно. Действие человека — вольно, сознательно». «Итак, сознательное действие различно по человеку, по народу, — итак, нет двух особ совершенно сходных; итак, нет двух историй одного содержания; итак, история не имеет законов?» «Должно ли нам прибегнуть к фатализму? Должно ли отказаться от обретения законов истории? Первое несообразно, второе — противоположно: тогда мы не уместим всех подробностей, откажем истории в достоинстве науки». С другой стороны, «каково будет значение человека, если мы допустим предопределение, которому подчиняется личная воля? Раздастся ли тогда голос совести, когда мы найдем оправдание своим действиям в путях Промысла?» «Итак, предопределение в истории унизительно для разума, безотрадно для сердца и смертоносно для воли. Человек в фаталистической истории является существом жалким, ниже самого последнего животного: он сознает свою судьбу против собственного желания, он действует и не в силах направлять своего деиствования: он служит и не знает — кому; он живет и не смеет знать — для чего. Итак, трансцендентальное воззрение на историю противно религии в теории и гибельно для общественной жизни в практике»[21].
Очевидно, оба автора не решаются отвечать на поставленный вопрос так решительно, как это сделал Камашев. «Нет, мы не слепые орудия высшей силы, — заявляет Погодин, — мы действуем, как хотим, и свободная воля есть условие человеческого бытия, наше отличительное свойство. Это столь же ясно и верно, как и первое предложение, нами вышесказанное, о бессмысленности случаев. Мы положили прежде, что существует необходимость; теперь должны положить, что существует свобода. Как же они могут существовать вместе? Как они не мешают одна другой?» Погодин отказывается дать определенный ответ и признает совмещение необходимости и свободы — непостижимым для человеческого ума. «Соединение или, лучше, тожество законов необходимости с законами свободы — такое же таинство, как соединение мысли со словом, как соединение души с телом». «Каждая наука имеет свои таинства: таинство истории — связь законов необходимости с законами свободы. Признаюсь, мне странно видеть, как многие мыслители могут до такой степени обманываться своею логикой, своею оптикой, что почитают себя понимающими это таинство, или, по крайней мере, стыдятся как будто не понимать его». Самое большее, что допускает Погодин, это — возможность показать параллелизм свободных человеческих действий и необходимого течения исторических событий[22]. Нужно, впрочем, сказать, что на дальнейшее развитие взглядов Погодина это признание человеческой свободы не оказывает заметного влияния; признав свободу явлением необъяснимым и несовместимым с идеей закономерности, он больше к ней старается не возвращаться, а при случае, сам того не замечая, и прямо отрицает свободу воли. «Рассмотрите все великие происшествия, — замечает он, например, — то ли произошло от них, чего хотели действующие лица? Нет, а то, о чем они и не думали. Люди действуют сами по себе и для себя, а человечество само по себе и для себя. В этом большом человеке уравновешиваются по закону необходимости все противоположные силы людей, действующих по закону свободы»[23]. Таким образом, практически Погодин приходит к фатализму, и, притом, как увидим впоследствии, к фатализму самого худшего вида.
Иного рода ответ дает Лебедев. Не объявляя вопроса неразрешимым, он старается найти решение в самом характере необходимого хода всемирно-исторической жизни. Эмпирические наблюдения над процессом истории показывают, по его мнению, что этот процесс и состоит в постепенном развитии свободы. Мы видим здесь «постепенное стремление человека к совершенству, неукоснительное развитие духовного начала на счет телесного, последовательное приобретение человеческого ума в господстве над природой». Таким образом, «закон (исторической) жизни есть не фатализм, но свободное совершенствование»[24].
Однако же, «убедись в стремлении человечества к совершенствованию, мы не избежим еще возражения: существуют ли определенные законы самого акта сего стремления? Определенно ли являются племена на театре действования? Определенно ли время их бытия, период их продолжения и исчезновения? Есть ли условия сего стремления?»[25] Вопросы эти возвращают нас к решению вопроса об исторической закономерности. Предположив, что вопрос о свободе воли так или иначе решен, признав a priori научность истории и закономерность исторического процесса, мы должны еще доказать существование этой закономерности на самом ходе всемирной истории.
Из разбора статьи Камашева мы уже знаем, что на помощь в этом случае является уподобление человечества одному цельному организму, мировому, планетному или человеческому. Погодин чрезвычайно широко пользуется этими параллелями, вырывая частные черты из мира физических, биологических, антропологических явлений и бесцеремонно сопоставляя их с отдельными событиями истории. «Происшествия» он «делит на роды, виды, разности, как делят растения и минералы»; народы у него «вступают в брак между собой, как лица», и он ищет, для довершения параллели, «народов вдовых, безбрачных, народов мужского и женского рода»; «государства, для восстановления сил, спят, подобно отдельным людям»; полярность сил, центробежной и центростремительной, отражается на истории Европы; «линии образования» идут подобно «магнитным линиям» и т. д.[26] Однако же, в основе большинства уподоблений Погодина лежит ближайшая, сама собой напрашивающаяся параллель с человеческим организмом и развитием отдельной человеческой личности. «История должна из всего рода человеческого сотворить одну единицу, одного человека, и представить биографию этого человека, через все степени его возраста. Многочисленные народы, жившие и действовавшие в продолжение тысячелетий, доставят в такую биографию, может быть, по одной черте. Черту сию узнают великие историки». Этот тезис поставлен Погодиным во главу «Афоризмов». Но при проведении основной идеи в подробностях встречаются затруднения. Следует ли представлять себе биографию человечества в виде одной непрерывной цепи, в которой каждая народность играет роль особого звена? В таком случае развитие государств должно совершаться в известной последовательности, «наблюдать известную череду»: поочередно каждое «выходит на общую сцену, играет роль первоклассную или второклассную, уступает место одно другому, возвращается в свои границы» и т. д. Каждое последующее, в духе шеллингизма, должно соединять в себе успехи, достигнутые всеми предыдущими: «выходить новым изданием, исправленным и дополненным». «Химику нужен такой-то состав; он делает двадцать опытов, которые ему не удаются; наконец, двадцать первый удовлетворяет его ожиданию, но этот двадцать первый не мог бы быть, если бы не было двадцати прежних. Рассматривая историю народов, примечаешь подобное явление: они служат друг другу как будто ступенями, корректурами, и равно важны в истории рода человеческого. Ботаник в зерне видит плод, а в плоде зерно. Он не отдает преимущества ни тому, ни другому, а смотрит с любовью на всю жизнь растения. В часах много колес и пружин, разной важности, но часы не могут хорошо идти, если бы испортилось хотя одно из них, самое маловажное»[27]. Сопоставление двух последних иллюстраций очень характерно, потому что подчеркивает колебание Погодина между двумя различными представлениями о единстве человечества. Объединяются ли различные народы в этом единстве, как ступени развития одного и того же растения, от зерна до плода, или же народы одновременно тянут каждый свою ноту, сливающуюся в мировой аккорд, подобно тому, как соединяются в одно общее движение колеса часового механизма? Господствующая концепция Погодина — хронологическая: человечество в целом проходит свои шесть дней творения, минеральную, растительную, животную и человеческую эпохи[28]. Но в таком случае как быть с народами, не принявшими вовремя участия в этом торжественном шествии человечества к самосознанию? Ведь при последовательном приложении шеллингистской идеи «каждый народ, каждое государство перебывает на всех ступенях в свое время, так или иначе, раньше или позднее, крепче или слабее, медленнее или скорее. Времени, которое было в Европе, не было еще в Азии и Африке: так солнце освещает страны, одну за другой, и европейский вечер есть американское утро». Итак, развитие человечества представляет не одну непрерывную нить; напротив, «все истории могут быть вытянуты параллельными нитями своего рода. Как в царстве прозябаемых между высокими пальмами, так и в роде человеческом в одно время с немцами, французами, русскими живут кафры, готтентоты, чуваши, и все они чувствуют бытие свое, имеют собственные свои наслаждения и могут подниматься выше в своем образовании». Какая же роль принадлежит им в составе цельного человеческого организма? «Может быть, балласт необходимый, если ничто другое, — азот, нужный для бытия воздуха», — замечает Погодин[29].
С теми же основными идеями оперирует Лебедев, но он размещает их в несколько ином и гораздо более естественном порядке. И он исходит из положения, что «человечество есть человек, воля его есть воля неделимого»; и он на этом основании «допускает возрасты жизни, великие циклы в ходе человечества»[30]. Но между тем как Погодин держит постоянно в уме мировое развитие человечества, усиливаясь определить его ход на основании рискованных параллелей из самых отдаленных областей знания, Лебедев исходит из ближайшего данного, из сопоставления развития личности и отдельного народа. Мы видели, как отвечал Погодин на цитированные выше вопросы Лебедева, «определенно ли являются племена на театре действования, определенно ли время их бытия, периоды их продолжения и исчезновения». Сам Лебедев отвечает на это иначе. «Раннее или позднее явление какоголибо племени на сцене действия зависит от более или менее благоприятных условий; преуспеяние жизни, скорейшее развитие совершенно связано с точностью действования по сим условиям. Но кому угодно будет спросить: отчего здесь сие развитие было поспешно, инде медленнее? Отчего один народ преуспевает, другой коснеет? Отчего тот народ здесь, а другой там? Того я прошу искать решения в басне Хемницера „Метафизик“. И, притом, к чему бы была тогда история мира, если бы все виды жизни следовали одинаковому закону развития? Не сделалась ли бы история канонической формулой, в которую мыслителю оставалось бы только вставлять в раму римской истории события китайской?» История отдельных народов вполне индивидуальна и не может быть сведена в общую формулу; историческая наука конкретна, а не абстрактна — такова мысль Лебедева. «Тогда как во всех философских и опытных науках непременно мы находим две части, общую и частную, или чистую и прикладную, история, как мир фактов, происшедших не по предопределению, но по предуставлению, допускающему волю человека, прямо начинается подробностями, самобытными и отдельными, зависимыми и относительными, и сохраняет свой характер от первой до последней своей страницы: вот почему методология была редко и неудачно прилагаема к истории, вот почему систематика новейшей философии имела наименьшее влияние на историческое искусство»[31].
Эти соображения не заставляют, однако же, Лебедева отказаться от собственной попытки создать некоторую методологию и конструкцию исторического процесса. Они только делают нашего автора осторожнее, заставляют его ближе придерживаться конкретного данного и не пытаться насильственно упрощать исторических объяснений.
В противоположность Погодину, он избирает, как мы уже заметили, исходной точкой своих объяснений не все человечество, а отдельную национальность. Конечно, и Погодин готов утверждать, что периоды всемирной истории повторяются и в национальной; в «Афоризмах» он говорит и о юности народа, и о его старости и естественной смерти. Но чаще всего он склонен смотреть на отдельный народ как на неделимую единицу, не подлежащую дальнейшему анализу: это — «семя», скрывающее в себе все будущие свойства своего развитого состояния. Отдельный народ фатально предопределен быть носителем той или другой «черты», нужной для всемирно-исторического процесса[32]. Лебедев решительно отказывается от такого «трансцендентального воззрения» и предпочитает «психологическое». Психологию различных человеческих возрастов он признает твердой опорой для исторических объяснений; с нее он и начинает. В психологическом развитии человека он различает пять периодов. По отношению к познавательной стороне души эти пять периодов характеризуются как постепенное развитие «чувства, силы представительной, разума, ума и ведения». В области чувствований им будут соответствовать «чувствование, сила вообразительная, чувство, фантазия и созерцание». В сфере деятельности это будут: «естественный инстинкт, наклонность, желание, воля и верование». Наконец, совокупность душевной жизни будет характеризоваться в первом периоде как «самочувствие», во втором — как «сознание», в третьем — как «самосознание», в четвертом — как «самообладание» и в пятом — как «богопознание». Опираясь на эту схему психической эволюции, Лебедев различает пять соответствующих возрастов «человечества», которым он дает точное описание: животный, чувственный, поэтический, умственный и религиозный. «Я бы желал сделать ближайшее приложение, — замечает он в заключение, — но несовершенство истории отказывается представить требуемые данные».
Распространить только что найденную схему на развитие всего «человечества» мешали Лебедеву ранее приведенные его мнения. Подчиняясь ходячему схематизму новой школы, Лебедев готов был, правда, признать, что «сии возрасты в преемственном последовании составляют цикл или круг, говоря языком восточным, один день мира, один час высшей жизни». Но в его собственной схеме анализ психологических условий исторической жизни имел совсем другое значение. Мы припоминаем, что каждую национальную историю автор считал своеобразным явлением, не похожим ни на какое другое. Каким же образом мирилось это представление с теорией пяти возрастов человечества, дававшей как раз ту самую каноническую формулу истории, возможность которой автор так решительно отрицал? Примирение того и другого — разнообразия и единства — Лебедев находил в дальнейшем анализе «условий исторической жизни». Одни из этих условий «всеобщи и без исключения принадлежат всем народам». Это именно и есть «психологические условия, выведенные из свойства самого духа». Другие — суть «условия частные»; они-то и составляют причину разнообразия в жизни отдельных народов. Это именно «условия физико-географические». Опять-таки, параллельное утверждение мы можем найти у Погодина. «Есть один закон, по которому образуется человечество, — говорится в „Афоризмах“, — но в каждом народе ход сего образования изменяется вследствие разных внешних обстоятельств». Эта случайная для Погодина мысль у Лебедева развивается в целую систему. Физикогеографические условия жизни суть: широта места, положение и почва страны. Широта места определяет климат, оказывающий решительное влияние как на общественную, так и на частную жизнь. По положению страны историческая жизнь может быть или средиземная, или островная, или полуостровная, соединяющая оба предыдущих типа. Наконец, жизнь народов разнообразится по свойству почвы, гористой или равнинной, влажной или сухой, плодородной или бесплодной, богатой или бедной естественными произведениями.
Взаимодействие психических и физико-географических условий и создает разнообразие местных историй. Итогом этого взаимодействия будет национальность. «Форма нации зависит от условий местности, существо нации — от духа народа. Душа определяет общее направление, местность дает оному частное русло».
Автор не был бы верен своему времени, если б он остановился на этом анализе происхождения национальности из сложных элементов. Закончив анализ, он спешит в духе шеллингизма снова интегрировать понятие национальности. «Силы мои отказываются определить национальность, — восклицает он, — слово глубочайшего значения, слово нашего времени, которое все знают, все чувствуют, но которое можно чувствовать, а не определить». В начале исторической жизни «все народы имеют один ум, одно знание: все согласны в абсолютном». Но этого начала мы уже не знаем; на памяти истории «все народы имеют уже свою жизнь, потому что все имеют память своей юности и свои условия, психологические и местные; все народы имеют свой дух, свой характер, и этот-то дух народа я называю национальностью. Итак, что такое национальность? То неизменное начало жизни, в котором отражаются все условия жизни, то родимое пятно народа, которым запечатлен его рок для отличия от других, то свойство нации, которое относится к свойствам других наций, как одно понятие к другому; средоточие всех сил народа, которое в душе мы назвали сознанием. Да, национальность есть сознание нации, национальность есть идея нации:
сюда, как к точке расплавления, сводятся все лучи, все радиусы; отсюда, как из центра, направляются все развития центра, запечатленные одним характером, одушевленные одной душой, одним духом, при всем разнообразии форм, политических, религиозных, умственных. Ум и чувство сливаются в воле; религия и философия сливаются в понятиях народа"; и «если все условия жизни совокупляются в понятии о национальности, то самое торжественное выражение национальности есть язык, слово народа; язык передает мысль народа человечеству»[33].
Таким образом, Лебедев возвращается к господствующим идеям системы. Не решаясь, во имя личной свободы и национального своеобразия, конструировать всемирно-исторический ход событий, он, тем не менее, допускает, как мы знаем, известную тенденцию всемирноисторического процесса, заключающуюся в постепенном совершенствовании человечества. Естественно ожидать при этом возражения, которое и делает себе сам автор. «Род человеческий является нам в истории так разнородным, что невозможно допустить постепенного развития и совершенствования». Рядом с образованными и прогрессирующими племенами всегда существовали дикие, рядом с успехами просвещения и терпимости торжествовали фанатизм и суеверие; «на древнем образовании воссело средневековое варварство» и т. д. Разрешения этого противоречия Лебедев ищет в особой «системе семейственности». «Представьте себе многочисленное семейство: мать и отец владеют богатством знаний и опытности. Дети, один одного юнее, в избранный нами момент, согласно со своим возрастом, — дети и по телу, и по духу. Вы говорите: образованное семейство, хотя в нем есть члены, по образованию ниже всякого дикаря; но сии члены, рано или поздно, достигнут состояния своих родителей, чего нельзя сказать о детях лапландца». Точно так же, одно и то же общество состоит из разнородных слоев, не лишаясь единства; точно так и инородческие племена живут в одном государстве с племенами господствующими, и чем дальше идет история, тем «семья» народов становится шире и тем больше история принимает действительно всемирный характер. «В древности история заключалась в коленах (эллинское, латинское), в Средние века — в племенах (германское, словенское), в наше время — в частях света (Европа, Азия). Остается… история по элементам вселенной». Таким образом, обе точки зрения на историю человечества как на преемственное, и как на совместное развитие отдельных национальностей, могут быть совмещены, если только применять их к различным отделам этой истории. В древности народы развивались изолированно, в известной последовательности; их история может быть поэтому излагаема преемственно. Напротив, чем ближе к Новому времени, тем теснее становится связь между различными народами, тем шире раздвигается круг «семейственности» и тем больше, следовательно, преемственное, этнографическое течение и изложение событий должно сменяться синхронистическим[34].
Нам остается заметить, что новый взгляд на сущность исторического процесса должен был вызвать совершенный переворот во взглядах на задачи исторического исследования и изложения. Не прагматизм и не художественность рассказа, не оценка исторических фактов с точки зрения идеала и суд над историей во имя того, что «могло бы быть», должны быть целью историка. Между читателем и сообщаемым фактом ни в каком случае не должна стоять личность рассказчика с его взглядами и теориями. «История наук, религии, обычаев и пр. возможна без всяких воззрений». Это вовсе не значит, однако, что история должна вернуться к старой летописной манере. Напротив, с летописной манерой новое историческое воззрение покончило навсегда. С новой точки зрения, история не должна зависеть от случайной степени сохранности своих материалов. «То, что недостойно памяти истории, что принадлежит простой случайности», история имеет право отбросить, так как «полнота истории не заключается в мелких подробностях», а «в непрерывной последовательности хода явлений». С другой стороны, «при недостатке известий», история имеет право пополнить их своей догадкой[35]. И самый предмет исторического изучения должен измениться вслед за изменившимися задачами. «До сих пор занимались больше всего материальной, телесной, внешней, т. е. политической, частью истории». Это и понятно, потому что «в других явлениях труднее находить связующую нить», которая в политической истории дается сама собой, простым хронологическим сопоставлением фактов. Но «теперь начинают заниматься внутренней» историей. С одной стороны, «это история ума и сердца человеческого», которыми создаются поступки и которые «должны составлять важнейшую часть истории». С другой стороны, не менее «нужна история жилищ… пищи… мореплавания… ремесел», — словом, история материального быта. Все это должно подготовить материал, в котором разберется со временем историк-философ. Задача последнего труднее, чем была бы задача человека, незнакомого с музыкой, если б ему предложили разыграть сложную музыкальную композицию по неизвестным ему нотным знакам на неизвестных ему инструментах[36]. «Он (историк) сам должен ловить все звуки (летописи, Несторы, Григории Турские), отличить фальшивые от верных (исторические критики — Шлецеры, Круги), незначительные от важных, сложить в одну кучу (истории, собрания деяний — Роллены), разобрать эти кучи по родам истории (частные истории религии, торговли — Геерены), провидеть, что в сей куче и кучах должна быть система, какойнибудь порядок, гармония (Шлецеры, Гердеры, Шиллеры), доказать это положительно a priori (Шеллинги), делать опыты, как найти эту систему (Асты, Штуцманы), наконец, найти ее и прочесть историю так, как глухой Бетховен читал партитуры»[37]. Это перечисление показывает нам, какие широкие перспективы открылись в изучении истории поколению двадцатых годов, как далеко отодвинут был вдаль исторический идеал и какое второстепенное место отведено было теперь тем историческим задачам, которые в глазах шлецеровского поколения или даже в глазах исследователей румянцевской эпохи считались очередными. Историческая критика, так же как и внешняя систематизация материала, должны были теперь уступить место сознательной и целесообразной группировке этого материала, идущей навстречу теоретическим требованиям научной истории.
Таковы идеи русского шеллингизма в том их сыром виде, в каком они были перенесены к нам в двадцатых годах. Из книжек, большей частью позабытых, которые помогли нам их восстановить, эти идеи перешли в умственный обиход следующего поколения, для которого они были уже частью окружающей их интеллектуальной атмосферы. В самых этих идеях заключались, однако же, положения, которые должны были встряхнуть нетронутую мысль и чувство этого нового поколения, пришедшего на готовую пищу, и вызвать его на коренную переработку новых воззрений. Около каких пунктов должны были сосредоточиться волнения и споры, — это мы легко можем угадать из уже сделанного выше изложения. Наши авторы двадцатых годов начинали обыкновенно говорить неспокойным и повышенным тоном, становились многословными и красноречивыми, когда речь заходила об одном из трех существенных вопросов системы: религиозном, нравственном или национальном. Мы уже видели, что философия тожества противоречила идее творения мира и идее личного творца. Следовательно, верующий последователь шеллингизма должен был отстаивать против новой системы своего всемирного и до-мирного Бога. Затем, закономерно развивающийся «универе» Шеллинга, поглотивший в себе свое начало и причину, грозил поглотить в том же «абсолюте» и личную человеческую свободу. Стало быть, тот же последователь должен был попытаться примирить с идеей закономерности свою идею личного бессмертия и нравственной ответственности и заслуги. Наконец, в мировом историческом процессе поглощалась также и отдельная национальность. По новому взгляду, как мы видели, «каждый народ выражает собой преимущественно одну данную сторону человечества, одно из главных его направлений, а народы, все вместе взятые, выражают собой всю его жизнь». Таким образом, «вся жизнь народа» должна была «состоять в исключительном развитии одной из стихий человечества в известный период жизни сего последнего. Сие-то преимущественное, исключительное начало в истории народа сообщает ему особый его характер, неделимость, национальность и отличает его всем этим от других народов»[38]. Нужно было ввиду всего этого найти у русской национальности такое «преимущественное, исключительное начало», которое давало бы ей законное место во всемирной истории, хотя бы и не предусмотренное немецкой наукой; или же, если такого места не находилось, нужно было доказать право национальности на существование независимо от всемирного хода развития человечества. Все эти спорные пункты обозначались уже, как читатель мог видеть, в шеллингистской литературе двадцатых и начала тридцатых годов. Намечены были отчасти и их возможные решения. Пересмотреть их вновь, со свежей головой, суждено было уже молодому поколению тридцатых годов.
Но прежде чем отношение этого поколения к нашим спорным вопросам успело выясниться, сделан был ряд попыток приложить исторические идеи шеллингизма в том виде, в каком мы их знаем, к объяснению русской истории. На этих первых попытках русской философско-исторической конструкции мы и должны теперь остановиться. Характеризуя их как только предварительные попытки, мы этим самым указываем, что первые опыты приложения новых философских идей к построению русской истории не были достаточно глубоко и цельно продуманы. На первый раз попытались привязать новые ответы к старым вопросам, а на новые вопросы отвечали комбинацией старых начал с новыми.
- [1] Галич. История философских систем. СПб., 1819. 11. С. 253—257.
- [2] С. 15, 23 вступительной лекции Давыдова, изданной особой брошюрой. Чтоэта лекция не прошла бесследно для молодого поколения, показывает письмо к графине NN. Д. Веневитинова (Соч. T. II. С. 5—15. М., 1831). И доказываемое здесь положение, что философия есть наука, и способы его доказательства очень близки к мыслям И. И. Давыдова. См. также «Опыт исследования некоторых теоретических вопросов"(М., 1836) — ряд статей, написанных отчасти под влиянием Давыдова (С. 142, 147—148). Автор этой любопытной книжки, бывший воспитанник Ришельевского лицея (С. 71, 234) и Московского университета (С. 67), к сожалению, мне не известен (в моемэкземпляре нет первого выходного листа; но и на трех других, — сочинение состоитиз четырех книжек, — имя нигде не названо).
- [3] Велланский. Пролюзия к медицине. СПб., 1805. С. 6—17. Ср. его же: Биологическое исследование природы в творящем и творимом ее качестве. СПб., 1812. С. 5—6.
- [4] Одоевский В. Ф. О способах исследования природы / / Мнемозина. Т. IV. С. 17—18.
- [5] Галич. История философских систем. Т. II. С. 267.
- [6] Эти воззрения развиты Павловым в его „Основаниях физики“. М., 1833. По плануПавлова, его физика должна была состоять из трех частей, посвященных „силам мировым, планетным и органическим“. Издана только первая часть, трактующая о „силахмировых“. Она, в свою очередь, распадается на три части: „1) свет, как сила средобеж-ная, 2) тяжесть, как сила средостремительная, и 3) вещество, как сила составная из двухпервых“ (с. 30). В конце книги (с. 291) „теория вещества“ начинается с определения:"вещество не другое что есть, как сила расширительная и сжимательная, ограниченныевзаимно», и далее (с. 291): сила расширительная… в состоянии напряженности естьсвет; сила сжимательная в том же состоянии есть тяжесть. Посему свет и тяжесть составляют две силы основные, коренные; зародыш мира в них осуществился прежде; в нихже или с ними вместе развивался далее". Теплота, также расширяющая сила, согласноШеллингу, рассматривается как видоизменение света.
- [7] Одоевский В. Ф. Русские ночи. Т. I. С. 17—20.
- [8] Одоевский В. Ф. Русские ночи. С. 23—31, 99—111, 114—150, 207—210, 302—356 и др.
- [9] Там же. С. 210, 292. Ср. выше, с. 232, планы И. Киреевского и Д. Веневитинова (Несколько мыслей в план журнала. Соч. Т. II. С. 24—32).
- [10] Изданы отдельной книжкой в 1833 г.
- [11] Размышления о природе. С. 90—91, 63, 60, 67, 69, 71. Ср. «Пролюзию» Велланского. С. 22—23 («в высшем обозрении природы нет в ней ничего неорганического: онаесть универсальный организм, в котором ничего бездушного быть не может… бездушиеих есть видимое только»), с. 20 (в организме человеческом «абсолютный универе представлен в совершенном рефлексе»).
- [12] Мнемозина. Т. 1. С. 64.
- [13] Велланский. Основное начертание физиологии. С. 188. Ср.: Пролюзия. С. 32:"Объект поэзии есть представление универса идеальным образом".
- [14] Одоевский. Соч. Т. I. С. 282; Велланский. Физиология. С. 202; Шевырев. Историяпоэзии. С. 89, 93—95. Западные образцы для всех этих утверждений русского романтизма читатель в изобилии найдет в известной книге Гайма «Романтическая школа».
- [15] Ср.: Исторические афоризмы Погодина. С. 7, 84. («Чем больше будет развиватьсячеловечество, тем деяния его будут яснее, простее, и, наконец, историей будет самоенастоящее время, т. е. человек будет вместе и действовать, и знать свои действия, или, лучше, уже не будет истории».. «Может быть, один человек во всем мире (плод всегомира)… уразумеет историю в какой-нибудь краткой формуле, достигнет самопознания… и круг истории… заключится»).
- [16] В «Моек, вестнике» Погодина, с 6-й книжки. Отдельное издание вышло в 1836 г.
- [17] История. Первая часть введения: идея, содержание и форма истории. М., 1834.С. IV + 94 + И. В «Рус. старине» 1888—1889 гг. печатались воспоминания этого Лебедевао московской жизни начала 50-х годов.
- [18] Подарок ученым на 3834 год. О царе Горохе перепечатано в «Рус. старине». 1878.№ 2. С. 347—368.
- [19] История. С. 19—20; Афоризмы. С. 116, 122 (из вступительной лекции 1834 г.:О всеобщей истории).
- [20] Афоризмы. С. 123.
- [21] Лебедев. История. С. 10—16.
- [22] Афоризмы. С. 123—125, 98—99, 97.
- [23] Афоризмы. С. 96—97, 64, 48 и passim.
- [24] История. С. 20—23, 32—33. Мой экземпляр книжки Лебедева принадлежалсамому автору и испещрен поправками. Слово «свободное» добавлено карандашом. Параллельное наблюдение над совершенствованием человека и эмансипацией егоот власти природы можно найти и в «Афоризмах» (12—13), но бездельнейших выводов.
- [25] История. С. 28.
- [26] Афоризмы. С. 11, 13—14, 56, 72, 82. Эта черта, вместе с фатализмом, составляетособенность личных взглядов Погодина.
- [27] Афоризмы. С. 2, 52, 64, 106.
- [28] Там же. С. 87, 100, 106.
- [29] Там же. С. 6—7, 3, 90. Ср. С. 14—15: «Но, может быть, сим народам предназначено природою не выходить из своего состояния… Однако… вообще движение впередвозможно со всякой точки».
- [30] История. С. 35; ср. С. 14: «Великий закон истории есть психологическое развитиежизни: человечество, народ и человек имеют свои возрасты». Рассуждение о возрастахлица, народа и человечества см. также: Опыт исследования некоторых теоретическихвопросов. С. 55—61, 242—263.
- [31] История. С. 28—29, 79—80.
- [32] Афоризмы. С. 53 («вся история народа явствует из первых его действий»), 63,82, 88, 103—104; Там же. С. 27: «Все сии различия… происходят отчасти от первоначального различия племен. Сие различие семени отражается в первых движениях полудикой орды и последних зрелых предприятиях общества». Велланский тоже полагает, что «тщетно доискиваются причины различия племен во внешних обстоятельствах;сила климата и образ жизни изменяют только до некоторой степени внешнюю формучеловека, а внутреннее изменение производится смешением рас, которое не показывает единства рода, но предполагает начальное различие оного». Но он выводит отсюдатолько то, что единство человеческого рода не может быть доказано эмпирическойантропологией и требует умозрительных доказательств. (Физиология. С. 371—454).
- [33] Теория условий исторической жизни занимает все «Чтение второе» книжки Лебедева. С. 35—69. Ср.: Афоризмы. С. 1, 12—13, 45, 73, 85, 87.
- [34] История. С. 24—30, 82—84. Ср.: Афоризмы. С. 46, 53, 59, 70, 102—103.
- [35] Лебедев. Чтение третье. Содержание истории; форма иди историческое искусство. С. 71—94. Ср.: Афоризмы. С. 11.
- [36] Афоризмы. С. 8, 63, 76—77, 86—-87.
- [37] Афоризмы. С. 9—10.
- [38] Опыт исследования некоторых теоретических вопросов. С. 51—53, 55—56,58—59. Выше, на с. 311, мы заметили, что автор этой книжки нам неизвестен. Послеотпечатания предыдущего листа, в № 255 «Моек, ведомостей», напечатана была библиографическая справка, из которой видно, что «Опыт» принадлежит профессору Ришельев-ского лицея, К. П. Зеленецкому. Ср.: Справ, словарь Геннади (Берлин, 1880). Т. II. 29. и Библиогр. зап. 1859. № 20.