Процесс атеизации (секуляризации) на Западе и в России; «ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМ» РУССКОЙ МЫСЛИ
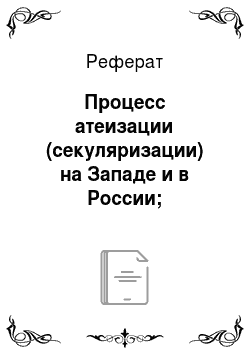
Федор Михайлович Достоевский (1821 — 1881) — огромное явление в русской и мировой культуре, оказавший значительное влияние на становление и проблематику русской религиозной философии конца XIX — начала XX вв., а в более позднее время и на некоторые направления философской мысли на Западе, особенно экзистенциализм. Начав свой творческий путь в традициях гоголевской «натуральной школы» («новый… Читать ещё >
Процесс атеизации (секуляризации) на Западе и в России; «ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМ» РУССКОЙ МЫСЛИ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Теперь необходимо обратить внимание на два процесса, которые происходили параллельно описанным нами философским и идеологическим баталиям и сыграли огромную роль в становлении и дальнейшем развитии культуры России. К середине XIX в. вполне уже можно говорить о ярко выраженной литературоцентричности русской культуры. На 50-е и 60-е гг. XIX в. и последующие годы выпадает небывалый расцвет русской литературы. Именно писатели и поэты (а отнюдь не философы или богословы) становятся в это время подлинными властителями дум, к их голосам прислушиваются иногда как к вещаниям божественных оракулов. Это, несомненно, был результат ускоренного развития русской культуры, в некоторых отношениях семимильными шагами догонявшей западную культуру, а в ряде случаем и превосходящей ее. Явление, которое мы назвали литературоцен гризмом, не исключительно русское. Л итератуцентризм в той или иной степени свойствен всем национальным культурам, только на Западе он, может быть, не приобретал столь ярких форм, будучи более растянут во времени, и к тому же к середине XIX в. уже преодолевался другими формами общественного сознания. Однако применительно к России можно смело утверждать, что в деле воспитания национатьного самосознания русских людей литература и поэзия (а заодно с ними и литературная критика) сыграли чрезвычайно важную роль.
Это ни в коем случае не означает, что приоритет в деле воспитания человечества следует отдать поэзии или вообще художественному творчеству, потому что все они (кроме них еще и наука, и религия, — вся вообще культура) делают одно и то же: обеспечивают рост человечества, его свободы и процветания. Можно, не боясь тавтологии, сказать и так: способствуют превращению человека в человека. Но делают они это по-разному, нередко впадая в заблуждения и противоречия, поэтому между ними (да и внутри их) неизбежно возникают всякого рода коллизии и недоразумения. Однако исторически сложилось так, что художественное творчество в виде поэзии возникло раньше философии и раньше науки, так что поэты, особенно древние, были и остаются первыми учителями своих народов, а через их головы — и всего человечества. У древних греков таким поэтом был Гомер, у итальянцев — Данте, у испанцев, наверное, Сервантес[1], у немцев — Гете[2], а до него «Народная легенда о докторе Фаусте», у нас таким поэтом стал Пушкин. Но предельно широкое представление о свободе сформулировал Рабле: «Делай, что хочешь» (наверное, поэтому французы и оказались самым свободолюбивым европейским народом).
Точно так же обстояло дело и со справедливостью: образцы справедливости и несправедливости, выкованные в творчестве русских писателей от Радищева до Толстого и Достоевского очень скоро превратились в те самые универсалии культуры, которые теоретической философии остается только осмысливать и систематизировать.Пожалуй, впервые это явление ярко проявилось в истории с журналом «Телескоп», который в 1836 г. после опубликования в нем первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева был запрещен, а цензор, издатель и автор подвергнуты репрессиям.
В своей «Апологии сумасшедшего» Чаадаев искренне недоумевал: «Вспомним, что вскоре после напечатания злополучной статьи […] на нашей сцене была разыграна новая пьеса (имеется в виду „Ревизор“ Гоголя. — В. С). И вот, никогда ни один народ так не бичевали, никогда ни одну страну так не волочили по грязи, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани, и однако, никогда не достигалось более полного успеха. Неужели же серьезный ум, глубоко размышлявший о своей стране, ее истории и характере народа, должен быть осужден на молчание, потому что он не может устами скомороха высказать патриотическое чувство, которое его гнетет? Почему же мы так снисходительны к циническому уроку комедии и столь недоверчивы по отношению к строгому слову, проникшему в суть вещей?»[3]
Здесь «мы» — это прежде всего Николай I. Известно (со слов А. И. Храповицкого), что на премьере «Ревизора» 19 апреля 1836 г. «государь император с наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души»[4]. А по свидетельству П. Каратыгина, «приехав неожиданно в театр, император Николай Павлович пробыл до окончания пьесы, от души смеялся и, выходя изложи, сказал: — „Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!“»[5]
Отчего же, недоумевал Чаадаев (а вместе с ним в известной мере и мы), весной Николай 1 был «чрезвычайно доволен», а в октябре «чрезвычайно огорчен»? Дальше наше недоумение еще больше возрастает. «Свирепая» царская цензура пропускала крамольные сочинения Искандера, Чернышевского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, а впоследствии даже Ульянова-Ленина и запрещала богословские труды А. С. Хомякова, фактически пресекла на корню литературную деятельность гениального И. В. Киреевского и многих других славянофилов? Чтобы ответить на этот вопрос понадобится, наверное, большое специальное исследование, но нам сейчас важен сам факт: самодержавная власть в России чем дальше, тем все больше дезориентировалась, все меньше понимала, где свои, а где чужие, обрушивала репрессии, а они все чаще были направлены невпопад. Противники самодержавия, конечно, искусно пользовались такой идеологической растерянностью.
Второй процесс, на который следует обратить особе внимание, — это процесс секуляризации, который начиная с Петра I тоже стремительно набирал в России обороты.
Из трех мировых религий атеизм как крайняя степень отпадения от Бога возможен только в христианстве (еще в иудаизме) и именно потому, что только в христианстве человек действительно свободен по-настоящему. Более того, в христианстве и подлинная вера невозможна без сомнения, что хорошо показал Достоевский и зафиксировано в Евангелии: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Другое дело, что Россия, с ее «вечно догоняющим» методом развития и поистине подростковым максимализмом («или все, или ничего»), проделала путь, на которые европейцы потратили целые столетия и который можно обозначить такими вехами, как «теизм», «деизм», «атеизм», в течение одного-двух поколений. Поэтому и предельной точкой западноевропейской секуляризации стало провозглашение религии «частным делом» и создание светского правового государства, а в России — воинствующее богоборчество[6], которое, спустившись с интеллигентских высот в низины народа, принимает формы самого бесстыжего хулиганства и глумливого бандитизма[7]. Процесс секуляризации, происходивший во всем христианском мире, привел к тому, что этот мир остался наедине с продуктами его разложения или его «извращения», как выразился А. Ф. Лосев[8]. Соответственно, католицизм извратился в фашизм, протестантизм (лютеранство) — в национал-социализм, православие — в большевизм. Эти три силы, определявшие судьбу человечества в первой половине XX в., будучи фактически симулякрами, больше всего и потрудились над тем, чтобы уничтожить породивший их оригинал. Вот болезнь русского духа, с которой боролись представители русской религиозно-философской мысли и с которой еще долго предстоит бороться нам. Маркс при таком понимании происшедшего в России и с Россией становится фигурой в общем-то второстепенной: источником или даже распространителем инфекции, но не самой инфекцией. Выражаясь богословским языком, змей-искуситель. А искуситель на то и искуситель, чтобы искушать (работа у него такая). А я, если я человек, если я свободный человек (а несвободного и искушать незачем), должен уже сам решать: поддаваться мне на это искушение или нет и, что самое главное, нести полную ответственность за принятое решение. Я сам!
Русская религиозно-философская мысль стала закономерной реакцией на почти полуторовековое засилье в России деизма и атеизма. Возрождение религиозно-философской традиции в России связано прежде всего с именем Ф. М. Достоевского.
Федор Михайлович Достоевский (1821 — 1881) — огромное явление в русской и мировой культуре, оказавший значительное влияние на становление и проблематику русской религиозной философии конца XIX — начала XX вв., а в более позднее время и на некоторые направления философской мысли на Западе, особенно экзистенциализм. Начав свой творческий путь в традициях гоголевской «натуральной школы» («новый Гоголь явился»), вызвав первым своим произведением восхищение самого В. Г. Белинского, Достоевский очень скоро вступил на путь самостоятельных художественно-эстетических и философских поисков. Повесть «Двойник» — произведение гениальное, особенно если смотреть на него в свете позднейшего творчества писателя, по отношению к которому она играет роль своеобразного ключа, вызвала у Белинского некоторое недоумение, а затем досаду и полное разочарование в том направлении, какое приобретали творческие поиски и устремления его литературного крестника. С весны 1846 г. Достоевский становится участником кружка М. В. Петрашевского. 28 апреля 1848 г. его арестовывают и в декабре 1849 г. приговаривают к смертной казни через «расстреляние». 22 декабря того же года в С.-Петербурге на Семеновском плацу была разыграна инсценировка расстрела, после чего Достоевскому в числе прочих петрашевцев казнь была заменена 4-летней каторгой и последующей солдатчиной. С каторги Достоевский вернулся в 1854 г., а в декабре 1859 г. он получил разрешение на жительство в Петербурге. С того времени берет начало второй период его творчества, в течение которого он создал все свои значительные произведения, принесшие ему мировую известность и славу одного из лучших писателей мира. Для понимания сути происшедшего у Достоевского после каторги «перерождения убеждений», по выражению Л. И. Шестова, большое значение имеют повесть «Двойник» — единственное раннее его произведение, которое он подверг позднейшей переработке, и «Записки из подполья». Основной пафос этих произведений (если отвлечься от богатства деталей) можно назвать антипросветительским, если понимать под просветительством внерелигиозную веру в бесконечный социальный прогресс, долженствующий увенчаться построением идеального общества. В последующих романах и публицистике Достоевского его внерелигиозные противники обрели более четкие очертания: это прежде всего антирелигиозные просветители-социалисты («лекаря социалисты»), псевдорелигиозные просветители-масоны и даже все вообще христианские неправославные конфессии. Иногда антиидеи Достоевского образуют сложный и отчасти противоречивый симбиоз: таково мировоззрение Великого инквизитора, в котором можно найти элементы католицизма, социализма, масонства и рационализированного христианства. Анти просветительская позиция Достоевского привела к тому, что теперь и так называемый социальный вопрос рассматривался им как часть вопроса нравственного. История, рассматриваемая как историческая драма, есть прежде всего трагедия человеческой свободы, которая одновременно является и условием подлинно человеческого существования и причиной отпадения человека от Бога, отпадения, доходящего до богоборчества и самообожествления («богочеловек»). Поэтому в мире позднего Достоевского нет и принципиально не может быть «маленьких людей» типа Макара Девушкина: социальное «ничтожество» или социальная неполноценность его героев многократно покрываются или величием их души («святостью»), или их сатанинским дерзанием («все позволено»). Макар Девушкин, пережив опыт «двойничества» и «подполья», подобно Родиону Раскольникову, задался вопросом: тварь ли он дрожащая или право имеет? В зависимости от ситуации он либо берет в руки топор, либо побуждает одного «гада» убить другого «гада», или же путем логических умозаключений приходит к выводу о «несправедливости природы» и решает убить ее вместе с собой.
Открытие самого феномена подполья и подпольного характера сознания — одно из величайших открытий Достоевского. Это универсальная характеристика человеческого сознания вообще и в то же время ключ к наиболее точной и адекватной характеристике любого конкретного индивида. То или иное отношение к собственному подполью открывает перед каждым человеком, строго говоря, лишь два пути: один путь — это путь к Богу, путь к святости и вместе с тем ко всем людям и даже ко всему миру во множестве его проявлений, путь этот состоит в преодолении собственного подполья. Другой путь — путь к самообожествлению, путь к отъединению от всего живущего на земле, путь «гордого человека» заключается в сознательном и в общем-то «любовном» культивировании своего подполья. Это два предельных полюса личности в мире героев Достоевского. Между ними — масса промежуточных градаций в зависимости от того, насколько последовательно и отважно идет той или иной герой по избранному пути. Нередко эти полярные герои вступают между собой в диалектическую схватку, и тогда читатель как бы присутствует при процессе зарождения Истины. Сознание героев Достоевского тождественно их сознательности, совести и свободе. Это означает, что, выбирая зло, каждый человек поступает всегда вполне свободно и сознательно, он знает, кому он служит — Богу или сатане. Это часто приводит героев Достоевского на грань психического расстройства, к появлению «двойников» (олицетворяющих, как правило, больную совесть персонажа). В то же время почти каждый персонаж Достоевского выступает как носитель той или иной идеологии, той или иной идеи. По количеству употреблений слова «идея» на страницах своих произведений Достоевский не имеет себе равных в мире. Лишь в «Бедных людях», первом произведении Достоевского, слово «идея» не встречается ни разу. Но начиная с «Двойника» количество его употреблений стремительно и неуклонно растет. В «Преступлении и наказании» слово «идея» употребляется 23 раза, в «Идиоте» — 38 раз, в «Бесах» — 79 раз, в первой части «Подростка» — более 120 раз, в «Братьях Карамазовых» — около 100 раз. Что касается «Дневника писателя», то на его страницах читатель становится свидетелем буквально «термоядерного взрыва» «идеи» (для сравнения: у Л. Н. Толстого слово «идея» в первом и втором томах «Войны и мира» встречается по три раза).
Носителем идеи является каждый, даже второстепенный и третьестепенный персонажи Достоевского. Например, у мелкого и лишь мельком упомянутого полицейского чиновника из «Преступления и наказания» — «застывшая идея» во взгляде; часто у тех или иных героев Достоевского мелькает «идея летучая». Терминологический анализ идеи Достоевского в полном объеме еще не производился, поэтому можно указать лишь самые широкие и общие смысловые пределы. Сравнительно редко у Достоевского «идея» выступает синонимом «общего понятия», как правило, это бывает, когда идеологический герой («рыцарь идеи») сталкивается или даже вступает в единоборство с «чужой идеей». Такова, например, для атеиста и богоборца идея Бога. Для самого же носителя идеи она является и движущей причиной его поступков, его идеалом и целью его стремлений (т. е. приблизительно тем, что в философии Аристотеля называется «энтелехией»). В подавляющем большинстве случаев идея не совпадает и с тем, что называется (и вообще, и особенно у Достоевского) мыслью. По частоте смешений толкования идеи и мысли можно судить о качестве перевода произведений Достоевского на иностранные языки. Мысль — инструмент мышления, идея — продукт мышления. И вместе с тем в отличие от мысли идея не только и не столько категория логическая, сколько нравственная. Даже обыденные «очевидные» математические истины герой Достоевского способен судить с точки зрения нравственности. И наконец, всякая идея у Достоевского — своеобразный символ определенной идеологии. В любой момент идея может быть развернута в целую систему идей, сюжет почти каждого романа Достоевского есть не что иное, как «приключение идеи, попавшей на улицу»: своей жизнью или смертью доказывает истинность своей идеи герой Достоевского. Только лишь «крушения» ему недостаточно: настоящий «рыцарь идеи», даже потерпев крушение, будет, подобно Раскольникову, обвинять не идею, а самого себя: свою собственную неспособность стать «с идеей наравне». Точно так же и все социально-политические идеи у Достоевского (например, «женевские идеи», как называет Версилов идеи социализма) подлежат оценке и суду с точки зрения нравственного сознания. Социально-политический идеал самого Достоевского сформулирован им на страницах «Дневника писателя» и назван «русским социализмом». Отвлекаясь от частных деталей этого идеала, обусловленных нередко «злобой дня», можно сказать, что в нем органично сочетается нравственный максимализм христианства с социально-политическим минимумом социалистического идеала. Собственно говоря, и сам этот минимум является лишь «позаимствованием» социализма из практики первоначального христианства. Европейский социализм, по Достоевскому, есть следствие кризиса, переживаемого христианством. В социализме Достоевский справедливо усмотрел как его основное идеологическое ядро богоборческую, антирелигиозную, антихристианскую направленность. Из антихристианского духа социализма логически следует и фанатическое стремление его сторонников к насильственному преобразованию общества и всего рода человеческого: социализм стремится «всего лишь» убить в человечестве идею Бога. Достоевский пророчески предугадал и предвидел страшные последствия такого рода преобразования. К сожалению, пророчество его было услышано и по-настоящему понято лишь немногими, да и то слишком поздно.
До сих пор, однако, вполне актуально звучит такой афоризм Достоевского: «Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее».
Правильному пониманию мировоззрения Достоевского в свое время мешали, по крайней мере, два фактора. Во-первых, «положительная программа» Достоевского была выражена все-таки слабее, чем критическая. Кроме того, идеология «почвенничества», провозглашенная Достоевским, наряду со справедливым объявлением спора славянофилов и западников «великим недоразумением» содержала в себе некоторые худшие черты первых и не всегда справедливые нападки на лучшие черты последних. Компромисс и синтез (а если угодно, «сизигия») славянофильства и западничества должен носить название «славянозападничество» (т. е. не содержать крена ни в ту, ни в другую сторону), а не «почвенничества» (явный крен в сторону славянофильства), чем были обусловлены наиболее слабые стороны социально-политического мировоззрения Достоевского (к числу коих следует отнести мечту о «нашем» Константинополе, идею о народе-богоносце, наивно-монархические ожидания, элементы антисемитизма и т. д.). Во-вторых, объективные трудности постижения подлинного мировоззрения Достоевского обусловлены особой природой его художественного творчества, что требует от читателя серьезной аналитической работы, на которую оказывается способным лишь профессиональный исследователь (речь идет, разумеется, не о непосредственно эмоциональном восприятии Достоевского, равнодоступном всем, кто имеет достаточно развитый ум и чуткую совесть, а только об умении адекватно сформулировать и интерпретировать идею самого Достоевского). Попытки систематического изложения теоретических основ мировоззрения Достоевского стали предприниматься сразу же после его смерти. Одним из первых выступил В. С. Соловьев со своими «Тремя речами в память Достоевского», затем последовали исследования В. В. Розанова, Д. С. Мережковского, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и др. На рубеже веков для многих русских мыслителей творчество Достоевского оказалось важной вехой на пути «от марксизма к идеализму». Значительную роль в постижении Достоевского сыграли статьи Вяч. Иванова, напечатанные в его сборниках «Борозды и межы» (1916), «Родное и вселенское» (1918). Подлинный переворот в понимании Достоевского сыграла работа М. М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского», опубликованная в 1929 г. Открытие полифонической природы романов Достоевского положило конец произвольным и очень часто безответственным интерпретациям тех или иных высказываний персонажей Достоевского. В качестве ближайших предшественников Бахтина следует назвать Л. П. Гроссмана, на которого он сам ссылается, и 3. А. Штейнберга, чья книга «Система свободы Достоевского» вышла в 1923 г. в Берлине, в которой «система Достоевского» определяется как «симфоническая диалектика», когда «дирижер», т. е. сам автор, «повелевает всему многоразличию голосов» (этот ценный труд Бахтин по каким-то причинам упорно игнорировал). После 1928 и до начала 1960;х гг., когда книга Бахтина была переиздана (под названием «Проблемы поэтики Достоевского»), в советской России сколько-нибудь серьезных исследований трудов Достоевского не было. Начиная с 60-х гг. Достоевский снова, как и до революции, хотя и не столь откровенно, обращает многих «от марксизма к идеализму». Сколько бы ни было велико значение работ о Достоевском тех лет, все же следует признать, что в большинстве из них заряд публицистичности, а иногда и исповедальности преобладал над теоретичностью. Это означает, что серьезное философское осмысление творческого наследия Достоевского, незамутненное идеологической борьбой и интересами переживаемого момента, еще впереди.
Другим певцом и поборником справедливости стал Владимир Сергеевич Соловьев (1853−1900), творческое наследие которого столь огромно и значительно, что даже для простого его обозрения понадобится не один десяток страниц. В его лице мы имеем первого великого философа-идеалиста, который взял своеобразный реванш за все те унижения, которым подвергалась русская мысль со стороны материализма и атеизма в предыдущие два столетия. Правда, влияние его почти всецело посмертное да и оно ограничивается первыми десятилетиями XX в., после которых творческое развитие оригинальной русской философии было прервано почти на 70 лет, а в стране установилось безграничное господство догматического истмата и диамата.
Для нас имеет наибольшее значение то учение о справедливости, которое В. С. Соловьев развивает в своем главном труде «Оправдание добра».
Вкратце оно сводится к следующему. «Понятие справедливости (четвертая краеугольная добродетель), — пишет Соловьев, — принимается в четырех различных смыслах. В самом широком смысле справедливое есть синоним должного, правильного, нормального, верного вообще — не только в области нравственной (относительно воли и действия), но и в области умственной (относительно познания и мышления)… В таком смысле понятие справедливости, приближаясь к понятию достоверности, шире понятия добродетели и принадлежит более к теоретической, нежели к нравственной, философии. Во втором, более определенном смысле справедливость (aequitas) соответствует основному принципу альтруизма, требующему признавать равно за всеми другими то право на жизнь и благополучие, какое признается каждым за самим собою. И в этом смысле справедливость не есть какая-нибудь особенная добродетель, а только логическое объективное выражение того самого нравственного начала, которое субъективно, или психологически выражается в основном чувстве жалости (сострадания, симпатии). В смысле понятие справедливости принимается тогда, когда делают различие между степенями альтруизма (или нравственного отношения к подобным нам существам) и за первою, отрицательною, степенью («никого не обижать») оставляют название собственно справедливости (justitia), а вторую, положительную, требующую «всем помогать», обозначают как милосердие (caritas, charitd). Это различение… имеет лишь условное значение, недостаточное во всяком случае для выделения справедливости в особую добродетель, ибо никто не усмотрит таковой в человеке, который, не нанося ближним прямых обид насильственными действиями, решительно отказывается помогать кому бы то ни было, или облегчать чьи бы то ни было страдания. Так как нравственный мотив для того и другого, т. е. для воздержания от обид и для доставления помощи, один и тот же, именно признание чужих прав на жизнь и благополучие, и так как нельзя найти никакого нравственного мотива, который заставлял бы кого-нибудь останавливаться именно здесь, на пол пути и ограничиваться одною отрицательною стороной этого нравственного требования, то ясно, что такая остановка или такое ограничение никак не могут соответствовать какой-нибудь особой добродетели, а выражают только меньшую степень общей альтруистической добродетели (симпатического чувства), причем никакой общеобязательной и постоянной меры для меньшего и большего здесь нет, а каждый раз оценка зависит от конкретных условий. При известном развитии нравственного сознания в общественной среде отказ в помощи, хотя бы совершенно чужому или даже враждебному человеку, осуждается совестью как прямая обида, что вполне логично, ибо если я вообще должен помогать своему ближнему, то, не помогая ему, я тем самым обижаю его. Да и на низших степенях нравственного сознания в известных пределах отказ в помощи равносилен обиде и преступлению, напр. в пределах семьи, рода, военной дружины. У народов варварских, где относительно врагов позволено все, так что самое понятие обиды не имеет здесь приложения, мирный странник или гость имеет право на самую деятельную помощь и щедрые дары. Но если справедливость предписывает благотворение или требует быть милосердным (у варваров — по отношению к некоторым, а с прогрессом нравственности — по отношению ко всем), то ясно, что такая справедливость не есть особая добродетель, отдельная от милосердия, а лишь прямое выражение общего нравственного принципа альтруизма, имеющего различные степени и формы своего применения, но всегда заключающего в себе идею справедливости.
Есть, наконец, четвертый смысл, в котором принимается это слово. Предполагая, что объективным выражением правды служат законы (государственные, церковные), неуклонное следование законам вменяют в безусловную нравственную обязанность и соответствующее расположение к строгой закономерности или правомерности признают за добродетель, отожествляя ее со справедливостью. Такой взгляд применим лишь в пределах своего предположения, т. е. всецело — к законам, исходящим от Божественного совершенства и тем самым выражающим высшую правду, ко всем же прочим — только под условием их согласия с этой правдой; ибо подобает слушаться Бога более, нежели человеков. Таким образом, справедливость в этом смысле, т. е. стремление к легальности, не есть сама по себе добродетель, а может быть и не быть таковою, смотря по свойству и происхождению законов, требующих повиновения. Ибо источник человеческих законов — источник смутный. Прозрачная струя нравственной правды едва видна в нем под наносом других, чисто исторических элементов, выражающих только фактическое соотношение сил и интересов в тот или другой момент. Поэтому справедливость, как добродетель, далеко не всегда совпадает с легальностью, или правдою юридическою, а иногда находится с нею в прямом противоречии"[9].
Исходя из такого понимания справедливости, В. С. Соловьев разработал свою концепцию государства «как организованной жалости», которая в свое время вызвала немало критики и даже насмешек. Критикам нетрудно было показать, опираясь на исторический опыт России, несбыточность и иллюзорность такого понимания государства. Однако последующий опыт показал, что в этой своей концепции Соловьев предвосхитил идею «социального государства».
Николай Федорович Федоров (1829—1903) в истории русской (да, пожалуй, и мировой) мысли стоит совершенно особняком. Он ни на кого не похож и ни с кем не сравним. Наверное, такое явление могло зародиться только в России и только в России получить признание. Хотя надо сказать, признание, да и сама известность Федорова всецело посмертны. При жизни его знал узкий круг учеников и почитателей, трудов своих он не печатал, принципиачьно отрицая право на интеллектуальную собственность. Учение Федорова носит название «философии общего дела». Причину «небратских» отношений, в которых люди находились и до сих пор находятся друг к другу, Федоров усматривает в индивидуализме и эгоизме, которые, в свою очередь, находят свою причину в отсутствии у человечества «общего дела». Федоров такое дело находит: воскрешение всех умерших людей, в чем он видит сыновний долг потомков. Начать это эпохатьное дело Федоров предлагает с превращение армий всех стран из орудия разрушения в орудие регуляции природы и климата (его вдохновили опыты американцев по искусственному вызыванию дождя с помощью артиллерийских орудий). Воскрешение всех умерших потребует озаботиться об их размещении в пространстве, для чего наша Земля явно мала. Отсюда родилась идея освоения космического пространства, теоретически и практически развитая К. Э. Циолковским, испытавшим в молодости влияние учения Федорова. Идеи Федорова восхищали, а иногда ужасали многих его современников и нашли отражение в творчестве Достоевского, Вл. Соловьева, В. Маяковского, Андрея Платонова и многих других.
Идеи, да и само имя Федорова, были надолго забыты, и только в наше время начинается настоящее освоение его неисчерпаемого наследия.
Закончился XIX в., начался XX… Для России он начался неудачно: поражение в русско-японской войне, революция 1905 г…
К 1909 г. Россия более или менее сумела оправиться от пережитых потрясений, и именно в это время появилась книга, вызвавшая страстные дебаты, которые, надо полагать, будут продолжаться еще долго — «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции», написанный семью авторами.
«Вехи», несомненно, явились главным событием 1909 г. Ни до, ни после «Вех» не было в России книги, которая вызвала бы такую бурную общественную реакцию и в столь короткий срок (менее чем за год!) породила бы целую литературу, которая по объему в десятки, может быть, в сотни раз превосходит вызвавшее ее к жизни произведение. Разве что «Философическое письмо» Чаадаева, появившееся на 70 с лишним лет раньше «Вех», возбудило в русском обществе такое же «жаркое прение», хотя в силу «высочайшего указа» полемика вокруг чаадаевского «письма» не вышла за пределы салонов, конфиденциальных разговоров и частной переписки.
«Вехи» же обсуждались открыто (за небольшим исключением) и всенародно. Лекции о «Вехах» и публичные обсуждения книги собирали огромные аудитории. Лидер партии кадетов Милюков совершил даже лекционное турне по России с целью «опровергнуть» «Вехи», и недостатка в слушателях он, кажется, нигде не испытывал. Уместно вспомнить здесь слова Герцена по поводу «Философического письма» Чаадаева: «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно, надобно было проснуться»[10].
К «Вехам» это сравнение приложимо еще в большей степени. Недавние многочисленные переиздания сборника еще раз показали, что в «Вехах» заключено некое вечно актуальное содержание, которое еще долгие годы будет служить питательной почвой для размышлений о судьбах России и русской интеллигенции. Вероятно, каждое новое поколение русских людей будет перечитывать «Вехи» по-своему. Вероятно, при каждом новом историческом витке, который еще суждено пережить России, будет открываться и нечто новое в «Вехах».
В сборнике, носящем подзаголовок «сборник статей о русской интеллигенции», приняли участие семь авторов: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский, П. Б. Струве и С. Л. Франк. Проблема справедливости напрямую обсуждается лишь в статьях Бердяева и Франка, но не будет преувеличением сказать, что он целиком посвящен именно этой проблеме, хотя его авторы и сделали небывалую еще до них смену акцентов: субъект и объект справедливости и несправедливости поменялись местами. До «Вех» нечто подобное прелагал сделать только П. Я. Чаадаев, но голос его в то время не был услышан. Вот его слова (из письма к А. И. Тургеневу, написанного в октябре—ноябре 1835 г.), которые вполне могли бы послужить эпиграфом к сборнику о русской интеллигенции: «В нас есть, на мой взгляд, изумительная странность. Мы сваливаем всю вину на правительство. Правительство делает свое дело, только и всего, давайте делать свое, исправимся»[11].
В «Вехах» этот чаадаевский призыв получил развернутое изложение и серьезное теоретическое обоснование. В статье Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда» курсивом выделены слова: «интересы распределения и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества»[12]. С интересующей нас точки зрения все содержание сборника направлено именно против такого понимания справедливости как уравнительного распределения.
Бердяев пишет: «Потребность в целостном общественнофилософском миросозерцании — основная потребность нашей интеллигенции в годы юности, и властителями ее дум становились лишь те, которые из общей теории выводили санкцию ее освободительных общественных стремлений, ее демократических инстинктов, ее требований справедливости во что бы то ни стало. В этом отношении классическими „философами“ интеллигенции были Чернышевский и Писарев в 60-е годы, Лавров и Михайловский в 70-е годы»[13].
И далее: «С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине. А философия есть школа любви к истине, прежде всего к истине. Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья. Она шла на соблазн великого инквизитора, который требовал отказа от истины во имя счастья людей. Основное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу: да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься, если люди будут счастливее; долой истину, если она стоит на пути заветного клича „долой самодержавие“»[14].
Отсюда — специфически «русское» отношение к философии да и к самой истине. «Заложенная в душе русской интеллигенции жажда справедливости на земле, священная в своей основе жажда, искажается. Моральный пафос вырождается в мономанию. «Классовые» объяснения разных идеологий и философских учений превращаются у марксистов в какую-то болезненную навязчивую идею. И эта мономания заразила у нас большую часть «левых». Деление философии на «пролетарскую» и «буржуазную», на «левую» и «правую», утверждение двух истин, полезной и вредной, — все это признаки умственного, нравственного и общекультурного декаданса. Путь этот ведет к разложению общеобязательного универсального сознания, с которым связано достоинство человечества и рост его культуры.
Русская история создала интеллигенцию с таким душевным укладом, которому противен был объективизм и универсализм, при котором не могло быть настоящей любви к объективной, вселенской истине и ценности. К объективным идеям, к универсальным нормам русская интеллигенция относилась недоверчиво, так как предполагала, что подобные идеи и нормы помешают бороться с самодержавием и служить «народу», благо которого ставилось выше вселенской истины и добра. Это роковое свойство русской интеллигенции, выработанное ее печальной историей, свойство, за которое должна ответить и наша историческая власть, калечившая русскую жизнь и роковым образом толкавшая интеллигенцию исключительно на борьбу против политического и экономического гнета, привело к тому, что в сознании русской интеллигенции европейские философские учения воспринимались в искаженном виде, приспособлялись к специфически интеллигентским интересам, а значительнейшие явления философской мысли совсем игнорировались. Искажен и к домашним условиям приспособлен был у нас и научный позитивизм, и экономический материализм, и эмпириокритицизм, и неокантианство, и ницшеанство"[15].
Вот каким искажениям подвергся в России позитивизм (хотя нужно отметить, что Бердяев данном случае имеет в виду под позитивизмом скорее не учение Конта и Спенсера, а то, что принято называть «научностью»): «Научный позитивизм был лишь орудием для утверждения царства социальной справедливости и для окончательного истребления тех метафизических и религиозных идей, на которых, по догматическому предположению интеллигенции, покоится царство зла. Чичерин был гораздо более ученым человеком и в научно-объективном смысле гораздо большим позитивистом, чем Михайловский, что не мешало ему быть метафизиком-идеалистом и даже верующим христианином. Но наука Чичерина была эмоционально далека и противна русской интеллигенции, а наука Михайловского была близка и мила. Нужно, наконец, признать, что „буржуазная“ наука и есть именно настоящая, объективная наука, „субъективная“ же наука наших народников и „классовая“ наука наших марксистов имеют больше общего с особой формой веры, чем с наукой»[16].
Но еще большему искажению подвергся на русской почве марксизм, или, как принято его была называть в те годы, «экономический материализм».
«Экономический материализм, — пишет Бердяев, — есть учение по преимуществу объективное, оно ставит в центре социальной жизни общества объективное начало производства, а не субъективное начало распределения. Учение это видит сущность человеческой истории в творческом процессе победы над природой, в экономическом созидании и организации производительных сил. Весь социальный строй с присущими ему формами распределительной справедливости, все субъективные настроения социальных групп подчинены этому объективному производственному началу. И нужно сказать, что в объективно-научной стороне марксизма было здоровое зерно которое утверждал и развивал самый культурный и ученый из наших марксистов — П. Б. Струве. Вообще же экономический материализм и марксизм был у нас понят превратно, был воспринят „субъективно“ и приспособлен к традиционной психологии интеллигенции. Экономический материализм утратил свой объективный характер на русской почве, производственносозидательный момент был отодвинут на второй план, и на первый план выступила субъективно-классовая сторона социал-демократизма. Марксизм подвергся у нас народническому перерождению, экономический материализм превратился в новую форму „субъективной социологии“. Русскими марксистами овладела исключительная любовь к равенству и исключительная вера в близость социалистического конца и возможность достигнуть этого конца в России чуть ли не раньше, чем на Западе. Момент объективной истины окончательно потонул в моменте субъективном, в „классовой“ точке зрения и классовой психологии. В России философия экономического материализма превратилась исключительно в „классовый субъективизм“, даже в классовую пролетарскую мистику»[17].
В результате сознание русской интеллигенции претерпело следующую, как выражается Бердяев, «аберрацию»: «…Интеллигенция наша дорожила свободой и исповедовала философию, в которой нет места для свободы; дорожила личностью и исповедовала философию, в которой нет места для личности; дорожила смыслом прогресса и исповедовала философию, в которой нет места для смысла прогресса; дорожила соборностью человечества и исповедовала философию, в которой нет места для соборности человечества; дорожила справедливостью и всякими высокими вещами и исповедовала философию, в которой нет места для справедливости и нет места для чего бы то ни было высокого. Это почти сплошная, выработанная всей нашей историей аберрация сознания»[18].
Выход из создавшейся ситуации представляется Бердяеву таким: «Все исторические и психологические данные говорят за го, что русская интеллигенция может перейти к новому сознанию лишь на почве синтеза знания и веры, синтеза, удовлетворяющего положительно ценную потребность интеллигенции в органическом соединении теории и практики, „правды-истины“ и „правды-справедливости“. Но сейчас мы духовно нуждаемся в признании самоценности истины, в смирении перед истиной и готовности на отречение во имя ее. Это внесло бы освежающею струю в наше культурное творчество. Ведь философия есть орган самосознания человеческого духа, и орган не индивидуальный, а сверхиндивидуальный и соборный»[19].
Как уже упоминалось, в последующих статьях сборника «Вехи» (кроме статьи С. Л. Франка) речь о справедливости напрямую не ведется, однако статья Бердяева, служащая своего рода камертоном для всех дальнейших его тем, вполне позволяет прочитать их именно под этим углом зрения. С. Н. Булгаков в своей статье «Героизм и подвижничество» резко противопоставляет эти два понятия, показывая, что интеллигентский героизм ни к чему хорошему, кроме ранней и в большинстве случаев бесполезной гибели «героя"-интеллигента, не ведет. В свете последующего исторического опыта России можно сказать, что «героическая жертвенность» русской интеллигенции (в булгаковском ее понимании) означает латентную форму ее коллективного самоубийства. И если статья Булгакова заканчивается призывом к русской интеллигенции о покаянии, то статья М. О. Гершензона («Творческое самосознание») с этого призыва начинается. «Нет, — пишет Гершензон, — я не скажу русскому интеллигенту: «верь», как говорят проповедники нового христианства, и не скажу также: «люби», как говорит Толстой. Что пользы в том, что под влиянием проповедей люди в лучшем случае сознают необходимость любви и веры? Чтобы возлюбить или поверить, те, кто не любит и не верит, должны внутренне обновиться, — а в этом деле сознание почти бессильно. Для этого должна переродиться самая ткань духовного существа человека, должен совершиться некоторый органический процесс в такой сфере, где действуют стихийные силы, — в сфере воли.
Одно, что мы можем и должны сказать русскому интеллигенту, это — постарайся стать человеком. Став человеком, он без нас поймет, что ему нужно: любить или верить, и как именно.
Потому что мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть, русских интеллигентов, и уродство наше — даже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное. Мы калеки потому, что наша личность раздвоена, что мы утратили способность естественного развития, где сознание растет заодно с волею, что наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко и мчится впустую, оставив втуне нашу чувственно-волевую жизнь. Русский интеллигент — это, прежде всего, человек, с юных лет живущий вне себя, в буквальном смысле слова, т. е. признающий единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее вне его личности — народ, общество, государство. Нигде в мире общественное мнение не властвует так деспотически, как у нас, а наше общественное мнение уже три четверти века неподвижно зиждется на признании этого верховного принципа; думать о своей личности — эгоизм, непристойность; настоящий человек лишь тот, кто думает об общественном, интересуется вопросами общественности, работает на пользу общую. Число интеллигентов, практически осуществлявших эту программу, и у нас, разумеется, было ничтожно, но святость знамени признавали все, и кто не делал, тот все-таки платонически признавал единственно спасающим это делание и тем уже совершенно освобождался от необходимости делать что-нибудь другое, так что этот принцип, превращавшийся у настоящих делателей в их личную веру и тем действительно спасавший их, для всей остальной огромной массы интеллигентов являлся источником великого разврата, оправдывая в их глазах фактическое отсутствие в их жизни всякого идеалистического делания"1.
Следует еще отметить, что для репутации сборника «Вехи» роковую роль сыграли слова именно Гершензона, хотя их смысл был понят совершенно превратно. Вот эта роковая фраза: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»[20]. Недаром даже П. Б. Струве, который в своей статье «Интеллигенция и революция» объявил русскую интеллигенцию исторической преемницей казачьего «противогосударственного „воровства“», поспешил публично отречься от этой фразы. Суть дела от этого, конечно, не изменилась: и Струве, и Гершензон, писали в сущности об одном и том же.
Совершенно особняком стоит в сборнике статья Б. А. Кистяковского «В защиту права». Если в западноевропейской культуре право и справедливость чаще всего выступают как синонимы, то в сознании русского интеллигента (по крайней мере, того времени) они нередко выступали и как антонимы.
«Главное и самое существенное содержание права, — по словам Кистяковского, — составляет свобода. Правда, это свобода внешняя, относительная, обусловленная общественной средой. Но внутренняя, более безотносительная, духовная свобода возможна только при существовании свободы внешней, и последняя есть самая лучшая школа для первой.
Если иметь в виду это всестороннее дисциплинирующее значение права и отдать себе отчет в том, какую роль оно сыграло в духовном развитии русской интеллигенции, то получатся результаты крайне неутешительные. Русская интеллигенция состоит из людей, которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы. И это находится в связи с тем, что русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития"[21].
Далее Кистяковский пытается выяснить причины такого печального положения вещей, и вот к какому выводу он приходит: «Притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям являются результатом застарелого зла — отсутствия какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа»[22].
Но есть определенная вина и на интеллигенции: «Наше общественное сознание никогда не выдвигало идеала правовой личности. Обе стороны этого идеала — личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личности, наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими, чужды сознанию нашей интеллигенции.
Целый ряд фактов не оставляет относительно этого никакого сомнения. Духовные вожди русской интеллигенции неоднократно или совершенно игнорировали правовые интересы личности, или выказывали к ним даже прямую враждебность"[23]. Своеобразным апофеозом такого «правосознания» Кистяковский считает выступление Г. В. Плеханова на II съезде РСДРП (причем поддержанное всеми участниками съезда. «По его мнению, — пишет Кистяковский, — „каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе в своей отааеченности, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, именно к принципу, гласящему, что salus populi suprema lex. В переводе на язык революционера это значит, что успех революции — высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться“»[24].
Заканчивается сборник «Вехи» статьей С. Л. Франка «Этика нигилизма», содержание которой во многом символическим образом совпадает с содержанием статьи Бердяева.
Франк пишет: «Современный социальный оптимизм, подобно Руссо, убежден, что все бедствия и несовершенства человеческой жизни проистекают из ошибок или злобы отдельных людей или классов. Природные условия для человеческого счастья, в сущности, всегда налицо; нужно устранить только несправедливость насильников или непонятную глупость насилуемого большинства, чтобы основать царство земного рая. Таким образом, социальный оптимизм опирается на механико-рационалистическую теорию счастья. Проблема человеческого счастья есть, с этой точки зрения, проблема внешнего устроения общества; а так как счастье обеспечивается материальными благами, то это есть проблема распределения. Стоит отнять эти блага у несправедливо владеющего ими меньшинства и навсегда лишить его возможности овладевать ими, чтобы обеспечить человеческое благополучие. Таков несложный, но могущественный ход мысли, который соединяет нигилистический морализм с религией социализма«'.
«Моральный пафос социализма, — продолжает он, — сосредоточен на идее распределительной справедливости и исчерпывается ею; и эта мораль тоже имеет свои корни в механико-рационалистической теории счастья, в убеждении, что условий счастья не нужно вообще созидать, а можно просто взять или отобрать их у тех, кто незаконно завладел ими в свою пользу. Социалистическая вера — не источник этого одностороннего обоготворения начала распределения; наоборот, она сама опирается на него и есть как бы социологический плод, выросший на метафизическом древе механистической этики. Превознесение распределения насчет производства вообще не ограничивается областью материальных благ; оно лишь ярче всего сказывается и имеет наиболее существенное значение в этой области, так как вообще утилитаристическая этика видит в материальном обеспечении основную проблему человеческого устроения. Но важно отметить, что та же тенденция господствует над всем миропониманием русской интеллигенции. Производство благ во всех областях жизни ценится ниже, чем их распределение; интеллигенция почти так же мало, как о производстве материальном, заботится о производстве духовном, о накоплении идеальных ценностей; развитие науки, литературы, искусства и вообще культуры ей гораздо менее дорого, чем распределение уже готовых, созданных духовных благ среди массы. Так называемая „культурная деятельность“ сводится именно к распределению культурных благ, а не к их созиданию, а почетное имя культурного деятеля заслуживает у нас не тот, кто творит культуру — ученый, художник, изобретатель, философ, — а тот, кто раздает массе по кусочкам плоды чужого творчества, кто учит, популяризирует, пропагандирует»[25].
Ошибочность и порочность такого понимания справедливости для Франка вполне очевидна, поскольку хотя «распределение, бесспорно, есть необходимая функция социальной жизни, и справедливое распределение благ и тягот жизни есть законный и обязательный моральный принцип», «но абсолютизация распределения и забвение из-за него производства или творчества есть философское заблуждение и моральный грех. Для того чтобы было что распределять, надо прежде всего иметь что-нибудь, а чтобы иметь — надо созидать, производить. Без правильного обмена веществ организм не может существовать, но ведь, в конце концов, он существует не самим обменом, а потребляемыми питательными веществами, которые должны откуда-нибудь притекать к нему. То же применимо к социальному организму в его материальных и духовных нуждах. Дух социалистического народничества, во имя распределения пренебрегающий производством, — доводя это пренебрежение не только до полного игнорирования, но даже до прямой вражды, — в конце концов, подтачивает силы народа и увековечивает его материальную и духовную нищету. Социалистическая интеллигенция, растрачивая огромные сосредоточенные в ней силы на непроизводительную деятельность политической борьбы, руководимой идеей распределения, и не участвуя в созидании народного достояния, остается в метафизическом смысле бесплодной и, вопреки своим заветным и ценнейшим стремлениям, ведет паразитическое существование на народном теле. Пора, наконец, понять, что наша жизнь не только несправедлива, но прежде всего бедна и убога; что нищие не могут разбогатеть, если посвящают все свои помыслы одному лишь равномерному распределению тех грошей, которыми они владеют; что пресловутое различие между „национальным богатством“ и „народным благосостоянием“ — различие между накоплением благ и доставлением их народу — есть все же лишь относительное различие и имеет реальное и существенное значение лишь для действительно богатых наций, так что если иногда уместно напоминать, что национальное богатство само по себе еще не обеспечивает народного благосостояния, то для нас бесконечно важнее помнить более простую и очевидную истину, что вне национального богатства вообще немыслимо народное благосостояние. Пора, во всей экономии национальной культуры, сократить число посредников, транспортеров, сторожей, администраторов и распределителей всякого рода и увеличить число подлинных производителей. Словом, от распределения и борьбы за него пора перейти к культурному творчеству, к созиданию богатства»1.
Полемика вокруг сборника «Вехи» (выдержавшего в течение года пять изданий) почти непрерывно продолжалась почти два года, потом она стала затихать, но в сущности, однажды начавшись, никогда уже не прекращалась и не прекращается по сей день.
Вся тогдашняя Россия — от Варшавы до Благовещенска и от С.-Петербурга до Тифлиса — приняла участие в обсуждении сборника о русской интеллигенции.
Первым изданием «Вехи» вышли в свет в середине марта 1909 г. И уже в марте появилось восемь критических статей. В апреле их появилось уже 35, а в мае — 49 (!). Самый «урожайный» веховский день — 23 апреля: в этот день появилось сразу шесть статей о сборнике. В июне страсти вокруг «Вех» несколько утихают: 23 статьи, и в последующие месяцы до конца года появляется в среднем по 20 статей. Наконец, за полтора месяца нового, 1910; го года выходят еще 22 статьи.
Следует обратить внимание на тот факт, что в один год с «Вехами» вышли в свет еще две выдающиеся книги, каждая шедевр в своем роде, — «По звездам» Вяч. Иванова и «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленина. Совпадение символическое!
Вообще В. И. Ленин очень долго хранил молчание по поводу «Вех». До самой середины мая 1909 г. он был занят делами по изданию своей книги «Материализм и эмпириокритицизм». Затем хлопотал насчет рецензий, — словом, было не до «Вех». Быть может, В. И. Ленин и вовсе бы не принял участия в дискуссии, так как было очевидно, что «интеллигенция» сама успешно справится (и расправится) с «возмутителями спокойствия». Ленин в рамках своей партии выполнял ту же функцию подавления всяческого инакомыслия, какую русская «интеллигенция» играла по отношению к авторам «Вех». Возможно, чашу терпения Ильича переполнила рецензия на его книгу, опубликованная С. Л. Франком в газете «Слово» 12/25 июня 1909 г. Рецензия эта стоит того, чтобы привести ее полностью:
«Не мало приходилось нам читать из русской литературы марксистской философии в обеих ее фракциях — материалистической и «эмпириокритической». Вся она почти без исключения страдает одним органическим недостатком — смешением научного критерия истинности с политическими мерками «прогрессивности» или «классовой пролетарской чистоты». Тем не менее, в ней встречаются произведения серьезные и добросовестные, вроде работ Г. Бермана и П. Юшкевича, ярко контрастирующие с преобладающей здесь полемической шумихой. Никогда, однако, не случалось нам читать ничего более грубого, пошлого и первобытного, чем книга г. Ильина, посвященная защите материализма и дискредитированию эмпириокритицизма. Это дискредитирование ведется чрезвычайно просто — посредством обнаружения точек соприкосновения между эмпириокритицизмом и философским идеализмом. Эта близость, отрицать которую невозможно (но которую автор незаконно или грубо смешивает с совершенным тождеством), достаточна для г. Ильина, чтобы признать нелюбимую им точку зрения «фидеизмом» (мировоззрением, допускающим религиозную веру) и морально уничтожить ее эпитетами «поповщина», «реакционное мракобесие» и т. п. О характере изложения и рассуждения дают понятие следующие фразы: «в философии поцелуй Вильгельма Шуппе ничуть не лучше, чем в политике — поцелуй Петра Струве или г. Меньшикова» (стр. 71). «Вундт… сорвал маску с кривляки Авенариуса» (стр. 94). «Имманенты — самые отъявленные реакционеры, прямые проповедники фидеизма, цельные в своем мракобесии люди» (стр. 248). Они же — «немецкие Меньшиковы» (стр. 249). Защита реализма у Шуппе — «грубая мошенническая проделка». Ученики Авенариуса — «клоуны буржуазной науки» (стр. 383). В таком стиле и с такой убедительностью и беспристрастностью написана вся толстая книга в 400 с лишним страниц.
Писать можно, конечно, что угодно и как угодно. Но что подобные готтентотские упражнения в сочетании философских слов с ругательными так легко находят себе издателей, а следовательно, рассчитывают найти читателей — есть глубоко грустное явление, свидетельствующее о низком уровне не только господствующего философского образования, но и нашей общей культурности. Из уважения к русским читателям, из уважения к человеческой личности самого автора мы надеемся, что его книга пойдет на макулатуру".
Увы, увы и еще раз увы… История распорядилась по-своему. 13 декабря 1909 года автор книги, которую рецензент-«веховец» советовал пустить на макулатуру, на долгие десятилетия заклеймил «Вехи» как «энциклопедию либерального ренегатства» (газета «Новый день»).
С некоторой долей условности можно сказать, что ленинская статья подвела общий итог полемике вокруг «Вех». Только слово «итог» уместно заменить словом «приговор», который и будет приведен в исполнение через несколько лет.
Выше уже отмечалось, что можно считать символическим почти одновременный выход в свет сборника «Вехи» и книги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Одна книга была пророческим предупреждением против закамуфлированных угроз и обещаний второй. «От этой книги, — писал Н. Валентинов о „Материализме и эмпириокритицизме“, — идет уже прямая, хорошо выглаженная бульдозерами дорога к государственной философии, опирающейся на ГПУ-НКВД-МГБ»[26].
Напомним, что из семи авторов «Вех» пятеро — кроме М. О. Гершензона и умершего в 1920 году Б. А. Кистяковского — в 1922 году были высланы из советской России. После Октябрьской революции сборник «Вехи» на долгие десятилетия был посажен в спецхран. Книга «Материализм и эмпириокритицизм» была издана в ССС. 107 раз общим тиражом в 5 157 000 экземпляров на 23 языках (данные на 1 января 1960 года[27]). Прибавьте к этому 60 миллионов погибших и замученных за все годы советской власти, — такой приблизительно будет цена неуслышанного пророчества «Вех». Приблизительно — поскольку разрушение культуры, нравственное одичание народа, потери от нереализованных потенциальных возможностей — все это не поддается точному учету. Прав В. В. Розанов, писавший о «Вехах»: «Это самая грустная книга…»[28]
Сегодня, читая и перечитывая «Вехи» и околовеховскую полемику, надо помнить: с начала 1910 года до Октябрьской революции оставалось 7 лет 9 месяцев 25 дней…
2013 г… Столетие того самого последнего мирного года, о котором все годы советской власти говорилось и писалось: «по сравнению с которым…».
Советской власти уже нет, политическая и социальная система стали совсем иными. Все спектры социально-философской мысли, в течение всей предыдущей истории бившиеся над проблемой свободы и справедливости, представлены и в современной жизни России: от монархистов до анархистов. И вопросы остались прежние, все те же русские «проклятые вопросы»: что делать? кто виноват? когда же придет настоящий день? Да и придет ли вообще?..
- [1] «Свобода, Санчо, — говорит Дон Кихот своему верному и простодушному оруженосцу, — есть одна из самых драгоценных щедрот, которое небо изливает на людей; с неюне мог>т сравняться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, чтосокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно, как и ради чести, можно и должнорисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какиемогут случиться с человеком» (Сервантес М. Собрание сочинений: В 5 т. М.: Правда, 1961. Т. 2. С. 466). Здесь очень хорошо сформулировано представление о свободе каквеличайшей ценности, а о неволе — как величайшем несчастье. Таким образом, свободунельзя отождествлять со счастьем, она есть лишь необходимое ее условие; отсутствие (или же лишение) ее действительно несчастье. Сервантес, несколько лет проведшийв алжирском плену, хорошо знал, о чем писал. Другая замечательная особенность этого"определения" свободы состоит в том, что оно не допускает никакой идеализации (а темсамым и апологетики) рабства или, как предпочитает выражаться Дон Кихот, «неволи»: раб не может быть счастливым (в каком бы рабстве — физическом или экономическом —он ни находился). Более того, он не может даже считаться человеком, поэтому Аристотель, наиболее глубокий «теоретик» рабства, объявил свободных и рабов фактическими «животными разной породы»: одни люди от природы свободны, другие рождаются рабами. Тем самым, он избавил своих соотечественников от угрызений совести (мы ведь тожене переживаем из-за того, что часть черной работы перекладываем на трактора, станкии всевозможные машины, а в недалеком уже будущем передадим ее человекообразнымроботам, да еще научим их говорить — т. е., по сути дела, аристотелевским «говорящиморудиям») и тем же самым напрочь уничтожил саму возможность выхода из рабовладениядля античной рабовладельчсской цивилизации. Античная философия, сколь бы гениальнаона ни была, обрекла античный мир на уничтожение. Для выхода из рабства понадобилосьхристианство с его освобождающей идеей равенства всех людей перед Богом. Но идеяапелляции к высшим причинам, в силу которых люди, даже если они «рождаются свободными, всюду находятся в цепях», сохранилась и еще долго, наверное, будет сохраняться. На смену «природы» у Аристотеля, пришел сам Бог, затем «объективная необходимость», несовершенство мироустройства, в конце концов — несовершенство самого человека.
- [2] «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».
- [3] Чаадаев П. Я. Указ. соч. Т. 1. С. 537.
- [4] Цит. по: Вересаев В. Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М., 1990. С. 187.
- [5] Там же. С. 188.
- [6] Атеизм и богоборчество — вещи не только разные, но, пожалуй, и несовместные, как гений и злодейство. Какому атеисту на Западе придет в голову запрещатьБиблию, уничтожать церкви, расстреливать священников!
- [7] См. цитаты из И. А. Родионова «Наше преступление» (1909), которые приводит в книге «Характер русского народа» Н. О. Лосский (Лосский Н. О. Условияабсолютного добра. М.: Политиздат, 1991. С. 350−352).
- [8] «Католицизм извращается в истерию, казуистику, формализм и инквизицию. Православие, развращаясь, дает хулиганство, разбойничество, анархизм и бандитизм. Только в своем извращении и развращении они могут сойтись, в особенности, если их синтезировать при помощи протестантско-возрожденческого иудаизма, который умеет истерию и формализм, неврастению и римское право объединитьс разбойничеством, кровавым сладострастием и сатанизмом при помощи холодногои сухого блуда политико-экономических теорий» (Лосев А. Ф. Очерки античногосимволизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. С. 891−892).
- [9] Соловьев В. С. Указ. соч. Т. 1. С. 189−190.
- [10] Герцен А. И. Сочинения: В 9 т. М., 1956. Т. 5. С. 138.
- [11] Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991.Т. 2. С. 96.
- [12] Манифесты русского идеализма. М., 2009. С. 456.
- [13] Там же. С. 458.
- [14] Там же. С. 460−461.
- [15] Там же. С. 462.
- [16] Там же. С. 464.
- [17] Там же. С. 464−465.
- [18] Там же. С. 469.
- [19] Там же. С. 470−471.
- [20] Там же. С. 523−524.
- [21] Там же. С. 552−553.
- [22] Там же. С. 556.
- [23] Там же. С. 558.
- [24] Там же. С. 563.
- [25] Там же. С. 610.
- [26] Валентинов Н. Встречи с Лениным // Волга. 1990. № 2. С. 126).
- [27] Философская энциклопедия. М., 1964. Т. 3. С. 362.
- [28] Новое время, 1909. 27 апр.