Франсиско де кеведо-и-вильегас (1580—1645)
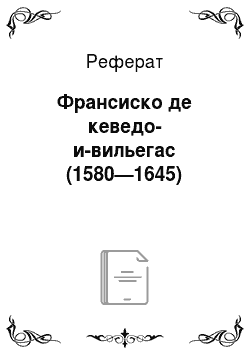
Кеведо — современник Сервантеса и Гонгоры, Эль Греко и Веласкеса. Его время — испанский золотой век — было странным и тревожно двойственным: искусство цвело, а жизнь неумолимо угасала. Долгое, неимоверное напряжение народных сил сменялось оцепенением, национальная самоуверенность — разочарованием. Но именно разочарование — освобождение от чар — придавало в глазах Кеведо и его современников новую… Читать ещё >
Франсиско де кеведо-и-вильегас (1580—1645) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Кеведо был резким, насмешливым оппонентом Гонгоры. Он выступал сторонником консептизма — течения в испанской поэзии и прозе, которое воспринимало стилистическое изыски гонгористов как пустые украшательства. Название «консептизм» происходит от «консепта», а это понятие испанский прозаик и автор трактата «Об искусстве острого ума» Б. Грасиан определил как «акт понимания, который выражает связи, обнаруживаемые между объектами». Консептисты тоже любили сложность — но внутреннюю сложность самой мысли, и стремились передать ее многозначностью употребляемых слов, каламбурами, пародийной игрой, разрушающей словесные штампы.
Для нас Кеведо — прежде всего поэт, а современники знали Кеведо-сатирика, и вряд ли кто помнил хоть один его сонет — крылатыми были не стихи, а его дерзкие и сумрачные остроты. И молва об учености. Испанский Свифт, он оставил фантасмагорическую картину своего времени. И, кроме того, множество трудов самого широкого спектра, от этики до политики, от комментариев к Книге Иова до предисловия к «Утопии» Мора. Кеведо был мыслителем и проповедником, просветителем и переводчиком. Наконец, политическим деятелем — и политическим заключенным. Словом, непросто перечислить, кем был этот человек рыжий, как земля Ла Манчи, и хромой, как Байрон (литературные враги, настоящие и наемные, в стихах именовали его Хромым Бесом и даже Архидьяволом, а в прозе писали на него доносы в инквизицию, прилагая изданные и неизданные его вещи, пока не добились их запрета).
Кеведо прожил опасную и бедственную жизнь, ибо родился бунтарем. Бунт его был, как любят сейчас говорить, метафизическим, но не только. Несправедливость повергала Кеведо в бешенство, и ни его искушенный ум, ни заветы стоиков, которых он так любил, не могли его обуздать. Бросив вызов могущественному временщику Оливаресу и самому королю, он на пороге своего шестидесятилетия очутился в тюрьме — не впервые, но на этот раз как государственный преступник, т. е. навсегда. Четыре года одиночки превратили его в живой скелет, и только падение Оливареса, разорившего страну, отсрочило конец. Кеведо вышел на свободу, по его словам, «выжил, чтобы увидеть свои останки» — и через два года, в глухом углу продутой ветрами Ла Манчи, медленно и одиноко угас, лишь однажды пожаловавшись, что так и не может согреться.
И еще одна горестная подробность — последней его заботой были стихи. Он пытался собрать их и хотя бы подготовить к изданию. Но подготовили уже другие, и стихи увидели свет посмертно, далеко не все и главное — в несколько приглаженном виде. Они оказались «трудными» и смутили даже самых искренних друзей. Кеведо, видимо, сознавал безотчетную силу своего дара и, к счастью, доверял ей. «Я не знаю, что говорю, — признался он однажды, — хотя чувствую, что хочу сказать». Труден был не язык, а сам предмет разговора.
Эпитафией Кеведо — или эпиграфом к нему — могла бы стать его строка: «Любил жизнь, зная, что это смерть5> (в подлиннике — «Атаг la vida con saber que es muerte»). Еще молодым он перевел Анакреонта и почти одновременно — плач Иеремии, и в контрастности этого выбора уже проступила внутренняя суть Кеведо, его трагическое жизнелюбие. Он жил за десятерых, но жизнь ощущал как агонию.
Кеведо — современник Сервантеса и Гонгоры, Эль Греко и Веласкеса. Его время — испанский золотой век — было странным и тревожно двойственным: искусство цвело, а жизнь неумолимо угасала. Долгое, неимоверное напряжение народных сил сменялось оцепенением, национальная самоуверенность — разочарованием. Но именно разочарование — освобождение от чар — придавало в глазах Кеведо и его современников новую цену жизни и человеку. Как сказали бы экзистенциалисты, человек учился не надеяться. Итог уже в двадцатом веке подвел Сесар Вальехо: «Не надо ничего бояться. Не надо ни на что надеяться». Трудная наука взросления делала человека свободным, но, понятно, не сулила радостей. Как писал Кеведо, обманутый, я сам тому виною и бедствуя, жду бед и в них не верю.
(здесь и далее перевод А. Гелескула)
Кеведо страстно откликался всем бедам и безумствам своего века; собственно, поводом для его последнего ареста послужил гневный стихотворный памфлет, подброшенный им королю. Иные его сатиры уже утратили злободневность и привлекательны лишь своей веселой злостью и остроумием.
Но сокровенная сила поэзии Кеведо, спрессованная в его сонетах, до сих пор подобна сжатой пружине. Это мучительные поиски ответа все на тот же вопрос «Быть иль не быть… Что благородней духом?» и трудный спор уже не со временем и его кознями, а с судьбой, творением и самим Творцом. Недаром Кеведо переводил и комментировал книгу Иова.
Спустя три века Андрей Платонов, говоря о Толстом, этом могучем воплощении трагического жизнелюбия, назвал его неприятие смерти «специфическим эгоизмом Толстого». Понятно, что взгляд самого Платонова на жизнь и смерть был иным, и в его словах ощутима какая-то укоризна. Что до Кеведо, то означенным эгоизмом он отмечен не был, и все же его сонеты — такой веер отношений к смерти, сравнительно с которым даже толедские горожане на «Похоронах графа Оргаса» кажутся примиренными общей печалью.
Тема человеческой бренности была традиционной и уже банальной, но даже в ее перепевах Кеведо находит звук, заставляющий вздрогнуть:
Жизнь не длинней дневного перехода, живая смерть, укрытая в личины.
Эта метафора жизни — «живая смерть» — спустя три века повторится в «Сонетах темной любви» Гарсиа Лорки, настолько она врезалась в испанское сознание, если не подсознание. А может быть, им-то и была рождена.
Еще одно традиционное начало — «вчера был сном, /а завтра стану тленом, /едва возник и вскоре — горстка пыли» — завершает «экзистенциальный» анализ бытия и времени:
Былого нет, грядущее в дороге, в минувшем настоящее — и оба похожи на кладбищенские дроги.
Удар часов как заступ землероба, и жизнь моя, поденщица тревоги, уже готовит место мне для гроба.
Порой безнадежный оклик: «Эй, жизнь моя!.. Молчание ответом?» — сменяется стоической попыткой смирения:
Едва шагнув за колыбельный полог, пустился я в дорогу без возврата и даже спящий двигался вслепую.
Последний вздох и горек, и недолог, но если смерть — завещанная плата, не казнь, а дань, — зачем же я тоскую?
Но вопрос, как и оклик, остается без ответа и переходит в бунт:
О смертный наш ярем! О злая участь!
Дня не прожить, не выплатив оброка, взимаемого смертью самовластно!
И ради смерти и живя, и мучась, под пыткой постигать, как одинока, как беззащитна жизнь и как напрасна.
Эти строки насильственно вырваны из монолитной цельности сонетов, но достаточно говорят о душевных метаниях поэта. Не покидает его и «воля к смерти» — гамлетовское «умереть, уснуть», но в исконно испанском звучании:
Бич мудрости и мощи, наша кара, зову тебя, сомкни же тень за тенью над оскорбленным духом, и к забвенью прильну я ртом, обугленным от жара.
И если слезы чувствую щекою, мой жгучий плач во мраке ожиданья исторгнут естеством, а не тоскою.
Был первый вздох мой вестником рыданья, и лишь последним сердце успокою, всего себя земле вручая данью.
«Искусство (прошлое) сначала причиняло боль, — писал Андрей Платонов, — потом проходило время, боль засыхала, искусство признавалось классическим». Понятно, что и в прошлом была не только боль — были и симулянты. Литературная мода возникала на что угодно — в том числе на вечные вопросы и скорбные ответы. И, конечно, не они дали стихам Кеведо долговечность, а живая мощь его голоса. Сознание смерти и человеческой заброшенности, стоическое смирение и презрение к судьбе, умозрительное у других, у него прозвучало как исповедь. То был голос смертельно раненого человека.
Трагизм исключает малодушие, и вряд ли надо пояснять, что Кеведо не очень-то боялся смерти. Первый фехтовальщик испанского двора, дуэлянт, едва ли не бретер, он не раз играл жизнью, своей и чужой. Такой был век, и Кеведо следовал духу времени, но потом жестоко раскаивался. Сохранился своеобразный дневник, куда из года в год он скрупулезно вписывал перечни грехов, в которых исповедался, — трогательное свидетельство самоанализа, необычного и, видимо, неутешительного. «Есть вещи, которые я выстрадал, — писал Кеведо, — и страдать побудили меня жизнь и совесть. Прочее подсказано временем».
Поэзия Кеведо причиняла боль и, думается, сохранила это свойство. Не только потому, что его трудная тяжба с миром и собой — это борение духа, оскорбленного неправедностью жизни и несправедливостью смерти. Но и потому еще, что его обида на мир — обида любящего. Самый, наверно, светлый из его траурных сонетов — о посмертной судьбе:
Последний мрак, презренье знаменуя, под веками сомкнется смертной мглою, пробьет мой час и, встреченный хвалою, отпустит душу, узницу земную.
Но и черту последнюю минуя, здесь отпылав, туда возьму былое, и прежний жар, не тронутый золою, преодолеет реку ледяную.
И та душа, что бог обрек неволе[1], та кровь, что полыхала в каждой вене, тот разум, что железом жег каленым, утратят жизнь, но не утратят боли, покинут мир, но не найдут забвенья, и прахом стану — прахом, но влюбленным.
Три века спустя над прахом Кеведо остановился другой поэт, отмеченный таким же трагическим жизнелюбием. «Печален был мой путь к Кеведо, — рассказывал Федерико Гарсиа Лорка за полгода до гибели. — Странствуя по Ла Манче, я очутился в селении Инфантес[2]. Пустынная площадь. Сумрачная церковь с гербами австрийского дома. Откуда-то изнутри темной церкви донеслось не то пение, не то рыдание — это молилась деревенская девочка. Я вошел и остановился потрясенный. Там был Кеведо — одинокий, погребенный, и за могилой не узнавший справедливости. Казалось, я только что шел за гробом…».
И кончил так: «Кеведо — это Испания».
Говоря об универсальности Кеведо, к перечню широты его интересов, стоит добавить, что он был и живописцем. Работы, кажется, не сохранились; возможно, он был живописцем для себя, талантливым любителем, но — пресловутая связь времен! — уроки живописи ему давал Веласкес. Так возникает нить — и, если вдуматься, более прочная, чем уроки живописи, — от трагического Кеведо к последнему, спокойному и самому загадочному титану испанского барокко.
Что значит «последнему» и правомерно ли само сочетание — Веласкес и барокко?
Отзывы современников о Веласкесе скудны, а в начале его дворцовой карьеры даже забавны: «Он умеет писать только головы». Действительно, парадные конские крупы удавались ему хуже, однако на инвективу Веласкес отвечал: «Неужели? Ни разу не видел умело написанной головы».
Последний — всегда и первый. С середины XIX в., когда Веласкес, собственно, и стал доступен обозрению, суждения о нем хлынули ливнем и с тех пор не иссякают. Его называют родоначальником европейского реализма — клише столь же привычное, сколь и сомнительное. Импрессионисты тоже признали его своим. А сюрреалист Сальвадор Дали высказался кратко, но веско: «Когда меня спрашивают «Что нового?» — я отвечаю: «Веласкес. Ныне и присно».
Философ Ортега-и-Гассет посвятил разгадке Веласкеса немало страниц и даже отдельную книгу. Вот лишь краткий перечень его догадок: «великий атеист»; «гений презрения»; «он ничего нам не говорит»; «так мог писать лишь угрюмый затворник»; «его решительно ничто не волнует»; «его искусство — исповедь, история противостояния бытию, это искусство отстраненности…» И как итог — «драма одиночества». Но Ортега останавливает себя: «Большой художник всегда говорит на особом языке и потому зачастую остается непонятным. Да и как его понять, если его миссия в том, чтобы дать миру новый язык?.. Проходя мимо людей, которые бормочут что-то непонятное, мы говорим: это китайцы. Приближаясь к стене, за которой таится что-то неведомое и тревожное, мы говорим: «Веласкес».
И далее: «Бытие на грани небытия… Это означает не только изменение стиля, но и иное предназначение самого искусства — спасать действительность, мимолетную и сиюминутную, подверженную тлению и несущую на себе печать смерти и саморазрушения».
Особо отметим нежданный и, может быть, самый проницательный вывод Ортеги: «Веласкес — художник пустоты». Ортега не развил эту мысль и даже, кажется, не додумал до конца, сведя все к особенностям веласкесовских композиций: «Живопись пустого пространства или вогнутых пустот». Но, утверждая, что несколько герметичные для нас полотна Веласкеса при их рождении «являли собой великолепные, удивительные и дерзкие открытия», Ортега осторожно добавляет: «Возможно, помимо этого в них было еще нечто, что видел только Веласкес».
Коснемся только одной, самой знаменитой его картины — «Менины»1. О ней написаны сотни, если не тысячи, страниц, к которым мало что можно добавить. Это не удивительно — на то и бумага, чтобы писать. Удивительно другое — Пабло Пикассо, уже на склоне лет, переложил «Менин» на свой, вернее, на свои языки — кубистский, экспрессивный, гротескный и создал десяток, если не больше, вариаций. Зачем — гадать бесполезно. Поверял алгеброй гармонию? Приближал, переводил старый текст на современную лексику? Искал, подобно святому Франциску, в древних письменах буквы, из которых складывается имя Господне? Притягательность «Менин» очевидна, анатомирование загадочно. Может быть, действительно хотел найти «нечто, что видел только Веласкес»?
Картина широко известна хотя бы по репродукциям. Мастерская, художник за работой и посетители — инфанта, камеристки, тучная карлица с лилипутом[3][4], дуэнья. Вот и все, не считая собаки. На стене — зеркало, которое отражает, по мнению одних, лица короля и королевы, по мнению других — их портреты, а по остроумному замечанию Мишеля Фуколя — не отражает никого и вместе с тем каждого, кто вглядывается в картину.
Короче, сцена обыденная. Мастерская и художник за работой — бродячий сюжет того времени. Вспомним шедевр Вермеера, полный света и любви к миру, к вещам и к искусству, их создавшему; мы не видим лица художника, но жест его руки незабываем — миг творчества, навеки замерший, как кисть над едва начатым холстом. Напрасно искать что-либо подобное в картине Веласкеса. О чем же она? Догадки, почему возникла эта моментальная фотография мастерской и зачем остановлено мгновение, множатся по сей день. Автопортрет художника? Но его лицо, замкнутое и задумчивое, утопает в тени; это третий план, и к тому же мы не видим и никогда не увидим, над чем он работает. На роль смыслового, связующего центра предлагались и зеркало, которое распахивает пространство картины, вынося действие вовне, и даже палитра в руке художника, так похожая на бант в волосах камеристки (перекличка, предвещающая множественные — а точнее сказать, множащиеся — образы Сальвадора Дали, типологически отчетливо барочные).
Само название картины подталкивает к мысли, что центр — это портрет инфанты и фрейлин. Но как странен этот групповой портрет: персонажи разобщены и неподвижны, они не смотрят друг на друга. Они смотрят на нас. И взгляды — самого художника, карликов, фигуры в дверном проеме и даже отражений в зеркале — так ощутимы, что в конце концов становится непонятно, кто кого разглядывает, мы их или они нас. У Вермеера натурщица лицом к зрителю и художник спиной к нему уютно замыкают гостеприимное пространство картины. У Веласкеса оно распахнуто и тревожно. И хочется сказать — нелюдимо. Странная и необычная для Веласкеса оцепенелость изображенных делает их похожими на кукол или восковые фигуры, а еще вернее — на актеров, замерших в немой сцене.
«Театр в театре» для барокко не новость — вспомним хотя бы устроенную Гамлетом «Ловушку». Но «театр» Веласкеса поразительно нов. Задолго до Мейерхольда он убирает «четвертую стену» — рампу, авансцену, занавес и прочее — и впускает действие в зал, а зрителей — на сцену. Впрочем, занавес у него есть, но в самой глубине сцены — это портьера, которую придерживает дворцовый служащий[5]. В проеме золотится солнечный свет, живой и теплый; этот свет откуда-то из-за кулис — как вестник жизни в дворцовом склепе. Жаль только, мы не знаем, задергивает придворный портьеру или раздвигает.
Кроме людей и собаки в «театре» Веласкеса есть еще один, условно говоря, персонаж, на репродукциях неразличимый. Веласкес (и не только он) вообще плохо репродуцируется, но с «Менинами» дело обстоит просто безнадежно. Большую часть картины занимает темный фон потолка и стен, и, когда медленно скользишь по нему взглядом, охватывает, доводя до головокружения, полуобморочное ощущение, как на краю пропасти. Темнота затягивает. Это не просто вогнутое пространство, искусно созданное великим колористом, но жуткая, всасывающая, космическая пустота. Под ее гибельным куполом и разыгрывается Человеческая Комедия.
Пустота и балаганность изображаемого сквозят у Веласкеса и в других работах, даже в портретах инфанты Маргариты. Портрет инфанты в сер’о-розовом платье (музей Прадо) сказочно красив, но это жутковатая и жестокая сказка, на которую обречен ребенок — некрасивая бледная девочка, лишенная детства, воздуха и жизни. В «Менинах» Веласкес воплотил испанское разочарование — барочное desengaco — в его последнем, фатально замершем облике. Он поистине художник пустоты.
Спокойный и уравновешенный Веласкес, чуждый барочным эффектам и аффектам, — один из самых печальных художников эпохи. При взгляде на его лицо в «Менинах» невольно вспоминаются строки другого «пленника жизни», отдаленного временем, Шарля Бодлера: «Эта жизнь — больница, где все больные одержимы желанием сменить койку. Этому хочется страдать возле печки, того тянет к окну. Мне всегда кажется, что я счастлив там, где меня нет и не будет».
Ортега справедливо замечает: «Что бы Веласкес ни изображал — человека, кувшин, событие, — он всегда пишет портрет, в конечном счете, — портрет мгновения». Но портретируя «бытие на грани небытия», спасая бедные подробности обреченного мира, Веласкес, наверное, первым сместил угол зрения, в фокусе которого прежде был человек; он смотрит на мир издали и видит его совокупно, уравнивая в правах на холсте цветок, кувшин и человеческое лицо — вероятно, поэтому многим он и казался холодным.
Но лица карликов и шутов на его портретах — слабоумные или умудренные — буквально завораживают. Замечательно сказал об этом Ортега-и-Гассет: «Человек меланхолического склада, Веласкес, по словам знавших его людей, не считал, что условно восхваляемые достоинства — красота, сила, богатство — действительно самые ценные. Он был убежден, что за всем этим скрыто поистине глубокое и волнующее достоинство, печальное и драматическое, — простое человеческое существование. Именно его, простое существование стремился передать художник. Вот почему безобразие своих уродцев он превращает в достоинство».
В действительности уродцы были несколько иными, чем у Веласкеса, а положение их — весьма привилегированным. Подобно персидским евнухам, они считались влиятельными царедворцами и, в отличие от упомянутых, слыли отпетыми донжуанами, виновниками распрей, семейных драм и даже убийств из ревности[6]. Но сейчас речь не о прототипах, а о портретах. Веласкес вглядывался в свои модели бестрепетно и беспристрастно. Человек обычно вздрагивает при виде уродства, испытывая жалость или брезгливость, или то и другое вместе. Портреты Веласкеса лишены сантиментов, но в них нет и тени пренебрежения, впрочем, как и сострадания. Есть понимание и подобие родства — то, что в старину называли участием. В пасынках природы, уготованных для потехи, он увидел если не разгадку, то загадку человеческой судьбы, таинственно вычлененной из общего миропорядка. Все люди — более или менее карлики, но каждый — что-то большее, чем он есть.
Одиночество Веласкеса — не исключение. С художниками той эпохи время обошлось довольно жестоко. Надолго был забыт Бах — достаточно сказать, что Моцарту, благодарному ученику Иоганна Кристиана Баха, младшего из сыновей гения, в архивной пыли попались на глаза лишь несколько мотетов великого Иоганна Себастьяна, и то случайно. Гениальный до-мажорный скрипичный концерт был найден на чердаке только в конце XIX в. Еще дольше пылились полуистлевшие рукописи Вивальди и ожили лишь в начале XX в. усилиями итальянских музыкантов. У Шекспира иная судьба, но и его второй родиной стал XX век. Полотна Эль Греко в начале XX в. собиратели обретали за бесценок, как вывески Пиросмани, — но ведь уже разыскивали и обретали.
Европейский XIX и особенно XX век с жадным любопытством, недоброжелательным или, напротив, восторженным, пристально вглядывался в калейдоскоп этого странного времени — барокко — с его пестротой, безвкусицей и гениальными прозрениями. И до сих пор барокко осталось непонятным, непонятым, но притягательно близким, иначе говоря — поразительно живучим.
Рассуждая о той эпохе, всегда вольно или невольно обращаются к новому, т. е. нашему времени. И если можно объяснить, почему барокко с его противоречивостью и неполнотой распахнуто для грядущих наследников, душеприказчиков и расхитителей, то понять, почему именно барокко, пронизав ростками толщу лет, оказалось таким неистребимо выносливым, куда труднее. «Титаны Возрождения» — звучит привычно, правда, и до них были на земле титаны, а после титанов были Афины и тоже быльем поросли. А вот «титаны барокко» живы и посейчас, они рядом и неотступно нас тревожат.
Привычное объяснение — то время было кризисным, а наше и подавно. Хочется, однако, спросить, а случались не кризисные времена? Самым кризисным временем, к примеру, для Афин и для всей Эллады были не персидские войны, а золотой век Перикла; подтверждением — судьбы Фидия, Сократа, самого Перикла и крах Афин. Но мы и по сей день живем и питаемся свершениями этого кратчайшего из золотых веков, его идеями, идеалами и даже заветами.
Барокко, буйный и мятежный семнадцатый век вторгается в наше сегодня своими страхами, и сомнениями, упорством и неутоленностью своих исканий. Этот якобы разрушительный век был веком могучего созидания, трудных раздумий и свершений. И тоже оставил свои заветы.
Один из них, рожденный женственной интуицией Паскаля: «Истина — слишком тонкая материя, а наши инструменты слишком тупы, чтобы прикоснуться к истине, не повредив ее; достигнув истины, они калечат ее и отстраняют». И другой — мужественный девиз Декарта: «Я буду продолжать до тех пор, пока не установлю нечто несомненно истинное или по крайней мере не устраню все сомнения в том, что ничего несомненно истинного не существует».
Гарена Лорка Ф. Поэтический образ у дона Луиса де Гонгоры // Гарсиа Лорка Ф. Об искусстве. М., 1971.
Голе нищее-Кутузов И.Н. Поэтика Гонгоры // Голенищев-Кутузов И.Н. Романские литературы. М. 1975.
Неруда П. Путешествие к сердцу Кеведо // Неруда П. О поэзии и о жизни. Избранная проза. М., 1974.
Менендес Пидаль Р. Избр. произв. М., I960.
Alonso D. La lengua poetica de Gongora. Madrid. 1961.
Orozco E. Introduccion a Gongora. Barcelone, 1994.
Schwarz Lerner L. Metafora у satira en la obra de Quevedo. Madrid, 1983.
- [1] Загадочная строка этого сонета — «Alma a quien todo un Dios prision hasido» — до сих пор остается камнем преткновения для толкователей. Синтаксис исмысл ее неоднозначны, но одно из возможных и самых простых прочтений — «Луша, которой сам Бог был темницей». Мнением, что сонет сугубо куртуазен и Бог — этоАмур, можно смело пренебречь. В зависимости от убеждений одни исследователи признают богоборческий и «сверхчеловеческий» смысл этой строки, другие считают егослишком дерзким и еретическим для того времени и для самого Кеведо — и предлагаютиные толкования. Однако недаром же Кеведо признавался: «Я не знаю, что говорю».
- [2] Вильянуэва делос Инфантес — место погребения Франсиско де Кеведо.
- [3] ‘ Название картины — не испанское. Португальский язык был традиционно привычен при испанском дворе, и стоит напомнить, что уроженец Севильи Диего Родригесде Сильва Веласкес был португальцем. «Meninas» — по-испански «девушки» (т е. фрейлины). При жизни Веласкеса картина называлась «Familia» — тогда это понятиевключало семью и слуг — короче, всех домашних, дом. в данном случае королевский.
- [4] Немка Марибарбола и итальянец Николасито Пертусато
- [5] Управляющий ковровой фабрикой и родственник Веласкеса — Хосе Ньето.
- [6] Приведем трагикомическое описание такого происшествия из переписки орденаиезуитов: «Один из слуг Его Величества был женат на порядочной женщине В их домежил еще карлик Его Величества, коему, поскольку он был близок ко двору, жена этогочеловека дарила всякие подарки. Человек этот был нрава меланхолического и влетах, изаподозрил он, что подарки сделаны не из добрых побуждений. Стали говорить, чтомладшая его дочка похожа на карлика, три дня размышлял над этим и решил мирно уединиться со своей женой В три часа утра он нанес ей несколько ударов кинжалом, послепервого удара испугался и стал стенать, потом же. требуя признаний, перерезал ей горло.. Все сильно жалели жену и винили во всем ее мрачного мужа». (Испанский исторический мемориал Собрание документов, публикуемых Королевской академией истории. Т. V С. 375—376)