«Мы живы, покамест.. .»: Психологический портрет нации
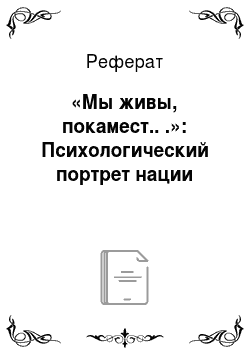
Для уточнения необычности ситуации и в жизни, и в литературе советской эпохи есть смысл обратиться к работе М. Мид «Культура и мир детства», предлагающей оригинальную концепцию типа культур с точки зрения преемственности поколений. Американская исследовательница выделяет три типа культуры: постфигуративная, конфигуративная и префигуративная. Постфигуративная — это такая культура, где «каждое… Читать ещё >
«Мы живы, покамест.. .»: Психологический портрет нации (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
«МЫСЛЬ СЕМЕЙНАЯ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ИМПЕРАТИВ ВОЗВРАЩЕНИЯ
«Сын за отца не отвечает?»: комплекс безотцовщины
Анализ некоторых социокультурных понятий позволяет лишний раз подтвердить гипотезу о «прерывистой непрерывистое™» русской литературы. Понятие «безотцовщины», как его принято воспринимать в литературе советской эпохи, в литературе классической, по сути дела, отсутствует. Начиная с «Поучения» Владимира Мономаха, литература была озабочена проблемой духовной преемственности, духовного отцовства. В XIX веке утрата и обретение нравственного родства и взаимопонимания приобретают и социально-историческую, и религиозно-онтологическую перспективу. Достаточно вспомнить романы И. С. Тургенева и, в особенности, Ф. М. Достоевского. Без осознания духовной близости с отцом (что актуализирует весь религиозно-этический комплекс: сострадание, милосердие, раскаяние, покаяние и т. д.) оказывается невозможным процесс самосознания и самопознания. Проблема отцовства и безотцовщины явно тяготеет к сакральным отношениям Бога-Отца и Бога-Сына. Даже намеренное игнорирование этой ситуации (в произведениях писателей-демократов) не переводит ее в иную плоскость.
Но в силу того, что движение национальной жизни в XX веке происходило путем катастроф и сломов, резких изменений в рамках жизни одного поколения, литература сконцентрировала свое внимание на «мысли семейной» в весьма своеобразном аспекте. Для XX века прототипичным становится не роман «Анна Каренина», но роман «Отцы и дети», порой — «Тарас Бульба».
Для уточнения необычности ситуации и в жизни, и в литературе советской эпохи есть смысл обратиться к работе М. Мид «Культура и мир детства», предлагающей оригинальную концепцию типа культур с точки зрения преемственности поколений. Американская исследовательница выделяет три типа культуры: постфигуративная, конфигуративная и префигуративная. Постфигуративная — это такая культура, где «каждое изменение протекает настолько медленно и незаметно, что деды, держа в руках новорожденных внуков, не могут представить для них никакого иного будущего, отличного от их собственного прошлого»1. Конфигуративная — это культура, в которой «преобладающей моделью поведения для людей, принадлежащих к данному обществу, оказывается поведение их современников»2. Префигуративная культура — это культура, в которой взрослые учатся у молодых: «Еще совсем недавно старшие могли говорить: «Послушай, я был молодым, а ты никогда не был старым». Но сегодня молодые могут им ответить: «Ты никогда не был молодым в мире, где молод я, и никогда им не будешь»3.
В случае преобладания префигуративпой культуры в обществе с безусловностью намечается конфликт между поколениями. Префигуративная ситуация в судьбе России XX века и, как следствие, в литературе складывалась, по крайней мере, трижды. Первый раз в результате революции и Гражданской войны. Это поколение, вошедшее в жизнь в 1920—1930;е годы. Тогда была совершена попытка подмены кровного отцовства государственным. Феномен Павлика Морозова — крайний, а потому весьма показательный случай: значимость его даже не в поступке ребенка, а в канонизации его обществом. В 1930;е годы утверждается примат государственного над индивидуальным, законность растворения «я» в «мы», что, в частности, проявляет себя в строгой иерархии принадлежности человека сначала обществу, а уж потом родным: «Мужеством, доблестью, силой / Будешь ты многих славней, / Сын моей родины милой, / Мой и подруги моей» (А. Твардовский). Так, например, в это время берет начало ложно-двойственное определение Твардовским своего происхождения, официально выразившееся в том, что в автобиографии, изданной в миллионных тиражах, он — «сын кузнеца», а в одном экземпляре учетной карточки коммуниста — «сын кулака». С горьким сарказмом вспомнит Твардовский наставления одного из «лучших учеников товарища Сталина», впоследствии разоблаченного как «врага народа», а спустя десятилетия посмертно реабилитированного, —слова, сказанные молодому поэту в 1931 году: «Бывают такие времена, когда нужно выбирать между папой-мамой и революцией»4.
Второй раз префигуративная ситуация актуализируется в результате массовых репрессий 1930;х и Великой Отечественной войны. Это поколение «оттепели» и позднего шестидесятничества. Третья префигуративная ситуация («ты никогда не был молодым в мире, где молод я») складывается на наших глазах и является следствием крупных изменений в обществе, начавшихся в середине 1980;х годов. Постсоветская эпоха создает новый тип отношений «отцов и детей» (поколение конца 1990;х гг.), который выражается в постоянном эмоциональном восклицании: «Они совсем другие!» Отсутствие диалога между поколениями, столкнувшимися на грани веков («я их не понимаю» — реплика старших, «они меня не понимают» — реплика младших), очевидно.
В 1920—1930;е годы префигуративный конфликт, явившись основой сюжетных коллизий многих произведений, нередко носил трагический характер смертельного противоборства отца и сына. Один из ярчайших примеров — рассказ «Родинка» из «Донских рассказов» М. Шолохова. Уже в этом раннем произведении очевидны общегуманистические истоки позиции писателя. Во-первых, убийство сына свершается по отцовскому неведению, оно — результат трагического стечения обстоятельств, спровоцированных самой сутью гражданской войны, когда «браг шел на брага», «отец на сына». Во-вторых, чрезвычайно важен момент узнавания/прозрения: отец осознает весь ужас случившегося по «с голубиное яйцо» родимому пятну. Родинка, родимый, родной — своя кровь, безусловный знак принадлежности к своему роду, корню, знак, который не может быть смыт даже кровыо. Наконец, третье: гибель сына заставляет атамана в одно мгновение забыть о борьбе за ту идею, которая и привела его к убийству, заставляет отца понять, что его существование в этом мире уже бессмысленно:
Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:
— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя…
Чернея, крикнул:
— Да скажи же хоть слово!.. Как же эго, а?
Упал, заглядывая в меркнувшие глаза; веки, кровыо залитые, приподнимая, тряс безвольное, податливое тело… Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.
К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот…5
В силу своей особой тяжести литература использовала такой крайний вариант разрыва связей поколений, как убийство, преимущественно только в 1920;е годы («Всадники» Яновского, «Конармия» Бабеля). В нору внешней стабилизации новой государственности, появления о п енка ретроспективное™ в описании кровавых событий революции и Гражданской войны, а также обращения к повествованию о «строительстве нового общества» конфликт «отцы и дети» становился фоновым, периферийным. Точнее, в 1930—1950;е годы происходит своеобразная подмена: отцом становится не отец по крови, но отец по идее — коллектив, общество, государство, вождь. В это время на авансцену легального литературного процесса выходит жанр, обретший в советскую эпоху новую жизнь — жанр романа воспитания: «Человек меняет кожу» Б. Ясенского, «Рожденные бурей» и «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Педагогическая поэма».
А. Макаренко. Не случайно, что в переводе на один из иностранных языков в названии шолоховского романа актуализируется момент изменения, «перепахивания» человека при новом типе жизнеустройства: «Целина поднятых душ». Элементы жанра романа воспитания сильны и в других произведениях этих лет: от «Разгрома», «Чапаева» до «Хождения по мукам». Пафос большинства названных книг очевиден: перевоспитание человека в ходе революционного преобразования мира. Морозка («Разгром») от человека, способного на воровство, превращается в личность, готовую пожертвовать собственной жизнью во имя спасения своих товарищей. Сброд малолетних преступников — в слаженный, продуктивно функционирующий коллектив детской колонии имени А. М. Горького («Педагогическая поэма»). Стихийный бунтарь за справедливость — в дисциплинированного партийца, сумевшего преодолеть свой физический недуг ради стремления быть «полезным бойцом» нового общества («Как закалялась сталь»). Сомневающиеся и мечущиеся в революции Катя и Даша Булавины, Вадим Рощин и Иван Телегин волею автора в финале романа «Хождение по мукам» предстают людьми, обретшими смысл жизни, в общем порыве приветствующими ленинский план ГОЭЛРО.
Однако необходимо отметить, что чуткая русская литература в своем неофициальном изводе не могла не отреагировать на далеко идущие для нации последствия ситуации «подмены». Достаточно вспомнить ее саркастическое пародирование в «Собачьем сердце» М. Булгакова, где Швондер изображен как представитель нового государства, берущий на себя миссию воспитания «нового человека» — Шарикова.
Есть смысл сказать и о драматической судьбе таких книг, как «Педагогическая поэма» и «Как закалялась сталь». Одна стала своеобразной инструкцией для советской педагогики, другая — каноническим текстом соцреализма. Оба произведения открыто биографичны, по-своему правдивы, как могут быть правдивы книги, в основу которых положен неповторимый индивидуальный опыт. Но с течением времени романы усилиями официальной критики были превращены в эталоны, что уже в 1960;е годы стало вызывать негативное отношение и к книгам, и к их авторам. Точно, но поводу «Как закалялась сталь» заметил Твардовский: «По этому роману можно учиться жить, но учиться писать по нему — нельзя». Не нужно забывать и о том, что А. Макаренко четко осознавал специфику объекта своих педагогических новаций — малолетние преступники, лишенные дома, семьи, отцов и матерей — и отнюдь не предполагал, что его методы будут применяться при воспитании нескольких поколений советских детей: «пение хором» (М. Булгаков), хождение в столовую строем, абсолютная зависимость личности от «отряда» (= коллектива).
Шестидесятничество, принципиально отказавшееся от наиболее жестких идеологических доктрин советской государственности, поворачивает проблему «отцов и детей» своей стороной.
Так, любя А. Твардовского как поэта и как человека и пытаясь обозначить нити психико-социальной близости с ним, Ю. Трифонов выходит к размышлениям о комплексе нескольких поколений советских людей — комплексе безотцовщины. Сыновья теряли своих отцов на Гражданской, Отечественной войнах, теряли или, что страшнее, были вынуждены отказываться от них в годы Великого перелома, репрессий 1930;х годов. «И тут я впервые понял, — пишет Ю. Трифонов, — что-то, что случилось с его отцом и что случилось с моим, — части единого целого российской трагедии. Это связано, слитно, это по какому-то высшему счету одно и то же (выделено автором. — Т С, А. Я.)»6.
Один из самых сильных, открыто-личностных фрагментов мемуарной книги «Записки соседа» — описание горя и раскаяния Твардовского:
Он говорил, как отец прощался, как его уводили… И в голосе его была открытая боль, что меня поразило, ведь он старше меня и разлука произошла давно, двадцать лет назад, а у меня тринадцать лет назад, но я думал об отце гораздо спокойней. Боли не было, засохла и очерствела рана. А он плакал.
— Наделали дел, бог ты мой! Старика, который всю жизнь трудился, — шептал еле слышно. — Помню его руки, рабочие, на столе — в мослах, в мозолях…
О чем он плакал? О безвозвратном детстве? О судьбе старика, которого он любил? Или о своей собственной судьбе, столь разительно отличной от судьбы отца? С юных лет слава, признание, награды, и все за то, что в талантливых стихах воспел то самое, что сгубило отца. Он плакал, не замечая меня, наверно, и забыл, что сижу рядом. А я подумал: мы оба дети репрессированных. И пусть он наверху, на Олимпе, а я внизу в жалкоте, но некая печать отверженности лежит на нас обоих. От этого вовсе не было горько, наоборот — было как-то покойно, тепло7.
Комплекс «безотцовщины» — одна из важнейших составляющих художественного сознания «оттепели» и, естественно, один из ведущих мотивов литературы «Нового мира»: от «Тишины» Ю. Бондарева до «Белого парохода» Ч. Айтматова (номер с этой повестью — последний, подписанный Твардовским), от рассказов Ф. Искандера до прозы Ю. Трифонова.
Комплекс «безотцовщины» пронизал всю культуру «оттепели» особой, болевой, порой безысходной интонацией. Вспомним знаменитую сцену кинофильма 1960;х «Мне 20 лег», в которой происходит воображаемый разговор сына с отцом, погибшим на войне:
- — Я хотел бы тогда бежать рядом, — сказал Сергей.
- — Не надо…
- — А что надо?
- — Жить.
- — Да. А как? — сказал Сергей.
Солдат встал, оглянулся. Двое других ждали его у дверей блиндажа.
- — Сколько тебе лет? — спросил солдат.
- — Двадцать три.
- — А мне двадцать один. Как я могу тебе советовать?8
Такой же, исполненный напряженного драматизма внутренний диалог, и это становится потаенным сюжетом книги, ведет со своим отцом Ю. Трифонов в документальной повести «Отблеск костра». Те же вопросы о том, как жить, постоянно задает своему отцу Мальчик из «Белого парохода». Отцу и отцовскому клану посвящена мемуарная книга Б. Окуджавы «Несостоявшийся театр».
Только в одном случае понятие безотцовщины не связывалось со своеобразным комплексом неполноценности — если отец погиб на войне: «Вдруг его впервые обожгла, заставила сжать зубы простая, ясная мысль. Никогда раньше не приходила она в голову. Здесь, на его родине даже кладбище только женское. Он вдруг вспомнил, что в его родословной ни одного мужчины нет на этом холме. А может быть, придет и его черед? Идти дорогой мужских предков, к чужим неродимым холмам?»9, — вопрошает, прозревая, герой рассказа В. Белова «На Россганном холме». Гибель отца на войне трагична, но и величественна одновременно, она наполняет сердце сына гордостью, дает ощущение устойчивости, значимости своего существования на земле.
Но в 1960;е годы мотив безотцовщины сопрягается с неведомым до этого отечественной литературе комплексом «виноватого без вины», стыда, тайны, предательства.
Так сложилось в истории литературы советской эпохи, что многие ее творцы были сыновьями «без вины виноватых»: А. Твардовский, Ю. Трифонов, Ч. Айтматов, Б. Окуджава, Ф. Искандер, В. Аксенов. Образа отца, наставника, мудрого советчика, сопровождающего сына, «выпускающего» его в жизнь, нет в произведениях этих авторов (государство в этой роли было уже решительно отвергнуто). Но есть сильнейший мотив памяти об отце. Герой с особым, тайным грузом памяти буквально выброшен в этот мир и должен все решать сам, сам делать выбор, сообразуясь с интуитивными понятиями долга, совести, доброты. Врожденные, что подчеркивается почти всеми художниками, человеческие черты проходят испытание миром, который живет не по человеческим законам. Названной коллизией движимы такие разные по своим художественным устремлениям произведения, как «Дом на набережной» Ю. Трифонова, «Дни и ночи Чика» Ф. Искандера, «Ранние журавли» Ч. Айтматова, «Последний поклон» В. Астафьева, «исповедальная проза» «Юности» (В. Аксенов, А. Кузнецов, А. Гладилин). Безусловно, высшей точкой этого ряда произведений стала повесть Ч. Айтматова «Белый пароход» с ее трагическим отказом от мира, в котором невозможна сказка с возвращением, через смерть, к своему отцу, к преданиям и душе родного народа.
Прочерченное выше художественное осмысление проблемы преемственности поколений, связи/разрыва с отчей семьей, домом, с одной стороны, дало яркое открытие шестидесятников — появление «мятущегося», «инфантильного» героя, героя с угнетенным, подчас раздвоенным сознанием, с другой — соотносимо с важнейшей художественной рефлексией второй половины XX века о распаде «связи времен», о разрушении естественного, нормального потока жизни.
В одном из интервью Ф. Искандер на вопрос, почему у него нет произведения, в котором наконец-то встретились бы два его любимых героя — дядюшка Сандро и Чик, ведь они явно родственники, ответил, что боится это делать, поскольку не знает, кто кого перехитрит. Думается, в данном случае автор лукавит так же, как и его герои. Встреча Сандро и Чика на площадке одного текста невозможна, ибо они играют с социумом по разным правилам игры. Сандро — опираясь на трезвую мудрость нации, Чик — на наивнореалистическую правоту детского сознания. Однако и того, и другого социум частенько «переигрывает», заставляя поступать по своим правилам. Единственный, кто мог бы быть связующим звеном между любимыми героями писателя, — это сумасшедший дядя Коля, отвечающий (вспомним формулу Довлатова) на абсурд жизни еще большим абсурдом.
Возникающая в России XX века префигуративная ситуация каждый раз разрешалась по-своему. В 1920;е годы конфликт «отцов и детей» буквально переносился па поле брани и разрешался в смертельной схватке. В 1930—1950;е была предпринята попытка внедрения «двойного отцовства» — кровное подменялось государственным. В 1960—1980;е годы литература была занята рефлексией по поводу результатов отказа от кровного, родного, человеческого, отказа, который в значительной степени изменил психологический портрет нации и завершился, в конце концов, крахом самой государственности.