«Мы живы, покамест есть прощенье.. .»: Психологический портрет личности
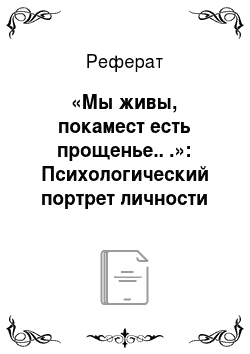
Обморок от сильного эмоционального напряжения как сигнал проявления запредельных человеческих чувств — факт беспрецедентный для литературы XX века. А обморок мужчины, да еще, как мы помним, физика, коммуниста — для отечественной словесности явление фактически уникальное. Скорее всего, А. Платонов решается на этот сильный художественный прием для шоковой остановки сознания читателя, для фиксации… Читать ещё >
«Мы живы, покамест есть прощенье.. .»: Психологический портрет личности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
СЕРДЦЕ МАТЕРИ В РАССКАЗЕ А. ПЛАТОНОВА «ТРЕТИЙ СЫН» И ЦИКЛЕ А. ТВАРДОВСКОГО «ПАМЯТИ МАТЕРИ».
Ситуация завершенности историко-литературного процесса XX века, установление все большей дистанцированное™ от материала исследования позволяют со всей определенностью сказать, что тема выбора между старой и новой верой, традиционными основами жизнеустройства, личного поведения и утопическими экспериментами советской эпохи стала в отечественной словесности магистральной. Открывшийся аспект дает возможность сопоставить и сблизить художественные миры писателей, казалось бы, весьма далеких друг другу и никогда открыто не пересекавшихся.
Ныне очевидно, что и А. Платонов, и А. Твардовский были «запрограммированы» как советский прозаик и советский поэт. Этому способствовало многое: условия воспитания, характер социальной среды (для идеологических мифов социализма были очень важными «правильные» биографические «ключи» писателей: сын слесаря железнодорожных мастерских и сын кузнеца — так в офи-
циалъной биографии Твардовского), максимализм юности, с готовностью отвергающий старые истины и с восторгом принимающий новые, особенности литературного контекста, в котором утверждались оба писателя. И Платонов, и Твардовский были буквально «обречены» на родство, родство с основными интенциями нового времени.
В одной из ранних статей Платонова читаем: «Революция — живой стройный организм. Ибо во все, что человек ни делает, он влагает свой образ, свою душу, свое неумирающее желание жить… Революция — самый большой и самый настоящий человек на земле»2. Нет причин сомневаться и в искренности Твардовского, писавшего в «Автобиографии»: «Период этот (начало 1930;х годов. — Т. С., А. П.) — может быть, самый решающий и значительный в моей литературной судьбе. Это были годы великого переустройства деревни на основе коллективизации, и это время явилось для меня тем же, чем для более старшего поколения — Октябрьская революция и Гражданская война»3.
Вслед за своим героем, философом-мастером Фомой Пуховым, А. Платонов мог повторить: «Пойдем, порассуждаем маленько… Мы теперь с тобой не объекты, а субъекты, будь они прокляты. Говорю, а сам своего почти не понимаю!»4 Транслируя эту фразу из социальной плоскости в литературную, можно сказать, что (воспользуемся клише советской эпохи) «представители рабочего класса и беднейшего крестьянства», вышедшие, по выражению А. Твардовского, «из той избы, из той зимы», если и были объектом художественного осмысления в веке XIX, то в ХХ-м сами взялись за перо.
Результаты оказались непредсказуемыми.
И Платонов, и Твардовский обманули или, скажем мягче, не оправдали ожидания ортодоксов времени, пленниками которого (подчеркнем — добровольными и искренними) оба писателя были на определенных этапах своего творческого развития. Парадоксальность ситуации заключается в том, что именно воскрешение памяти своих истоков, своего родства с прошлым заставило писателей усомниться в правильности избранного пути. «Пришло гак быстро время пересчета», — с горьким изумлением заметит Твардовский, ужасаясь тому, как долго он жил с «запретом на мысли». Платонов с не меньшей горечью сформулирует: «В революции выиграла „боковая сила“, потому что основные уничтожили друг друга»5. Столь разным художникам присущ одновекторный путь развития, драматичный путь «прощания с утопией» (В. Акаткин).
Выбор конкретных произведений для сопоставительного анализа обусловлен следующими соображениями.
«Третий сын» и «Памяти матери» — произведения периода художнической и мировоззренческой зрелости писателей. Рассказ «Третий сын» (1936) написан Платоновым — создателем «Города Градова», «Сокровенного человека», «Котлована», «Чевенгура», «Счастливой Москвы», то есть самых крупных и, может быть, самых значительных его творений. Цикл «Памяти матери» (1965) создавался в общем потоке книги «Из лирики этих лет», смысловым центром которой он стал, и параллельно с последней поэмой «По праву памяти». «Памяти матери» — одно из вершинных явлений того, что определяет феномен «позднего Твардовского».
Особая, на грани этического и эстетического риска, тема обоих произведений, тема, на обращение к которой решается далеко не каждый художник, — смерть и похороны матери.
Очевидная разность, если не противоположность творческого поведения писателей (стремление к уединенности Платонова и постоянная потребность в общественно-литературной деятельности Твардовского), характера художественной индивидуальности, особенно в ее стилевом воплощении («едкий стиль царской водки» одного и «простой стиль» другого), наконец, в данном случае и жанровая неоднородность (рассказ и лирический цикл) не снимают, а подчеркивают уникальную однотипность творческого волеизъявления, присущую и «Третьему сыну», и «Памяти матери».
Оба произведения могут быть прочитаны как «текст прозрения». Точнее, «Третий сын» представляет собой феноменологию прозрения, причем, в соответствии с жанровым законом, переворот в сознании испытывает объективированный герой. В «Памяти матери» явлена ситуация кризиса и воскрешения сознания путем традиционного для лирики анализа мирочувствования субъективного «я». И в рассказе, и в лирическом цикле предметом художественного осмысления становится один тип сознания, который условно можно обозначить как феномен сознания «третьего сына». Важно, что к необходимости этого осмысления прозаик и поэт пришли с исходно различных позиций. Уже в 1930;е годы Платонов создает типологию героев, «обратную» официальной, Твардовский в эти же годы сам является носителем сознания «третьего сына».
В предвоенное десятилетие А. Платонов создает целый ряд образов представителей молодого поколения, которые уже не имеют ни национальных корней, ни памяти — никакого груза прошлого, уже родившихся с новой верой, новым мировоззрением, новым пониманием предназначения человека на земле. В обрисовке этого типа героя (Чагатаев из повести «Джан», героиня «Песчаной учительницы», Саша Дванов, Москва Ивановна Честнова, третий сын из одноименного рассказа и т. д.) особенно очевидно проявились не только внутренняя оппозиционность писателя, но и его способность к трагическому пророчеству: поколение, предназначенное для создания совершенного государства, становится жертвой утопической и, следовательно, тупиковой идеи.
В своих ранних поэмах и «Сельской хронике» А. Твардовский являет поэтически оформленный тип сознания, принявшего «готовые истины», поверившего в «математически безошибочное счастье» (Е. Замятин). Отсюда — мажорная, праздничная атмосфера ранних стихов поэта, отсюда — тяготение к ролевой лирике, рассказу в стихах, стихотворному сказу, где авторское сознание сливается с сознанием героя, ибо автор — «загорьевский парень, советский поэт», отсюда — превалирование легендарного, мифологического над реальным. В поздней поэтической рефлексии Твардовский акцентирует этот психологический эффект бездумного доверия и безусловной веры:
Сомненья дух нам был неведом;
Мы с тем управимся добром И за отцов своих и дедов Еще вдобавок доберем.
Мы повторяли, что напасти Нам никакие нипочем, Но сами ждали только счастья, —.
Тому был возраст обучен (Т. 3. С. 187).
Добавим: не только возраст, тому обучало и время. В «Рабочих тетрадях» 1950;х годов Твардовский прямо пишет о «некой мудрости», которая была в ходу — иметь «мужество видеть положительное» и необходимость делать выбор «между мамой-папой» и общественным служением6.
Но — подчеркнем особо этот момент — художественное сознание Твардовского и в 1930;е годы не было целостным и однолинейным, о чем свидетельствуют некоторые страницы «Страны Муравии», «семейный цикл» поэта 1930;х годов и, прежде всего, стихотворение «Матери» (1937):
И первый шум листвы еще неполной, И след зеленый по росе зернистой, И одинокий стук валька на речке, И грустный запах молодого сена, И отголосок поздней бабьей песни, И просто небо, голубое небо —.
Мне всякий раз тебя напоминает (Т. 1. С. 149).
Все необычно в этом стихотворении для «официального» лица поэзии Твардовского тех лет. Прежде всего, это полная открытость лирического «я», что редко позволял себе поэт в предвоенное десятилетие, уходя от специфической лирической интонации. Здесь детали пейзажа, приметы деревенской жизни вырастают в лирический монолог героя, исполненный напряженного драматизма. Необычен и выразителен белый стих, поскольку в 1930;е поэт чаще всего использовал точные рифмы, преимущественно перекрестные, во многом подчеркивающие плясовой, частушечный ритм стиха, усиленный характерным для поэта тех лет хореем. В данном случае использован усеченный шестистопный ямб со спондеем на первой стопе. Анафористическое, перечислительное «и» предстает одновременно и сигналом фольклорной традиции, и способом усиления интонации трудного воспоминания, горестного размышления об ушедшем. Твардовский прост и скуп в выборе языковых средств. На лексическом уровне «работают» главным образом определения. В первых строчках возникают точные, хотя и весьма традиционные эпитеты: «первый шум», «листвы неполной», «след зернистый», усиленные нарастающей семантикой тоски, одиночества, утраты: «одинокий стук», «грустный запах», «поздней бабьей песни». Совершенно особую, «смиренную», неброскую смысловую нагрузку несет традиционное словосочетание «голубое небо», обычность которого подчеркивается истинно «Твардовским» наречием «просто». Незыблемы и вечны здесь обыкновенные человеческие чувства (память родства, любовь к матери и тоска по ней), как незыблемо и вечно «просто небо, голубое небо».
Стихотворение «Матери» находится вне контекста советской официальной литературы с ее пафосом разрыва кровных, личных уз ради общественного долга. Но подчеркнем, что Твардовский не счел возможным опубликовать его в год создания. Однако найденные поэтом в годы первой разлуки с матерью интонация и пафос через тридцать лет фактически полностью были перенесены на способ художественного постижения последней бесповоротной разлуки с ней.
Обращенностью к одному явлению — феномену сознания «третьего сына» — объясняется уникальная идентичность художественной логики одноименного рассказа и лирического цикла «Памяти матери». Оба произведения, и это естественно, начинаются с известия о смерти матери. Но в данном случае важно сходство двух принципиальных моментов.
Во-первых, акцентируется внимание на том, что сыновья уже давно вне отчего дома, вне семьи и родной природы. Они в «большом мире», живут своей жизнью, вне соотнесенности с памятью родства: «И вдруг назовет телеграмма / Для самой последней разлуки / Ту старую бабушку мамой» (Т. 3. С. 156); «В областном городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики шесть телеграмм однообразного содержания: „Мать умерла приезжай отец“» (С. 251).
Во-вторых, уже в зачинах обоих произведений заявлен мотив не только отчуждения, но и живущего подспудно чувства родства. Тема разрыва семейных уз постоянно сопровождается, «подсвечивается» и корректируется темой поколений, их «соседства», пока не узнанного.
Мотив одиночества/родства — один из самых органичных для платоновского мира, в «Третьем сыне» он получает особую аранжировку. Как и многие произведения Платонова, рассказ психологически дискомфортен и первоначально вызывает резко негативную реакцию своей эпатирующей неправильностью, открытой странностью и одновременно — загадочностью, парадоксальностью, своей завораживающей тайной.
Рассказ буквально насыщен редким платоновским даром на грани эстетически возможного совмещать несовместимое. Но при данном содержании этот дар писателя кажется почти кощунственным. От фразы «Мать ждала на столе уже четвертый день» (С. 252) до финального аккорда: «он [старик] теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже» (С. 256). Состояние психологического дискомфорта, эмоционального отторжения постоянно провоцируется писателем на протяжении всего рассказа. Э го и описание немыслимого в своем цинизме и бездумии веселья, детской возни сыновей возле гроба умершей матери. Это и открыто профанированный обряд отпевания. Это и более чем странное утешение девочкой-внучкой своего деда: «Ты по старухе скучаешь? — говорила она. — Лучше не плачь: ты старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать» (С. 255). И так вплоть до внезапного и не объясняемого автором открыто обморока третьего сына.
На первый взгляд, основной принцип конструирования семантического поля рассказа — принцип конфликта, обнаженного противоречия. «Семантическая сшибка» заявлена уже в прологовом фрагменте текста: «В областном городе умерла старуха» и «Мать умерла приезжай отец». И на протяжении всего рассказа на одном полюсе при обозначении героини — лексика «жизни»: мать, жена, бабушка, на другом — «смерти» или перехода в нее: старуха, тело, труп. Резкая антитетичность продолжена и при номинации приехавших сыновей. С одной стороны, Платонов говорит о них как о сыновьях, братьях, детях, с другой — предлагает социальную и даже партийную паспортизацию: моряки, командиры кораблей, московский артист, физик, коммунист, агроном, начальник цеха аэропланного завода, наконец, представители нового мира.
Тот же конфликт разрыва, разлуки и «непроговариваемого» родства заявлен и в открывающем цикл стихотворении А. Твардовского «Прощаемся мы с матерями…» На первом плане в нем — описание первой разлуки с матерью, воспринимаемой сыном облегченно, бездумно, что становится поводом для авторской иронии над собой прежним, давешним:
Прощаемся мы с матерями Задолго до крайнего срока —.
Еще в нашей юности ранней, Еще у родного порога;
Когда нам платочки, носочки Уложат их добрые руки, А мы, опасаясь отсрочки, К назначенной рвемся разлуке (Т. 3. С. 156).
Однако ситуация «назначенной разлуки», к которой «рвется» молодое сознание, как путами оплетена в первом стихотворении цикла лексикой родства и связи поколений: мать, воля сыновья, девчонки, невестки, старая бабушка.
Мотив связи/родства поколений углубляется в основной части рассказа «Третий сын» и во втором стихотворении лирического цикла «Памяти матери» введением мощного социального пласта, открыто проявленного контекста времени, одного и того же для обоих произведений — времени 1930;х годов.
Стихотворение «В краю, куда их вывезли гуртом…», одном из самых трагичных творений Твардовского, уже в первой строчке произнесен приговор поэта режиму, низведшему народ до нечеловеческого состояния: «вывезли гуртом». Стихотворение, в соответствии с болевой для поэта темой, выстроено определенно и жестко. В нем существуют, открыто входя в конфликт; три пространственно-временных сферы.
Край, куда «вывезли гуртом» отчую семью, дан одновременно в оценке поэта и оценочных воспоминаниях матери. Доминантным здесь является не только чувство неприятия, отчуждения, но ощущение нового края как земли, не предназначенной для человеческого существования: «На севере, тайгою запертом, / Всего там было — холода и голода», «Кругом леса без края и конца — / Что видит глаз— глухие— нелюдимые» (Т. 3. С. 157). В этом краю жизнь равна смерти, семья «верховной волей» оторвана от родной земли и брошена в мир чужой, кромешный, где даже «было кладбище немилое»:
А на погосте том — ни деревца, Ни даже тебе прутика единого.
Так-сяк, не в ряд нарытая земля Меж вековыми пнями да корягами, И хоть бы где подальше от жилья, А го — могилки сразу за бараками (Т. 3. С. 157).
Не случайно в четвертом заключительном стихотворении Твардовский возвращается к той же характеристике новой земли, в которой главными являются оппозиции «милый/нелюдимый», «родной/ чужой», «жизнь/смерть»: «В том краю леса темнее, / Зимы дольше и лютей, / Даже снег визжал больнее / Под полозьями саней» (Т. 3. С. 159).
Вторая пространственно-временная сфера полностью выстраивается в рамках воспоминаний матери: «…но непременно вспоминала мать…», «И ей, бывало, виделось во сне…»; «— Проснусь, проснусь, — рассказывала мать…». Эго воспоминания-сны и снывоспоминания о родном доме, в котором и смерть — продолжение жизни (данный мотив станет основным в заключительном стихотворении цикла):
И ей, бывало, виделись во сне Не столько дом и двор со всеми справами, А взгорок тот в родимой стороне С крестами под березами кудрявыми.
Такая-то краса и благодать, Вдали большак, дымит пыльца дорожная.
— Проснусь, проснусь, — рассказывала мать, —.
А за стеною — кладбище таежное… (Т. 3. С. 157).
Уникальна точность, с которой Твардовский вскрывает основное в сознании матери и, следовательно, в народном сознании: терпение, смирение, покорную готовность принять все самые жестокие удары судьбы и одновременно — удивительное внутреннее достоинство, не позволяющее забыть главное и подлинное — истинную красу и благодать жизни. Единственное «нет» матери — нежелание быть похороненной в чужой земле: «…не хотелось там ей помирать, — / Уж очень было кладбище немилое». Но и этому не суждено было сбыться:
Теперь над ней березы, хоть не те, Что снились за тайгою чужедальнею.
Досталось прописаться в тесноте На вечную квартиру коммунальную, И не в обиде… (Т. 3. С. 157).
Однажды Твардовский заметил, что самое интересное, что есть в нем как поэте, — это его синтаксис. В данном случае мы наблюдаем анжанбеман — сильный художественный прием, ставящий логическую точку в характеристике материнского (= народного) восприятия судьбы, жизни и смерти: «И не в обиде», — одновременно предваряющий и авторскую интенцию финальных горьких строк. Авторское сознание полностью реализовано в пространственно-временных координатах «теперь» и «квартиры коммунальной», то есть «сейчас», после смерти матери, и в пространстве, сведенном к собственной последней точке бытия. Так наступает первое трагическое прозрение «третьего сына», оставшегося без матери, без дома, без родной земли:
И не в обиде. И не все ль равно, Какою метой вечность сверху мечена.
А тех берез кудрявых — их давно На свете нету. Сниться больше нечему (Т. 3. С. 157).
А. Платонов еще жестче в изображении наметившегося разрыва поколений. Усугубляя ситуацию, он предлагает несколько вариантов прощания с матерью, и все они, за исключением, возможно, последнего, вызывают ощущение неистинного, неподлинного прощания. Первое происходит после того, как все шестеро сыновей приезжают в отчий дом, дом детства для похорон матери: «Сыновья молча плакали редкими, задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль» (С. 252). Однако подобающая ситуации торжественно-печальная нота повествования тут же сменяется подробным перечислением того, каких успехов достигли братья в социальной иерархии нового общества, что переводит текст в иной, чуть ли не бытовой план: «Двое из них были моряками — командирами кораблей, один — московским артистом, один, у кого была дочка, — физиком, коммунистом, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство» (С. 252).
При первом прощании сыновья плачут не по матери, а по себе, по своему ушедшему детству и страшатся своей вдруг открывшейся незащищенности перед жизнью: «Теперь мать превратилась в труп, она больше никого не могла любить и лежала, как равнодушная чужая старуха» (С. 252).
Второе неудачное прощание связано с попыткой возвращения к традициям православного отпевания. Автор подчеркивает, что старуха не была особо религиозна, но «не хотела расставаться с жизнью без торжества и без памяти», отсюда ее предсмертная просьба о панихиде. Ни старик, ни сыновья, верящие уже в иного Бога, не смогли проститься с матерью так, как она просила. Доминантная атмосфера этого фрагмента текста — атмосфера неудобства, неловкости и стыда: «Они [сыновья] неподвижно, в затылок друг другу стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически пел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился…» (С. 253). Сцена завершается прямой и жесткой авторской оценкой-определением: «Это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении» (С. 253).
Третья попытка прощания, условно обозначаемая нами как «веселие у гроба», может быть рассмотрена как тайная апелляция к языческому восприятию смерти. Смех, шумные разговоры, увлеченные рассказы о жизненных успехах, схватки, детская возня, наконец, пение и громкий хохот сыновей — проявление инстинкта жизни перед страхом смерти. Не случайно у некоторых народов похороны сопровождаются бегом и пляской, не случайно, видимо, и русские поминки нередко заканчиваются застольным пением.
Но «веселие у гроба» в платоновском рассказе резко обрывается обмороком третьего сына и страшным криком его дочери.
Эти несостоявшиеся прощания осуществляются в замкнутом пространстве дома, в котором действующие лица не имеют имен собственных, но число их строго определено и неоднократно арифметически артикулировано: одна старуха, одна шестилетняя девочка, один семидесятилетний старик, шесть сыновей от двадцати до сорока лет. Магия цифр — отдельный самостоятельный пласт рассказа: шесть сыновей, их было шесть человек, седьмым был отец, все шестеро, и седьмой отец, старший сын, младший сын, шесть постелей, пять сыновей и третий сын, могучая полдюжина, один из них, третий по старшинству и т. д. Наконец, именно «цифровое» определение человеческого статуса вынесено в одну из самых сильных художественных позиций — в название рассказа.
Возникает соблазн перевода рассказа из философского в социальный план: цифры, номера, простая арифметика заменяют имена, лица. Текстовый материал, безусловно, подталкивает на такую трактовку. Сыновья имеют характерные и престижные для периода «трудового энтузиазма» профессии, они утратили старую веру и казенно-официальным караулом стоят у гроба своей матери. В доме, где господствует смерть, старший сын «с увлечением, с восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических пропеллерах». Кажется, открыто определена авторская оценка поведения героев: «и голос его звучал сыто и мощно, чувствовались его здоровые, вовремя отремонтированные зубы и красная гортань» (С. 254). В данном случае использован саркастический прием, который был обретен писателем еще в «Котловане» при обличении той пустоты в сердце человека, принявшего «готовое счастье из радиотарелки», что характерна для всех платоновских «карьеристов от революции».
Однако уже магия цифр открывает иные, нежели только социально-обличительные смыслы рассказа. Числа живут самостоятельной жизнью, «играют» друг с другом, высвечивая и приоткрывая все новые пласты текста, пласты, главным образом, культурно-религиозного и архетипического характера. Девочке, дочке третьего сына, шесть лет— столько, сколько братьев в семье. Она спит в постели, где до нее спала сорок лет старуха. Сорок — знаковое число: это и сорокоуст, и сороковой день, день поминовения усопшего, когда душа его, по православной вере, уходит в иной мир, расставаясь с земной жизнью. Третий сын, вне сомнения, — Иванушка-дурачок, который во всех русских сказках оказывается не только главным, но и самым умным героем. Точное определение возраста: шесть лет (внучка) — от двадцати до сорока (сыновья) — семьдесят (старик) — заявляет главную тему — тему кровного родства трех поколений одной семьи.
Столь же суверенен, самостоятелен, таинственен, впрямую не связан с внешними действиями и поступками героев рассказа мир его чувств, ощущений, состояний. Доминантные характеристики этого мира: тоска, печаль, отчаянье, одинокое биение сердца человеческого. Лейтмотивы «разбитого сердца» живых и «ушедшего сердца» матери постоянно поддерживаются описаниями состояния мира природы. Здесь Платонов открыто традиционен: душевная тоска сопровождается осенне-зимнем пейзажем. Но для писателя принципиально важно то, что природа, ночь, космос, вселенная видны из окна дома, который является не только отчим домом, но и домом, где ныне царит смерть. И только в финале рассказа, после загадочного и никак автором внешне не мотивированного обморока третьего сына, братья выходят из дома, где господствует смерть, в мир, где живы мать и память о ней. Именно здесь, в ночи и космосе происходит четвертое, последнее и истинное прощание с матерью, прощание с телом и воссоединение с ее сердцем и душой. «Равнодушная чужая старуха», «мертвая старуха», «тело», «труп» исчезают, оказывается возможным возвращение матери, ее живого сердца: «Они поодиночке, тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала…» (С. 256).
Мать отдала своим сыновьям свое тело, что неоднократно и натуралистически обнаженно подчеркивается Платоновым: «Давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих сыновей и гордиться ими, — пока не умерла» (С. 252). Не случайно писатель постоянно вводит лексику избыточной телесности при описании сыновей: громадные мужчины, могучая полдюжина, гвардия потомков, строй шестерых мужчин, могучие люди и т. д.
Но ужас смерти, по Платонову, это не отчуждение от тела матери, а отчуждение от ее сердца. Только счастье обращенной на них материнской любви, «которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери», находило сыновей «через тысячи верст» и делало их сильней. Видимо, это понял главный герой рассказа — третий сын, своим озарением восстановивший распавшуюся было «связь времен», кровное родство души и сердца одной семьи. В единственном эпизоде текста все три поколения соприсутствуют в одном пространстве-времени: «Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому. Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания» (С. 255).
Обморок от сильного эмоционального напряжения как сигнал проявления запредельных человеческих чувств — факт беспрецедентный для литературы XX века. А обморок мужчины, да еще, как мы помним, физика, коммуниста — для отечественной словесности явление фактически уникальное. Скорее всего, А. Платонов решается на этот сильный художественный прием для шоковой остановки сознания читателя, для фиксации особой важности происходящего. Именно в этот момент третий сын не только в полной мере осознает смерть матери, но и «принимает ее на себя», осознает собственную конечность через «микросмерть», связанную с потерей сознания: «Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, по не удержался за него, а только сволок его немного в сторону, по столу, и упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука — закричала только его дочь» (С. 256). В этот момент третий сын становится следующим звеном родовой цепи семьи, он первый и единственный раз назван отцом. В ситуации осознания своей собственной смерти, по Л. Толстому, человек начинает истинную жизнь, превращается в личность, собственно в человека.
Аналогичный момент зафиксирован и в третьем стихотворении цикла «Памяти матери», являющем собой высокий пример того парадокса лирики, о котором писала Л. Гинзбург: «Самый субъективный род литературы, она, как никакой другой, устремлена к общему, к изображению душевной жизни как всеобщей», ибо истинное искусство, а лирика, возможно, более всего — «это опыт одного, в котором многие должны понять себя»7.
Стихотворение «Как не спеша садовники орудуют…» редко анализируют и редко цитируют. И это не случайно. В нем Твардовский выходит за черту общепринятой искренности, достигает предельной психологической достоверности, обозначает чувство, о котором знает каждый, но далеко не каждый решится в нем признаться даже самому себе.
Прямое сопоставление созидательного труда жизни и грубого труда смерти — основа движения лирического сюжета:
Как не спеша садовники орудуют Над ямой, заготовленной для дерева…
и, Но как могильщики — рывком —.
Давай, давай без передышки, —.
Едва свалили первый ком, И вот уже не слышно крышки (Т. 3. С. 157).
Описание похорон родной матери, горечь и боль бесповоротного последнего истинного прощания с ней решены в ключе того же шокового художественного приема, что и у Платонова. Повторим — вне общепринятых рамок искренности:
Но ту сноровку не порочь, —.
Оправдан этот спех рабочий:
Ведь ты им сам готов помочь, Чтоб только все — еще короче (Т. 3. С. 158).
Но, безусловно, на этой точке абсолютной боли Твардовский не мог завершить осмысление жизни своей матери, своего народа и своей собственной. Через описание превратностей судьбы, выпавших на долю семьи поэта, через полное мужественной боли повествование о том, о чем решится сказать не каждый художник, — о похоронах своей матери — Твардовский приходит к завершающему цикл стихотворению, где вся ее жизнь осмысливается вновь, но уже на более высоком, обобщающе-философском уровне, без биографических деталей. Для этого Твардовский вводит параллель судьбы матери с судьбой лирической героини народной песни, в результате чего окончательно утверждается мысль о полной и благодатной слиянности ее жизни с общим потоком народной мысли, где смерть может восприниматься как обретение дома:
— Перевозчик-водогребщик, Старичок седой, Перевези меня на ту сторону, Сторону — домой… (Т. 3. С. 159).
Ощущение потока жизни через смерть и воскрешение в другом поколении рода подтверждено и финалом рассказа «Третий сын». В нем встает эпическая картина шествия единой в своей телесной и духовной биографии семьи: «Утром шестеро сыновей подняли гроб и понесли его закапывать, а старик взял внучку за руки и пошел им вслед…"(С. 256). «Торжество и память», о которых мечтала мать, возобладали, это дает право говорить о том, что далеко не все творчество А. Платонова отмечено «философией бешенства» (И. Бродский), бессилием перед жизнью и перед смертью.
В поэме «По праву памяти», разоблачая систему «готовых истин» нового способа жизнеустройства, А. Твардовский напишет: «Но сказано: два мира. И ничего о матерях…» И Платонов, и Твардовский в пору своей зрелости отвергли новый закон, возвращаясь к старому и незыблемому: «Почитай отца и мать свою», ибо только следуя выверенной веками заповеди, можно достойно существовать в этом «прекрасном и яростном мире».[1][2]
- 3 Твардовский А. I Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. М., 1976. С. 23. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться непосредственно в тексте с указанием тома и страницы (в скобках).
- 4 Платонов А. В прекрасном и яростном мире: Повести и рассказы. М., 1965. С. 179. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться непосредственно в тексте с указанием страницы (в скобках).
- 5 Записные книжки А. Платонова, 1932—1956 гг.// Новый мир. 1991. № 9. С. 154.
- 6 См об этом подробнее: Твардовский А. Из рабочих тетрадей (1953—1960) // Знамя. 1989. № 9. С. 156.
- 7 Гинзбург Л. О лирике. Л., 1974. С. 7—8.
- [1] Так, будучи главным редактором «Нового мира», А. Твардовский не публиковал А. Платонова («возвращение» в годы «оттепели» шло главным образом черезкниги, а не журнальные публикации), но предоставлял страницы своего журналапервым обстоятельным литературоведческим портретам творчества Платонова. Например, в 1963 году в № 11 появляется принципиально важная для платоновс-дсния статья А. Гладкова «В прекрасном и яростном мире (о рассказах АндреяПлатонова)».
- [2] Цит. по: Малыгина Н. М. Эстетика Андрея Платонова. Иркутск, 1985. С. 42.