Лекция 6 НЕОСЛАВЯНОФИЛЬСТВО И ЕГО ФИЛОСОФИЯ
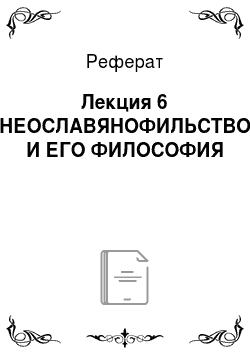
В сборнике «Борьба за Логос», в ряде статей и книг Эрн не просто упоминает о «русском Сократе» (Сковорода), «русском Платоне» (Вл. Соловьев), о Чаадаеве, Хомякове, Лопатине и других русских философах, о философских поисках Достоевского и Толстого, а доказывает их оригинальность, как, впрочем, и русской философии в целом. Такая позиция Эрна не осталась незамеченной. Против нее выступили не только… Читать ещё >
Лекция 6 НЕОСЛАВЯНОФИЛЬСТВО И ЕГО ФИЛОСОФИЯ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Процесс духовного возрождения нации, начавшийся в России в конце XIX в., опирался не только на поиски новых мировоззренческих начал жизнестроительства, но и на выяснение духовного потенциала философских построений русских философов прошлого, которые могли бы быть использованы в новых условиях. Почти все философы русского религиозного ренессанса проанализировали философские и религиозные идеи ранних славянофилов, находя в них «точки роста» для новых идей, соответствующих их философским поискам. Эти идеи, трансформировавшись в философских построениях В. С. Соловьева, нашли новую жизнь в трудах его учеников и последователей — как светских, так и религиозных.
Наибольшее влияние славянофильство оказало на московских философов, группировавшихся вокруг Религиозно-философского общества и издательства «Путь». И если для одних из них идеи славянофилов были фоном, отправной точкой собственных философских построений, то для других — своеобразным оружием в борьбе с поветрием увлечения позитивизмом, неокантианством и другими новомодными европейскими философскими течениями. К последним относится В. Ф. Эрн — самый активный последователь славянофильских идей, чье творчество по праву определяется как неославянофильство.
Владимир Францевич Эрн (1882—1917) по природе своего темперамента и таланта был философским публицистом, чье творчество вызывало интерес и резонанс в обществе. Самыми известными эпизодами его философской публицистики были полемика с редакцией неокантианского еженедельника «Логос» и публицистическая деятельность времени начала Первой мировой войны. После выхода уже первых номеров «Логоса» философ выступил с большой статьей «Нечто о Логосе, русской философии и научности. (По поводу нового философского журнала „Логос“)», а затем написал серию статей «Борьба за Логос» и опубликовал ее в сборнике. Как позже вспоминал один из издателей «Логоса» Ф. Степун, Эрн выступал как «непримиримый враг немецкого идеализма, и в частности неокантианства… …В своих постоянных устных и печатных полемически-кригических выступлениях против нас, логосевцев, Эрн упорно проводил мысль, что, апологеты научной философии, оторванные от антично-христианской традиции, мы не имеем права тревожить освященный евангелием термин, еще не потерявший смысла для православного человека"'.
В споре с «Логосом» В. Ф. Эрн раскрывал и утверждал особенности и оригинальность русской мысли. Еще более острую форму размышления философа о России и Западе, о их культурных ценностях приобрели с началом Первой мировой войны. Самым известным его выступлением в этот период стал доклад в Политехническом институте на заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г., названный им «От Канта к Круппу». Его публикации в журнале «Русская мысль», а затем в сборнике статей «Меч и крест» (1915), а также брошюра «Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия» (1915) вызвали в русском обществе большой резонанс.
Доминантой философии В. Ф. Эрна были православный онтологизм и борьба с рационализмом и формализмом европейской философии за живой христианский Логос. Фоном и истоком ее обоснования и утверждения явилась история философии. Эрн еще в студенческие годы был увлечен Платоном и платонизмом, а позже изучал специфику и формы существования платонизма в русской и итальянской философии, что и повлияло на формирование его философских взглядов и оригинальность их оформления в духе восточно-христианского логизма.
Еще одной особенностью формирования мировоззрения Эрна, в отличие от увлечений большинства русских философов конца XIX — начала XX в., является то обстоятельство, что ни либеральная, ни марксистская идеологии не оказали серьезного влияния на него. Он изначально был связан с православием, ориентирован на его обновление, но при этом дистанцировался от «нового религиозного сознания», относясь скорее к идеологам «старого» сознания в духе религиозных исканий славянофилов, что дает основание говорить о «неославянофильстве» Эрна.
«Борьбу за Логос», стремление вернуть метафизику к религиозным истокам философ начал своей полемикой с журналом «Логос». Прочитав его первый номер, особенно вступительную статью «От редакции», написанную С. И. Гессеном и Ф. А. Огепуном, в которой задачей современной философии утверждалась необходимость приблизиться к «кристально-ясной сфере рационального объединения всех мотивов общекультурного и, в особенности, философского творчества», В. Ф. Эрн написал большую статью «Нечто о Логосе, русской философии и научности», объясняющую его понимание Логоса и рацио, противостояние логизма и рационализма. По мнению философа, «Логос» в понимании авторов нового журнала «исчерпывается без остатка идеями кантианства», а кантианство «всецело умещается в рамки рационализма. Его единый принцип — своеобразно осознанный, самодержавный ratio, который в новой философии кладется во главу угла и становится единственным органом философского исследования»2.
Дальнейшее развитие ratio приводит к «развитию универсального меонизма», то есть безбытийной и безжизненной философии. Подводя итог историко-философскому анализу развития рационалистической традиции меонизма в европейской философии от античности до Гегеля, Эрн в следующих словах определяет его главную характеристику: «Кардинальный, конституирующий его признак (по содержанию) — отрицание природы как Сущего»3.
Иное дело Логос. Он не является неким отвлечением, не схематичен, как рацио. Он конкретен, в нем скрывается и углубляется живая стихия личности. Главная же характеристика Логоса — его Божественность. Он Абсолют, «Бог, непостижимый в своем существе; Бог, возвышающийся над всякой мыслью и именем; Бог, о Котором можно сказать, что Он есть, но не что Он есть… Вселенная, космос, есть раскрытие и откровение изначально сущего Слова. Будучи этим раскрытием и откровением, мир в самых тайных недрах своих „логичен“, т. е. сообразен и соразмерен Логосу, и каждая деталь и событие этого мира есть скрытая мысль, тайное движение всепроникающего Божественного Слова. Логос как начало человеческого познания не есть Логос другой, отличный от Логоса Существенно-Божественного. Это тот же самый Логос, только в разных степенях осознания»4.
Наконец, Логос утверждает универсальный онтологизм. Философия Логоса (логизм) — это философия Сущего. Поэтому задача новейшей философии — вернуться к природе как Сущему. А это значит — осознать природу как самостоятельно Сущее и по отношению к человеку, и по отношению к Богу, т. е. к абсолютно Сущему. Эта самостоятельность обусловливается лишь внутренним соотношением природы как Сущего к Сущему Абсолютному, поскольку только при внутреннем согласии Сущего Абсолютного на относительную самостоятельность природы и может быть мыслима природа как самостоятельно Сущее. «Это значит: осознавая Природу как Сущее и выходя тем самым из плоского понимания мира, свойственного рационализму, мы не доходим еще до самого корня мысли. Метафизический корень мысли глубже. Он — там, где лежит творческая причина самой Природы. Метафизический корень Мысли в том Божественном Логосе, Которым сотворено все существующее и без Которого „ничто не начало быть из того, что начало быть“»5.
Подводя итоги «борьбы за Логос», В. Ф. Эрн в статье «На путях к логизму» определяет семь основных различий между рационализмом и логизмом:
- 1. Рационализм, считая личность за безусловно иррациональное, воспринимает весь мир в категории «вещи». Логизм, прозревая в личности вечную, не гибнущую идею, образ и подобие Бога, воспринимает мир в категории «личности». «Мертвенной вещности рационалистического мышления логизм противополагает живой и живящий персонализм».
- 2. Рационализм исповедует механистическую точку зрения не только как метод, но и как последнее объяснение космической жизни. С его механицизмом связан универсальный детерминизм. Логизм отвергает их, воспринимает космос и человеческую жизнь органически, как относительно-самостоятельный организм или часть более сложного организма. «Отвергая детерминизм, логизм радикально утверждает себя как философия свободы».
- 3. Вещь, необходимо лишенная «жизни в себе», обращается в простую категорию познающего субъекта. Отсюда иллюзионизм и меонизм рационализма. Логизм, отвергая их, «исповедует всемирный онтологизм, т. е. признает метафизически Сущим и человека, и мир, и Церковь, и Бога».
- 4. Все существующее рационализм сводит к «схеме» — математической, динамической, трансцендентальной, диалектической. В логизме место схемы занимает «символ». «Если меонизм и схематизм вызывает бездонную пропасть между рационализмом и искусством, а также между рационализмом и религией, то естественный и существенный символизм философии Логоса самыми внутренними, интимными связями соединяет логизм как с великим символическим языком искусства, так и с символизмом религий».
- 5. Схема по отношению к чуждой ей вещи является внешней «нормой». Отсюда нормативизм рационализма. Меоничсской норме рационализма логизм противополагает онтологический «тонос». Подчиняемость норме подзаконна, тонизм свободен, он — выше норм. «Тонична любовь, тонично вдохновение, тоничен подвиг святых. „Бог есть любовь“ — вот высшее утверждение тонизма».
- 6. Рационализм представляет историю в виде универсальной «непрерывности». Эволюционизм — частный вид понимания космической жизни как непрерывной. Непрерывность — это отрицательная бесконечность. Логизм утверждает положительную, актуальную бесконечность и воспринимает мир, жизнь, историю «прерывными». «Точке зрения эволюционной противополагается точка зрения катастрофическая. Как философия культуры, так и философия истории — в логизме катастрофичны».
- 7. Рационализм — мировоззрение «статичное». В чистом виде он внечеловечен, внежизненен. Логизм — «динамичен». Он требует творчества, возрастания, отсюда беспредельность познания. «Динамизм уже не роднит с жизнью. Он сама жизнь… логизм есть философия жизненная, творческая, вселенская»6. Эрн считает, что лозунгом развития современной философии должен стать призыв: «Вперед к логизму!».
Второй, не менее значительной областью противостояния Эрна и авторов журнала «Логос» была оценка достоинств отечественной философии. Он не приемлет изначально прокламируемую мысль авторов предисловия к первому номеру «Логоса» о том, что «…мысль наша никогда не была вполне свободною и вполне автономною. Основные принципы русской философии никогда не выковывались на медленном огне теоретической работы мысли, а извлекались в большинстве случаев уже вполне готовыми из темных недр внутренних переживаний»7. Как не приемлет он и неоднократно повторяемые ими утверждения о «заблуждениях славянофильской школы», о «темном иррациональном корне их философии», о «неубедительности и несостоятельности» философской концепции В. С. Соловьева. Позиция авторов «Логоса» по отношению к русской философии, по мнению Эрна, может быть выражена словами «несвобода, вечная порабощенность, завистливое рабство»8. Философ подробно разбирает эти оценки, доказывая их неправомерность. В частности, рассуждая о свободе мысли, он указывает, что в рационализме с точки зрения кантовской философии говорить о ней «абсолютно недопустимо», ибо метафизическая свобода мысли может обозначать только то, что не все содержание сознания феноменально, что внутренний опыт в своих корнях ноуменален"9. Если же чистая трансцендентальная мысль свободна, человек не может быть ее обладателем и, следовательно, не может обладать свободой мысли. В логизме мысль истинно свободна, автономна, поскольку она логична и в существе своем Божественна, абсолютна, «ибо здесь мысль становится ноуменальной, извечно рожденной и негибнущей»10. Мысль, поскольку она логична, также т о и и ч н а, т. е. активна, напряженна, и в своей напряженности, достигая Логоса, находит положительную свободу, принадлежащую ей по существу, как части Сущего, как «вещи в себе». В этом смысле «русская философская мысль, проникнутая логизмом, всегда сознавала существенную свою свободу и никогда не нуждалась в том, чтобы ее кто-нибудь „освобождал“»11.
В сборнике «Борьба за Логос», в ряде статей и книг Эрн не просто упоминает о «русском Сократе» (Сковорода), «русском Платоне» (Вл. Соловьев), о Чаадаеве, Хомякове, Лопатине и других русских философах, о философских поисках Достоевского и Толстого, а доказывает их оригинальность, как, впрочем, и русской философии в целом. Такая позиция Эрна не осталась незамеченной. Против нее выступили не только авторы «Логоса», защищавшие основы «научной философии», но и далекий от них С. Л. Франк, который, к примеру, в статье «О национализме в философии» писал: «Статья Эрна — сплошной панегирик русской философской мысли, сплошное осуждение всего „нового философского сознания Запада“. Такого огульного и безмерного национального самомнения в области философии нам до сих пор не приходилось встречать. Пользуясь старинным, давно заржавевшим и пришедшим в негодность славянофильским оружием — резким противопоставлением западной „рассудочности“ восточной „целостности“, — он рубит с плеча, уничтожая Канта, Беркли, Юма, даже Гегеля (исключение делается для одного только Шеллинга, корни философии которого усматриваются в восточной мистике) и возводя на неведомую доселе высоту русских философов, начиная со Сковороды и кончая Лопатиным, Козловым и Серг. Трубецким»12. Это обвинение несправедливо. В своем ответе Франку — статье «Культурное непонимание» — Эрн разъясняет свою точку зрения с позиций восточно-христианского логизма. «Русская мысль, — пишет он, — дорога мне не потому, что она русская, а потому, что во всей современности, во всем теперешнем мире она одна хранит живое, зацветающее наследие антично-христианского умозрения. Я ценю русскую мысль за ее верность философскому началу всемирного значения, и вся моя характеристика русской философии, столь поразившая С. Франка, есть обоснованная историческим изучением попытка доказать существенно новый и оригинальный в сравнении с Западом Leit-мотив русской мысли — устремленность к логизму»13.
Позиция Эрна выражает не противопоставление двух культур — России и Запада, как это было у славянофилов, а противопоставление двух познавательных начал — рацио и Логоса, западно-европейского рационализма и русской философии, «исторически и многократно засвидетельствовавшей свою существенную пронизанность стихией логизма»14.
Подвергнув специальному рассмотрению проблему философской традиции вообще и ее западно-европейские и русские варианты, философ подтверждает несомненный факт большого влияния немецких философских школ на развитие философской мысли, но выступает против утверждений авторов «Логоса», что немецкая философия, и особенно система Гегеля, «вобрала в себя все громадное идейное наследство, завещанное ей иными нациями» и что научная философия неокантианцев является последним словом мировой философской мысли. Даже в немецкой философии, подчеркивает он, есть иные направления развития философии (системы Шеллинга, Шопенгауэра, Ницше), не совпадающие с рационалистической «линией Декарта», и вообще нельзя проводить прямую линию «прогрессивного» развития философских традиций от Платона до Гегеля и далее, поскольку Платон — это Платон, а Гегель — это Гегель. Как и другие оригинальные философы, они демонстрируют своим творчеством отличные друг от друга пути постижения истины.
Наконец, возражая Франку, Эрн заявляет, что культуры России и Запада не чужды друг другу, они изначально едины как христианские культуры: «Вот существенное отличие мое от славянофильства, которое так упорно не хочет заметить С. Франк. Церковно признавая католицизм, я религиозно признаю самые основы европейской культуры, ибо культура Европы почти во всех своих высших моментах теснейшим образом связана с каголицизмом. На „Западе“ я отрицал не жизнь, не историю, не великие культурные достижения… а лишь рационализм — начало, по моему мнению, антикультурное. Рационализм связан с механической точкой зрения. Последняя питает техническую промышленность и все более механизирующийся склад жизни, отрывающийся от космических условий существования. Истинной культуре грозит величайшая опасность во всем мире (в том числе и в России). Культура поглощается прогрессом материальной цивилизации… Я признаю решительно все титанические и часто одинокие вершины западной культуры и совершенно отрицаю ту серединную, гниющую и разлагающуюся цивилизацию (ее так много и в России), которая, по моему глубокому убеждению, есть законное и необходимое детище рационализма»15.
Спустя несколько лет размышления Эрна о России и Западе, о русской и немецкой философии приобрели иное звучание. С началом Первой мировой войны прежний анализ отношений между европейской и русской философией трансформировался у него в антитезу немецкой и русской философии, которая со временем приобрела формулу «Меч и крест». Наиболее остро эта антитеза представлена в докладе Эрна «От Канта к Круппу», вошедшем в сборник «Меч и крест». Среди более чем десятка работ русских религиозных философов — Н. Бердяева, С. Булгакова, Е. Трубецкого, С. Франка, — посвященных начавшейся войне, статьи Эрна, хотя и написанные в той же парадигме рассуждений и сравнений духовного потенциала воюющих наций и критики кризиса европейской культуры, отличала повышенная острота формулировок и резкость суждений. Речь «От Канта к Круппу» Эрн начинает с протеста против утверждения, что немецкая культура «народа философов» и зверства немецких военных — не одно и то же. И в доказательство выдвигает три тезиса:
- 1. Бурное восстание германизма предрешено «Аналитикой» Канта.
- 2. Орудия Круппа полны глубочайшей философичностью.
- 3. Внутренняя транскрипция германского духа в философии Канта сходится с внешней транскрипцией того же самого германского духа в орудиях Круппа.
Чтобы обосновать их, он анализирует 1 -е издание «Критики чистого разума» и утверждает, что идеи этой книги сводятся к феноменалистичности внутреннего и внешнего опыта, после чего формулирует два «радикальнейших» положения: «1) никакой ноумен, т. е. ничто онтологическое, не может встретиться в нашем внешнем опыте, и 2) ничто ноуменальное, т. е. относящееся к миру истинно Сущего, не может быть дано и реализовано в нашем внутреннем опыте. А так как, кроме внешнего и внутреннего опыта, нет никаких иных путей познания, то „Критика чистого разума“ оказалась всемирно-историческим глашатаем чистейшей формы абсолютного имманентизма»16. Дальнейшее поступательное развитие немецкой философии лишь усилило универсально-имманентские тезисы Канта: «Феноменалистический первопринцип Канта в историческом самоопределении немецкого народа неизбежно должен был сгуститься в весьма определенные и конкретные вещи»17. И одним из самых трагических результатов этого «сгущения» была потеря связи с Сущим — «смерть Бога».
Эрн убежден, что «богоубийство» было обусловлено Кантом еще в «лабиринтах трансцендентальной аналитики». А в дальнейшей истории немецкой культуры получается, как у Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено». Философ пишет: «В плане истории теоретическое богоубийство как априорный и общеобязательный для всякого „немецкого“ сознания принцип неизбежно приводит к посюстороннему царству силы и власти, к великой мечте о земном владычестве и о захвате всех царств земных и всех богатств земных в немецкие руки… Убиение Сущего в воле, совершенное Кантом, постулировало крайнее развитие волевой мускулатуры, а убиение Сущего в разуме, совершенное им же, раскидывало прельстительную арену для проявления этой мускулатуры: для германского сознания со всего мира были сняты онтологические запреты и высшие предназначения, и географическая карга Земли предстала германскому воображению огромным и сладким „меню“ невиданного и неслыханного в истории мирового пиршества»18.
Второй и третий тезисы о «философичности орудий Круппа» Эрн доказывает прежде всего «генеалогически», утверждая, что если германский милитаризм — дитя кантианского феноменализма, «то орудия Круппа суть самое вдохновенное, самое национальное и самое кровное детище немецкого милитаризма. Генеалогически орудия Круппа являются, таким образом, детищем детища, т. е. внуками философии Канта»19. Еще одно доказательство возможно через анализ стиля жизни и духа немецкого народа, заключающихся в его уверенности в себе, самонадеянности, «самозамкнутости, абсолютной практической самозаконности». Орудия Круппа являются научным и технически организованным «бытием для себя» немецкой нации, в которых феноменалистический принцип «аккумулируется», становясь выражением ее духа.
Спустя полтора месяца, 26 ноября 1915 г. Эрн читает еще одну лекцию — «Сущность немецкого феноменализма», в которой уточняет приведенные выше положения, доказывая, что феноменализм Канта имел своих предшественников — Экхарта, Лютера, Бема, что культ «чистого насилия» в немецком народе определялся задолго до Канта, что «философия Канта была не чем иным, как литературной транскрипцией тех сдвигов и перемещений, которые пред тем бытийственно совершились в самых глубоких недрах немецкой нации»20.
Продолжением и логическим завершением идейно-философских построений Эрна, содержащихся в сборнике его статей «Меч и крест», были две лекции, прочитанные им в Москве и СанктПетербурге под общим названием «Время славянофильствует». Еще в предисловии к сборнику «Меч и крест» философ объясняет, каково содержание и смысл символов «меч» и «крест» для раскрытия духа нации и в чем суть их противостояния: если для Германии меч — символ грубой физической силы, «высшая спиритуализация их народного существа, высший подъем их материи и высший предел одухотворения их грубой, тяжелой плоти», то для России — «меч — служение, а над мечом как святыня — крест, и сила сильна не силой, а правдой и только правдой». Теперь в этих лекциях Эрн, по сути, заканчивает конструирование своего видения русской идеи, отталкиваясь от «всечеловеческих предчувствий славянофилов», от их противопоставления России и Запада. Запад, разорвав связь с Сущим, ставит своей задачей всестороннюю секуляризацию человеческой жизни. Западная культура проникнута пафосом человеческого самоутверждения, разрушения всякого трансцендентизма, пафосом феноменализма. Русская культура, наоборот, вся пронизана духовностью, представляет различные формы душевной и духовной деятельности. Ее пафос — утверждение трансцендентизма, пафос онтологических святынь и онтологической Правды.
Это противопоставление двух культур для Эрна не является абсолютным. Во-первых, русская культура «двувозрастная», т. е. в ней переплетены начала старорусской культуры и новой, европейской, к которой, благодаря деятельности Петра, она активно приобщилась. Во-вторых, русская культура с уважением относится к святыням западной культуры и видит свою задачу уберечь их от гибели. Поэтому миссия России, ее национальная задача, по мнению философа, — помочь Западу преодолеть разрыв с Богом, «а это значит, что к Западу мы должны стать совсем в иные отношения, всегда постулировавшиеся всем духом славянофильства. Во имя Запада онтологического мы должны пребывать в непрерывной, священной борьбе с Западом феноменологическим. И, любя бессмертную душу Запада, чувствуя свое умопостигаемое единство с его субстанцией, мы должны насмерть бороться с дурными, внутренне гнилостными модусами его исторических манифестаций»21. Святая Русь, несущая Европе новые начала, и есть та святыня умного делания народа и его духовного бытия, которую в свое время утверждали славянофилы. Именно поэтому — «время славянофильствует».
Многие идеи В. Ф. Эрна, высказанные в его статьях и лекциях, были оспорены современниками, многие стали объектом усвоения и дальнейшей разработки в трудах русских философов XX в.
Октябрьская революция и Гражданская война в России сопровождались невиданной по масштабам эмиграцией. В вольной или невольной эмиграции оказались лучшие интеллектуальные силы России, которые продолжали свою деятельность в эмигрантских центрах Европы — Берлине, Праге, Париже. Русские ученые, философы, богословы создавали новые учебные заведения, проводили конференции, издавали массу книг и периодических изданий. Возникали также идейные движения и организации. Наиболее ярким из них было евразийство. «Евразийство есть пореволюционное, политическое, идеологическое и духовное движение, утверждающее особенности культуры российско-евразийского мира»22. Главная заслуга евразийцев — концептуальное обоснование нового образца цивилизации, поиски «третьего» пути. По серьезности исследования российской истории и государственности, по силе прозрения в грядущие пути отечества евразийская школа заметно выделяется среди других движений эмигрантской мысли.
Евразийство как самостоятельное идейное направление сложилось в начале 20-х гг. XX в. Как массовое движение евразийство публично заявило о себе в июне 1921 г. в Софии, а основой его явилось созданное в 1919 г. русскими философами-эмигрантами, осевшими в Болгарии, Российско-болгарское издательство. Контуры евразийской концепции обозначились уже в книге Н. С. Трубецкого «Европа и человечество», вышедшей в Софии в 1920 г. В следующем году там же был опубликован сборник статей «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». В нем были статьи Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Г. В. Флоровского. В этом программном для движения сборнике в нарочито заостренной форме были впервые четко сформулированы основные мировоззренческие принципы евразийства.
Однако впервые евразийские идеи были высказаны еще в России, до революции. Этот предъевразийский период движения был связан с научными поисками старшего поколения евразийцев — Г. Вернадского, Л. Карсавина, Н. Трубецкого. Младшее поколение (хотя разница в годах здесь была минимальная: 5—10 лет) — П. Савицкий, Г. Флоровский — присоединилось уже в эмиграции. Вернадский, с юности тянувшийся к изучению роли степной Азии в судьбе нашего Отечества, уже в 1914 г. писал статьи, где образно сравнивал движение России к Востоку с движением против Солнца. Карсавин до своей высылки из СССР в 1922 г. опубликовал отдельную книгу, само название которой — «Запад, Восток и русская идея» — говорит о сути его тогдашних интересов. И хотя речь идет в основном о богословско-религиозном аспекте проблемы Запад — Восток в ее отношении к национальной идее, а евразийские восточные приоритеты Карсавина, находящегося тогда под сильным влиянием В. Соловьева, еще не выкристаллизовались в полной мере, антизападничество занимает в настроениях мыслителя существенную роль. Уже тогда, не будучи лично знаком с другими участниками евразийского движения, известный русский медиевист утверждает, что важнейшая цель русской культуры настоятельно требует преодоления ограниченности западного эмпиризма и решительного отказа от суррогата всеединства, именуемых идеалом прогресса. Серьезно размышлял о роли Востока в исторических судьбах и перспективах России и Трубецкой, внимательно изучавший восточные языки, мифологию и фольклористику и оттачивающий свое будущее евразийское мировоззрение на заседаниях лингвистического кружка при Московском университете, где, кроме обсуждения языковых проблем, говорилось о кризисе западной духовности и «необходимости сближения европейских и азиатских тенденций мировой истории». Когда в Софии, ставшей одним из первых центров эмиграции, встретились и «объединились на общем мироощущении» основные участники евразийства, этому объединению предшествовал серьезный путь личностных исканий каждого. Революция, в которой молодые мыслители увидели закономерный итог 200-летней европеизации страны, и последующие ясные тяготы беженства сыграли роль катализатора объединения, увидевшего ясные ориентиры спасения в «исходе к Востоку».
Концепция евразийства своим пафосом новизны и специфическим радикализмом бросала вызов «катастрофическому» мироощущению, господствовавшему в эмигрантской среде, привлекала на свою сторону новое поколение русских ученых, жаждущих дать свой ответ на извечные русские вопросы о судьбе России.
Общее настроение, пронизывающее всю евразийскую литературу, можно определить как антизападничество и почвенничество. Евразийцы подчеркивали факт глубокого культурного переворота, совершающегося в XX в., связанного с кризисом западно-европейской культуры и цивилизации. Первая мировая война и Русская революция 1905 г. воспринимались евразийцами как провиденческие знаки, возвестившие наступление новой исторической эпохи, в которой центральное и руководящее место будет принадлежать не Европе, а России. На смену западной культуре придет новый тип культуры. Поэтому русской эмиграции, по мнению евразийцев, следует искать духовную опору в первую очередь в русских корнях, русской традиции, на русской почве.
Основной категорией евразийского мышления признавалось определение России как особого исторического и географического мира. Из этого постулата вытекает утверждение «самостоятельной ценности русской национальной стихии». Россия, заявляли евразийцы, не принадлежит ни к Востоку, ни к Западу. Это совершенно особый культурный мир, который порожден особым субконтинентом — Евразией.
Россия как Евразия есть месторазвитие (термин П. Н. Савицкого) — географический, этнический, хозяйственный, исторический, культурный ландшафт одновременно. «Географически евразийцы воспринимают Россию-Евразию, т. е. совокупность трех российско-евразийских низменностей-равнин и горных стран, к ним примыкающих, как „месторазвитие“», — писал П. Савицкий23. Идеологи евразийства, противопоставляя Евразию Европе, ландшафту придавали особое, определяющее значение. По мнению П. Н. Савицкого, «флагоподобному широтно-полосовому зональному сложению евразийских низменностей-равнин противостоит мозаическое дробное зональное сложение Европы»24. Параллельным и горизонтальным географическим зонам Евразии — пустыне, степи, лесу, тундре — соответствует особый «волновой» ритм исторического развития — «череда подъемов и депрессий», а весь евразийский мир подобен «пульсирующему сердцу».
Наиболее оригинальными были взгляды евразийцев в области географии, истории и культурологии.
Географические взгляды евразийцев представлены по преимуществу именно в трудах П. Н. Савицкого, который накопил и обобщил богатый географический, геолого-почвоведческий и экономико-географический материал, положенный в основу утверждений о природной «спаянности» евразийских пространств. А основные идеи географических представлений он сформулировал следующим образом: «Можно сказать по праву: восгочноевропейская, „беломоро-кавказская“, как называют ее евразийцы, равнина по географической природе гораздо ближе к равнинам западносибирской и туркестанской, лежащим к востоку от нее, нежели к Западной Европе. Названные три равнины, вместе с возвышенностями, отделяющими их друг от друга (Уральские горы и гак называемый „Арало-Иртышский“ водораздел) и окаймляющими их с востока, юго-востока и юга (горы русского Дальнего Востока, Восточной Сибири, Средней Азии, Персии, Кавказа, Малой Азии) представляют собой особый мир, единый в себе и географически отличный как от стран, лежащих к западу, так и от стран, лежащих к юговостоку и югу от него. Если первым приурочить имя Европы, а ко вторым — имя Азии, названному только что миру, как среднему и посредующему будет приличествовать имя Евразии…»25.
Выявляя объективные природные свойства и закономерности географических особенностей России-Евразии, евразийцы обнаружили группу «широтно-полосных зон» распределения ботанических и природных факторов, Они сделали вывод, что на пространствах евразийского географического мира смена растительных и почвенных форм подчиняется «юго-северным» и «центро-периферическим» правильностям, а направления их действия практически совпадают. В частности, Н. С. Трубецкой указывает, что территория Евразии может быть определена следующей схемой: существует длинная, более или менее непрерывная полоса безлесных равнин и плоскогорий, тянущаяся почти от Тихого океана до устья Дуная. Эту полосу можно назвать системой степи. С севера она окаймлена широкой полосой лесов, за которой идет полоса тундр, С юга система степи окаймлена горными хребтами. Таким образом, имеются четыре тянущихся с Запада на Восток параллельные полосы: тундровая, лесная, степная, горная. В меридиальном направлении все они пересекаются с системой рек.
Этой же точки зрения придерживается Г. В. Вернадский, разделивший территорию Евразии на четыре почвенно-климатических зоны: безлесную тундру, лесную зону, степную зону и безлесные пустыни. По его мнению, размещение этих зон по параллелям «в значительной мере обусловило собою направление движения кочевавших племен Евразии»26. Такое расположение и соотношение зон способствовало миграционным процессам, постепенному перемещению русского населения на восток. Экстенсивное земледелие вело к быстрому оскудению лесных пространств и почвы, и земледельцам приходилось переходить на новое место.
Еще одну особенность географического положения Евразии указал П. Савицкий в статье «Континент-океан». Внешние очертания Евразии характеризуются отсутствием выхода к открытому морю и отсутствием изорванное™ береговой линии. Поэтому она, наряду с Канадой, является самой континентальной.
Географические детерминанты, по утверждению евразийцев, не являются прямым геоприродным обоснованием каких-либо административно-политических границ, они носят рукотворный, исторический характер. Но изучать их обязательно нужно на уровне междисциплинарных исследований.
Одной из так называмых междисциплинарных дисциплин, по мнению П. Н. Савицкого, должна быть синтетическая дисциплина — теософия, изучающая «спаянность» территории России-Евразии, исторические судьбы ее народов, естественную их совместимость и преемственность. Таким образом, естественно выходили на своеобразную интерпретацию истории.
Будучи историками, многие евразийцы предложили свою трактовку русской истории, связывая ее с влиянием окружающей географической среды. Наиболее адекватно евразийскую историческую концепцию изложил Г. В. Вернадский. Исходная методологическая посылка его взглядов на историю заключается в следующем: «Каждая народность оказывает психическое и физическое давление на окружающую этническую и географическую среду. Создание народом государства и усвоение им территории зависит от силы этого давления и от силы этого сопротивления, которое это давление встречает»27. Исходя из этого, русскую историю он рассматривает через призму соотношения между лесом и степью, употребляя «эти понятия не в почвенно-ботаническом их значении, а в совокупности их природного и историко-культурного значения»28. И выделяет пять периодов русской истории:
Первый период — с древнейших времен до смерти Святослава Игоревича в 972 г. Это период объединения леса и степи для использования выгод обмена их природными богатствами.
Второй период — с 972 г. до нашествия Батыя на Русь в 1238 г. Это период б о р ь б ы между лесом и степью.
Третий период — с 1238 г. до основания зависимого от Москвы Касимовского татарского царства в 1452 г. Это период победы степи над лесом.
Четвертый период — 1452—1696 гг. — распадение Золотоордынской державы, возвышение Москвы, когда русский север наступает на «монголо-турецкий юг и восток». Это период завоевания Казани, Астрахани, Сибири и Дона, т. е. есть победа леса над степью.
Пятый период — распространение Российского государства почти до естественных пределов Евразии, период объединения леса и степи «в отношении хозяйственно-колонизационном»29.
Евразийцы переосмыслили ряд устоявшихся положений традиционных исторических представлений. В частности, они не согласились счигагь Россию отсталой периферийной страной, основная миссия которой — служить сдерживающим препятствием дикого нашествия с Востока. Россия — самостоятельная страна, утверждали они, с полноценными отношениями с другими народами, населяющими евразийское пространство.
Вторая историческая новация евразийцев носила шокирующий характер. Они предложили переосмыслить монголотатарское иго и последующее государственное строительство Российской империи.
Эта точка зрения изложена в работе Н. С. Трубецкого «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока» (1925). В ней говорится, что Киевская Русь не есть та основа, на которой выросло Русское государство — Россия-Евразия. Киевская Русь — это сумма княжеств, управляемая князьями варяжских династий, пишет Н. С. Трубецкой, и расположены они в бассейнах грех рек, которые почти непрерывной линией соединяют Балтийское и Черное моря. Географическая его сущность — путь «из варяг в греки».
В то же время на территории нынешней России (Российской империи, СССР) существовали: государство Хазарское (в низовьях Волги и на Дону) и Болгарское (в среднем течении Волги и по Каме). Эти государства существовали одновременно с Киевской Русью, были политически и хозяйственно едва ли не сильнее ее. При этом господства на евразийской территории никто из них достичь не мог, ибо на пути этих оседлых, земледельческих, привязанных к тому или иному руслу государств лежала полоса степи, где хозяйничали воинственные кочевники.
По этим причинам из Киевской Руси и не могло развиться никакого мощного государства. Киевская Русь не могла ни расширить своей территории, ни увеличить свою внутреннюю государственную мощь, ибо, будучи естественно прикреплена к известной речной системе, она в то же время не могла вполне овладеть всей этой системой до конца: нижняя, самая важная часть этой системы, пролегающая по степи, всегда оставалась под ударами степных кочевников-печенегов, половцев и др. Киевской Руси оставалось только разлагаться и дробиться на мелкие княжества.
«Всякое государство жизнеспособно только тогда, когда может осуществлять те задачи, которые ставит ему географическая природа его территории», — делает вывод Н. С. Трубецкой30. Географическим «заданием» Киевской Руси было осуществление товарообмена между Балтикой и Черным морем. В силу указанных причин эго было невыполнимо, и Киевская Русь не могла быть жизнеспособна. Из всего этого, считает Трубецкой, становится проблематичной точка зрения о приращении Руси Киевской Русью.
Решая этот вопрос, евразийцы советуют обратиться к карте, где хорошо прослеживается, что почти вся территория России некогда составляла часть монгольской монархии Чингисхана. Однако между Россией и монархией Чингисхана евразийцы знак равенства не ставят. В монархию Чингисхана входила почти вся Азия, а между тем Россия не есть Азия. Как пишет Н. С. Трубецкой, «Россия есть лишь часть монархии Чингисхана»31. Она определяется особыми географическими условиями, отделяющими ее от остальных частей Чингисхановой монархии, — полосным расположением географических зон.
Трубецкой нс подвергает сомнению, что вторжение войск Чингисхана на Русь было тяжелым потрясением. Но в этом процессе он обнаруживал также положительную сторону, поскольку считал, что монгольский тип организации власти способствовал созданию мощного Московского царства, легшего в основу будущей Российской империи. «Монголы, — отмечал Трубецкой, — формулировали историческую задачу Евразии, положив начало ее политическому единству и основам се политического строя»32.
Достоверно известно, что Киевская Русь была втянута в общую финансовую систему монгольского государства. Сама дань может рассматриваться не как плата побежденного победителю, а как участие в единой государственной системе. Подтверждением этому может служить активное политическое взаимодействие Орды и Московии. В ставке Чингисхана постоянно находились русские послы; они были отнюдь не пленниками или заложниками. Да и могло ли произойти отражение вторжения Ливонских рыцарей, не будь если не военного союза, то хотя бы перемирия с монголами?
Вместе с тем государственная система монголов в целом была неприемлема для Руси в силу ее насильственного введения, и поэтому была заимствована византийская государственная система для «обрусения» монгольской идеи государственности. Так, пишет Трубецкой, свершилось чудо, переродившее монгольскую государственную идею в православно-русскую. А Россия стала провинцией монгольской империи — московским улусом.
Согласно евразийской концепции Н. С. Трубецкого, благодаря «горению» русского национально-религиозною чувства, произошла переплавка северо-западного улуса монгольской монархии в Московское царство, в котором монгольский хан был заменен русским царем, а Москва стала «новой объединительницей евразийского мира».
Историческая неправота Трубецкого очевидна, поскольку монгольский идеал государственности отнюдь не выходил за рамки удельно-вечевой системы. Поэтому никакое «оплодотворение» его византизмом было бы просто невозможно. «Византизм означал цезарепапизм, т. е. абсолютную концентрацию в руках светского правителя мирской и духовной власти. После христианизации Руси первыми подобной установки придерживались киевские князья. От них и вели свою родословную московские государи. В империи Чингисхана вообще не существовало государственной религии, гам все веры были равны. Так что Москве от монголов перенимать было нечего: все необходимое она находила в своей „собственной античности“ (Д. С. Лихачев) — древнекиевских временах, к которым и восходило ее политическое бытие. Не понимать (а тем более не знать) Трубецкой этого не мог, однако „евразийский соблазн“ (Г. В. Флоровский) заставлял его упорно отказываться от бесспорных исторических фактов»33.
Географические и исторические представления евразийцев повлияли на их культурологические взгляды, в которые они внесли новые положения о связи культуры с «месторазвитием». Вот их аргумент: «Естественные условия равнинной Евразии, ее почва и особенно степная полоса, по которой распространилась русская народность, определяют хозяйственно-социальные процессы евразийской культуры. Все это возвращает нас к основным чертам евразийского психологического уклада, к осознанию ограниченности социально-политической жизни и ее связи с природой, к „материковому“ размаху, к „русской широте“ и к известной условности исторически устоявшихся форм, к „материковому“ национальному самосознанию в безграничности, которое для европеизированного взгляда часто кажется отсутствием патриотизма, т. е. патриотизма европейского»34. Евразийцы считают, что в русской культуре сочетаются европейские и азиатские элементы, что она прочно связана с миром азиатских культур. В результате она становится представительницей не только европейской, но и неевропейской культуры.
Еще один аспект культурологии евразийства заключается в отрицании «абсолютности» западно-европейской культуры, являющейся якобы вершиной культурной эволюции мира. Европейской «общечеловеческой» культуре евразийцы противопоставили тезис об относительности многих установок европейского сознания. Деление народов на «культурные», «малокультурные», «некультурные» и «дикие» не выдерживает критики и является надуманным. Н. С. Трубецкой в работе «Европа и человечество» (1920) подверг критике аргументы такого противопоставления.
Отрицая культурный европоцентризм, Н. С. Трубецкой, как и другие евразийцы, утверждает взаимодействие культур евразийских народов в тенденции субкультурной интеграции, при устойчивой самоценности и самобытности каждого из них.
Евразийские идеи продолжают жить и сегодня; они используются для решения ряда современных, особенно геополитических, проблем. Одним из самых значительных неоевразийцев является редактор журнала «Элементы» А. Дугин.
В отличие от классических евразийцев, понятие «Евразия» у Дугина, как и у идеологов «новых правых», включает в себя не только историческую Россию, но и весь одноименный материк.
По-своему развивая концепцию традиционного евразийства, в рамках которого Россия-Евразия была обозначена как «континент-океан», А. Дугин противопоставил две культуры — океаническую (культуру атлантистов) и концептуальную (культуру евразийцев). Процесс исторического развития рассматривается им в виде непрерывного противостояния этих непримиримых культур (Великая война континентов), в ходе которой попеременно та или иная сторона одерживала победу.
В поисках духовных оснований для противопоставления России и Запада Дугин постоянно обращается к своей версии «сакральной традиции». Здесь он, на наш взгляд, вступает в противоречие с провозглашенным им же самим принципом «почва выше крови», так как идея «почвы» оказывается «мистикой крови». Дугин считает, что каждый народ имеет свою собственную миссию, «глубинные сакральные причины» существовать именно в данном пространственно-временном периоде, совершать именно данные деяния, появляться и исчезать именно в данные моменты истории.
По мнению Дугина, Россия отлична от других «сакральных регионов» Востока гораздо в большей степени, чем сами они отличаются друг от друга. Одной из главнейших особенностей России он считает отсутствие в ее духовной культуре сложной и изощренной метафизики, составляющей в определенном смысле сущность, духовности восточно-индуистского, буддистского, даосского и исламского типов.
Общекультурная ценность евразийской общности связана с тем, что она перспектива для Содружества Независимых Государств, открывает дорогу в новый Союз народов. Сейчас интеграционные тенденции являются характерной чертой мирового развития. На авансцену истории выходят новые геополитические и культурные общности. Поэтому евразийские идеи с их преемственностью культур, систематичностью и открытостью различным влияниям при одновременном сохранении самобытности могут послужить отправной точкой для построения новых социальных и культурных общностей.[1][2]
- 20 Эрн В. Ф. Сущность немецкого феноменализма // Эрн В. Ф. Сочинения. С. 325.
- 21 Эрн В. Ф. Время славянофильствует // Там же. С. 389—390.
- 22 Евразийство: Декларация, формулировка, тезисы. Прага, 1932. С. 7.
- 23 Цит. по: Глобальные проблемы и перспективы цивилизации: Феномен евразийства. М., 1993. С. 9.
- 24 Савицкий П. Н Россия, особый географический мир. Прага, 1927. С. 45—46.
- 25 Савицкий П. Н. Евразийство… // Евразийский временник. Кн. 4. Берлин, 1925. С. 6.
- 26 Вернадский Г. В. Начертание русской истории. Прага, 1927. Ч. 1. С. 8.
- 27 Там же. С. 5.
- 2Х Вернадский Г. В. Начертание русской истории. С. 21.
- 29 Там же. С. 23.
- 30 Трубецкой Н. С. Наследство Чингисхана. Берлин, 1925. С. 12.
- 31 Там же. С. 31.
- 32 Там же. С. 32.
- 33 Замалеев А. Ф. Курс истории русской философии. М., 1995. С. 157.
- 34 Евразийство: Опыт систематического изложения. Париж, 1926. С. 35.
- [1] Цит. по: Взыскующие града. М., 1997. С. 30. 2 Эрн В. Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности // Эри В. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 76—77. 3 Эрн В. Ф. Культурное непонимание // Там же. С. 115. 4 Эрн В. Ф. Борьба за Логос // Там же. С. 79. 5 Эрн В. Ф. На пути к логизму // Там же. С. 288—289. 6 Там же. С. 291—293. 7 Гессен С. И., Степун Ф. А. [От редакции] // Русская философия: Конец XIX —начало XX века: Антология. СПб., 1993. С. 420—421. 8 Эрн В. Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности // Там же. С. 92. 9 Там же. С. 93. «> Там же. С. 94—95.
- [2] Там же. 12 Франк С. Л. О национализме в философии // Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 104. 13 Эрн В. Ф. Культурное непонимание. С. 112. 14 Там же. С. 113. 15 Эрн В. Ф. Нечто о Логосе // Эрн В. Ф. Сочинения. М» 1991. С. 80. 16 Эрн В. Ф. От Канта к Круппу // Там же. С. 308—309. 17 Там же. С. 310. 18 Там же. С. 311—312. 19 Там же. С. 313.