«И счастлив я печальною судьбой»: иван бунин (1870-1953)
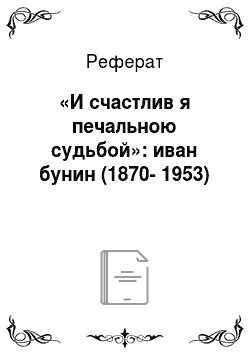
Еще И. Ильин отметил пристрастие Бунина к синтаксическим конструкциям, в которых подлежащее не стоит на первом месте, а уходит вглубь фразы, тем самым усиливая ее зрительность. Другая особенность стилистики Бунина — «графичность». Этим он решительно отличается от И. Шмелева, пишущего «маслом». Читатель без труда найдет подтверждение слов Арсеньева, об особенностях его зрения и слуха (гл. XV, кн… Читать ещё >
«И счастлив я печальною судьбой»: иван бунин (1870-1953) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В результате изучения материала данной главы студент должен: знать
- • основную проблематику эмигрантского творчества И. Бунина;
- • повесть «Митина любовь», рассказ «Солнечный удар», книгу «Темные аллеи», роман «Юность Арсеньева»;
- • основные отечественные и эмигрантские исследования творчества Бунина; уметь
- • объяснять решение темы жизни — любви — смерти — памяти в прозе И. Бунина;
- • проанализировать несколько рассказов из «Темных аллей»;
- • выделять тему России в эмигрантском творчестве писателя;
- • сравнивать публицистику Бунина («Окаянные дни») и Д. Мережковского; владеть навыками
- • анализа бунинской прозы;
- • соотнесения прозы эмигрантского периода и дореволюционного творчества писателя;
- • подготовки собственных рефератов об отдельных сторонах творчества Бунина.
и очень приветлив в одно и то же время… Он казался мне человеком другой эпохи и другого времени"[1], — так вспоминает о своей встрече с Иваном Алексеевичем Буниным летом 1946 г. в Париже советский поэт Константин Симонов, до этого никогда нс видевший знаменитого писателя.
А вот что говорит о позднем Бунине близко знавший его и до революции Георгий Адамович: «С возрастом он стал красивее и как бы породистее. Седина шла ему, шло и то, что он сбрил бороду и усы. Появилось в его облике что-то величавое, римски-сенаторское»[2]. Это о внешности. И тут же — о сущем: «Он был на редкость умен… Людей видел насквозь, безошибочно догадывался о том, что они предпочли бы скрыть, безошибочно улавливал малейшее притворство. Думаю, что вообще чутье к притворству — а в литературе, значит, ощущение фальши и правды — было одной из основных его черт»[3]. Это не мешало ему, как о том свидетельствуют все мемуаристы, часто быть капризным и несправедливым, высокомерным, ироничным, чрезмерно обидчивым. «Характер у меня тяжелый, — признавался он Ирине Одоевцевой. — Не только для других, но и для меня самого. Мне с собой не всегда легко… Свирепый эгоист, эгоцентрик, мнящий себя солыо земли? Так ведь? А о моей душе вы подумали? У меня ведь душевное зрение и слух так обострены, как физические, и чувствую я все в сто раз сильнее, чем обыкновенные люди, и горе, и счастье, и радость, и тоску. Просто иногда выть на луну от тоски готов. И прыгать от счастья. Да, даже и сейчас, на восьмом десятке»[4].
К моменту своей эмиграции Иван Алексеевич Бунин был автором двух поэтических книг (за одну из них он получил Пушкинскую премию), выпустил два собрания своих сочинений (в пяти и шести томах), печатался в самых крупных изданиях России. Его переводы «Песни о Гайаватс» Г. Лонгфелло и философских драм Дж. Байрона считались вершинами переводческого искусства. В 1909 г. его избрали почетным академиком Императорской академии наук.
Аристократ духа, гордившийся своим древним родом и пророчески предсказавший в своем дореволюционном творчестве крушение милых его сердцу дворянских усадеб, патриархальных отношений и стабильности и наступление бездуховности, делячества и хаоса, Бунин не мог принять Октябрьский переворот и 26 января 1920 г. на французском корабле покинул Одессу. Подробности этого путешествия описаны в рассказе «Конец» (1921). Через Константинополь, Софию, Белград писатель и его жена Вера Николаевна Муромцева (1881 — 1961) с большими трудностями (о них рассказано писателем в эссе 1940 г. «Гегель, фрак, метель») добрались до Франции. Здесь в небольшом городке Грассе и прошла большая часть жизни писателя. Тут в ноябре 1933 г. застало его известие о присуждении Нобелевской премии по литературе, как говорилось в решении Шведской академии, за «правдивый артистичный талант, с которым он воссоздал типичный русский характер». Бунин был первым русским писателем, удостоенным этой высшей мировой награды.
Это было событие и в жизни всей русской эмиграции. Именно тогда в Берлине вышло новое 12-томное собрание сочинений Бунина. Но в жизни самого лауреата особых изменений не произошло. Деньги довольно быстро разошлись (в том числе и на помощь нуждающимся писателям), а новых почти не было: для широкого западного читателя труднопереводимый Бунин оставался слишком русским и непонятным. Бунины и живущие в его доме писатели Г. Кузнецова и Л. Зуров если не бедствовали, то вели весьма скромное существование. Попытки немецких властей, оккупировавших Францию, уговорить Нобелевского лауреата опубликовать в профашистской прессе хотя бы нейтральные рассказы, были Буниным с негодованием отвергнуты. После Победы писатель даже несколько раз посетил приемы в советском посольстве в Париже, за что был подвергнут травле со стороны крайне правой эмиграции. В то же время он решительно отверг и предложение советских властей вернуться на родину. Не соблазнили его ни перспектива издания в Москве однотомника его произведений, ни — тем более — письма бывших друзей о ждущей его сытой жизни.
До глубокой старости писатель продолжал работать. Талант его не только не иссяк, но вырос. «Изгнание, — утверждает Б. Зайцев, — даже пошло ему на пользу. Оно обострило чувство России, невозвратности, сгустило и прежде крепкий сок его поэзии»[5].
Другое дело, что в эмиграции писатель пересмотрел свои критические оценки русской действительности, присутствовавшие в его дореволюционном творчестве. Теперь, издали, все ушедшее представлялось ему прекрасным и цельным.
Это противостояние отразилось уже в эссе «Далекое» (1922) и «Несрочная весна» (1924), где даже язык прошлого сталкивается с «новоязом» послереволюционных дней. В «Несрочной весне» Бунин, процитировав стихи Е. Баратынского, пишет: «Какой ритм, и какая прелесть, грация, танцующий перелив чувств! Теперь, когда от славы и чести Державы Российской остались только „пупки“, пишут иначе: „Солнце, как лужа кобыльей мочи“». Принцип противопоставления, как отмечает критик и литературовед А. Архангельский, достигает наивысшего предела в публицистической книге-дневнике «Окаянные дни» (1928), где автор стремится «схлестнуть, столкнуть благолепную форму „прежнего“ и бесформенность „нынешнего“, оттенить одно другим, противопоставить одно другому»[6]. Это стремление находит выражение и в форме повествования: «В ритмических перепадах фразы, удлиняющей и замедляющей темп, когда речь заходит о „минувшем“ и — укорачивающейся до телеграфного обрубка, как только в рамку повествования попадает „обновляющаяся современность“»[7].
Критика уже сравнивала пафос «Окаянных дней» с «Несвоевременными мыслями» М. Горького и публицистическими письмами В. Короленко А. Луначарскому. Для всех троих революция — разрушение культуры. Но если для М. Горького и В. Короленко сама революция — слово святое, а происходящее — лишь измена «демократической» революции, призванной возродить массы к созидательному творчеству, то для Бунина революция всегда была хаосом, торжеством тупости и идиотизма русской жизни (впервые тип тупого и самодовольного хама-«революционера» появился еще в «Деревне» в лице Дениски и вырос до страшного обобщения в рассказе 1924 г. «Товарищ Дозорный»); резко критическое отношение писателя к революции и революционерам перейдет и в написанную уже после «Окаянных дней» «Жизнь Арсеньева» — гл. XII кн. 2 и гл. XIII кн. 4. Отсюда и больший трагизм книги Бунина.
Не менее интересно сравнить «Окаянные дни» с «Петербургским дневником» 3. Гиппиус, тем более, что оба произведения сохраняют форму дневниковых записей. Общность проклятий и эмоциональность не могут заслонить по меньшей мере двух существенных отличий. 3. Гиппиус только свидетельствует, гневается, художественно разоблачает. Книга Бунина, обладая всем этим, еще и содержит размышления, исторические параллели. В Библии, французской революции, книгах А. Радищева и А. Герцена, в пушкинских строках ищет автор сходство с сегодняшними событиями и их объяснение: Бунин использует здесь прием, удачно найденный еще в 1924 г. в эссе «Богиня разума». Главное настроение автора «Петербургского дневника» — отчаяние, разочарование в России. «Тупость» и «скука» — ключевые слова 3. Гиппиус: все рушится, почти ничего не сохранено. У Бунина же всегда в качестве противовеса присутствует светлое прошлое.
«Чрезвычайной силы как бы мифологическое переживание прошлого (Россия) — вот чем полны „Солнечный удар“, „Митина любовь“, „Жизнь Арсеньева“», — справедливо пишет Б. Зайцев[8]. Сам Бунин выразил это в миниатюре «Роза Иерихона». «Сухие, колючие стебли, подобные нашему перекати-поле» (читатель не может не заметить в этих определениях аллегории. — В. А.), рассказывает Бунин, расцветают, едва их положат в воду. «И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память! В живую воду сердца, в чистую влагу погружаю я корни и стебли моего прошлого — и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный злак».
Благодарная память пронизывает самую лирическую книгу писателя «Жизнь Арсеньевич (1927—1952).
Бунин сознательно не хотел говорить о том плохом, что было в России до революции. И так же сознательно хотел показать драматическую судьбу русского интеллигента, аристократа духа на рубеже двух веков.
Уже первые строки романа — об ощущении единства человека с родом, о соучастии с «отцы и братии наши, други и сродники» в «служении жизни», о «непрерывности крови и породы» и о благородстве как гарантии этой непрерывности.
На протяжении всего романа его главный герой Алексей Арсеньев преодолевает свое одиночество (слово это одно из ключевых в книге). Детский мир вопреки писательским стереотипам представляется Бунину «скудным», а время младенчества «несчастным, жалким». И лишь по мере приобщения к жизни, «обитель» бытия наполняется смыслом: мальчик ощущает природу, живущих рядом сестер, няньку, родителей. Минует «младенческое одиночество». Мир расширяется. В него входит мальчишкаподпасок, неизбежная для русского человека дорога, Елец, Орел, Крым, Харьков, — почти вся Россия.
Ни в одном другом произведении Бунина нет столь широкого географического, пространственного размаха. «Великий пролет по всей карте России» совершают герой и читатель.
С удивительной тонкостью рисует писатель русскую природу. Самые обыденные ее явления наполняются у Бунина лиризмом, становятся поэтическими видениями: «Стали по вечерам причудливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие весенние тучи, стали заводить свои трепетные трели лягушки на пруду в поле, в медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночыо благодатный, теплый дождь… И опять, опять ласково и настойчиво потянула меня в свои материнские объятья вечно обманывающая нас земля…». «Во дворе был старый каменный колодец, перед флигелем росли две белые акации, возле крыльца дома, затеняя правую сторону стеклянной аллеи, поднималась темная вершина каштана. Все это летним утром было часам к семи уже горячо, ярко, солнечно, однообразно оглушалось вопросительно-растерянными восклицаниями кур из курятника, но в доме, особенно в задних комнатах, выходивших окнами в сад, было еще прохладно».
Еще И. Ильин отметил пристрастие Бунина к синтаксическим конструкциям, в которых подлежащее не стоит на первом месте, а уходит вглубь фразы, тем самым усиливая ее зрительность[9]. Другая особенность стилистики Бунина — «графичность». Этим он решительно отличается от И. Шмелева, пишущего «маслом». Читатель без труда найдет подтверждение слов Арсеньева, об особенностях его зрения и слуха (гл. XV, кн. 2). И не только в пейзажах, но и в портретах персонажей, как развернутых («гигант гусар в красном доломане, с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергично и как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше же всего гордо и легко откинутой назад головой в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и крепко, и красиво вьющейся рыжей острой бородкой»), так и лаконично-выразительных («толстая рябая хозяйка с длинной верхней губой»; «адвокат, дородный, огромный, толстогрудый, толстоплечий, с тяжелыми ступнями»; у нищего «жидко-бирюзовые глаза застарелого пьяницы и огромный клубничный нос — тройной, состоящий из трех крупных, бугристых и породистых клубник»).
Зрение автора фиксирует и детали интерьера («черные образа в углу, за старинными окнами с цветными верхними стеклами (лиловыми и гранатовыми) видны деревья и небо»), и схожесть гроба с «фиолетовым ящиком». Он улавливает «густо-ворчливую» интонацию голоса, нечто «высокое и страшное» в обыкновенном скрипе шагов по снегу, «раздирающий уши свист» паровоза и вырывающийся из машины «ослепляющий пар». Не менее тонко переданы запахи: старинные книги пахнут сыростью и плесенью, «сухим металлическим жаром, березовым и чугунным запахом» веет в купе поезда, холодом и смрадом несет от покойника, а темнота в избе оказывается «теплой и вонючей».
Алеша Арсеньев испытывает первое чувство влюбленности. В книгу входят Анхен, Лиза Бибикова, первая женщина — Тонька. Многочисленные смерти (дворового мальчишки Сеньки, Нади, Писарева, Алферова) возвращают героя к трагическим раздумьям о смысле жизни, об одиночестве человека в мире и заставляют вновь и вновь искать решения всех этих вопросов. В самые трудные мгновенья сомнений и нерешительности на помощь Алексею Арсеньеву приходят Сервантес (1547—1616) и Пушкин, Лермонтов и Гоголь, даже Надсон (1862—1887). Особую роль в преодолении одиночества героя отводит Бунин «Слову о полку Игореве» (гл. XVI кн. 4). Поэтично говорится в романе о Боге, о церкви (гл. XVI кн. 1; гл. IX и XIV кн. 2; гл. XIV кн. 5). Однако христианство не играет в жизни бунинского героя той роли, что у И. Шмелева или Б. Зайцева.
Главными и решающими в жизни Алексея Арсеньева станут творчество и любовь. Именно эти две темы — в центре пятой книги романа, известной и как отдельное произведение под названием «Лика». Счастье творчества, неутолимая жажда «бродничества», присущая русскому человеку вообще и художнику особенно, приходят в противоречие с житейски понятным требованием женщины быть верным только ей. Герой страдает от неспособности возлюбленной всецело отдаться ему, проникнуться его болями и радостями. Одиночество, столь тяготившее раньше, теперь оказывается необходимым элементом жизни, творчества. И тогда любовь становится трагедией для обоих.
Исследователи так до сих пор и не пришли к единому мнению о трактовке финала романа. Она отнюдь не «розовая»: Лика умерла, герой чуть не кончил жизнь самоубийством. И все же финал романа («Недавно я видел ее во сне — единственный раз за всю свою долгую жизнь без нее… Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда»), и несколько более раннее описание чувств Алексея, выраженное в характернейшем для Бунина соединении слов «скорбь и молодость». В черновом варианте романа содержится фраза: «Жизнь, может быть, дается нам единственно для состязания со смертью, человек даже из-за гроба борется с ней: она отнимает от него имя — он пишет его на кресте, на камне, она хочет тьмой покрыть пережитое им, а он пытается одушевить его в слове».
В сознании Бунина и его художественном мире постоянно боролись эти два отношения к жизни. Еще в дореволюционном рассказе «Сны Чанга» говорится о двух постоянно сменяющих друг друга правдах: «первая та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших». С годами Бунин все более убеждался в наличии этой дихотомии, что нашло отражение в повести «Митина любовь» и рассказе «Солнечный удар» (1925).
Герой повести весь находится в экстазе любви к Кате. Любовь у Бунина многогранна и включает в себя описания телесной близости персонажей. Писатель говорит не только о «милом, хорошеньком личике» Кати, о «ее свежести, молодости, где женственность еще мешалась с детскостью», но и о том, что «глаз на глаз, делал с ней» Митя: «Он расстегивал ее кофточку и целовал ее грудь, райски прелестную и девственную, раскрытую с какой-то душу потрясающей покорностью, бесстыдностью чистейшей невинности».
Но всякий раз герой (а с ним и автор) задается вопросом: «Душа Кати или тело доводило его почти до обморока, до какого-то предсмертного блаженства?».
Это блаженство так велико, что обнимает весь окружающий мир. Посещение Большого театра, «дома, улицы… запах пыли и дождя, церковный запах тополей, распустившихся за заборами в переулках», пейзаж за окном поезда, увозящего Митю в деревню, размышления «о молодых бабах, спящих в избах, обо всем том женском, к чему он приблизился за зиму с Катей», — «все слилось в одно, — Катя, девки, ночь, весна, запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодотворению земли, запах лошадиного пота и воспоминание о запахе лайковой перчатки». «В мире была Катя, была душа, этот мир в себе воплотившая и надо всем над ним торжествующая».
«Все любовь, все душа, и все мука, и все несказанная радость», — говорит юный Митя о жизни. «Как хорошо в этом темном и теплом степном мире!».
С присущим ему мастерством пейзажных зарисовок Бунин показывает, как любовная страсть одухотворяет природу: Катя «всему придавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом».
В первой половине повести природа осветляет Митину страсть: «Томное цоканье соловьев вдали и вблизи, немолчное сладострастно-дремотное жужжание несметных пчел, медвяный теплый воздух и даже простое ощущение земли под спиною мучило, томило жаждой какого-то сверхчеловеческого счастья (курсив наш. — В. Л.)».
Ожидание письма Кати сопровождается описаниями природы, дома, тоже приобщенных к этому ожиданию: «И все это: огромная и пышная вершина клена, светло-зеленая гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, солнце, синева неба и все то, что разрасталось в низах сада, в лощине, вдоль боковых аллей и дорожек и иод фундаментом южной стены дома, — кусты сирени, акации и смородины, лопухи, крапива, чернобыльник, — все поражало своей густотой, свежестью и новизной». «И везде в комнаты празднично глядели приблизившиеся к дому разнообразно зеленые, то светлые, то темные, деревья с яркой синевой между ветвями».
Даже вожделение Мити к Соньке: Митя «чувствовал ее ноги, — самое страшное в мире, женские ноги! — касался затылком ее живота, слышал запах ситцевой юбки и кофточки, и все это мешалось с цветущим садом и с Катей».
Ощущение радости бытия передается автором и через введение в текст повести двух стихотворений Л. Фета (1820—1892). Характерно, что Бунин дает только первые, почти нейтральные строки стихотворения «Люди спят; мой друг, пойдём в тенистый сад», полагаясь, что читатель помнит основную мысль этого шедевра Фета: «Слышит сердце, сколько радостей земли, // Сколько счастия сюда мы принесли (курсив наш. — В. Л.)». Иначе цитируется стихотворение «Роза». Здесь Митя произносит основные слова текста Фета, принципиально важные для повести самого Бунина: «Необъятный, непонятный, // Благовонный, благодатный // Мир любви передо мной…». Рядом с ними существует собственно бунинский текст, несколько коррегирующий столь радужное отношение к проблеме любовного бытия: «…Звезды блещут, // Листья медленно трепещут, //И находят облака…».
Однако этот гимн радости Бытия едва ли не с третьей главы сопровождается фальшью. Катя читает Блока с «пошлой певучестью, фальшью и глупостью в каждом звуке… она не говорила, а все время восклицала с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости мольбой, и Митя не знал, куда глаза девать от стыда за нее». Это «была смесь ангельской чистоты и порочности». И чем далее, тем более в осознание радости любви вклинивается то ревность, то — что еще хуже — пошлость. В четвертой главе в поведении самой Кати, кроме искренности и молодости, появлялись, то «притворно-воровские взгляды», то «поспешный шепот».
Уже в пятую главу вклинивается стихотворение М. М. Степанова «Об арабчонке» с его ключевой фразой «Полюбив, мы умираем!». В десятой главе впервые появляется мистически зловещий образ ужаса: «Всю Митину душу потрясший вой, где-то близко, в верхушках аллеи, затрещало, зашумело — и дьявол бесшумно перенесся куда-то в другое место сада. Там он сначала залаял, потом стал жалобно, моляще, как ребенок, ныть, плакать, хлопать крыльями и клекотать с мучительным наслаждением, стал взвизгивать, закатываться таким ерническим смехом, точно его щекотали и пытали… Но дьявол вдруг сорвался, захлебнулся и, прорезав темный сад предсмертно-истомным воплем, точно сквозь землю провалился».
Все дальнейшее развитие повести — скрупулезное исследование взаимодействия страсти и любви. В восьмой главе Митя, «поймав себя на вожделении к этой засученной женской руке и к женственному изгибу тянувшейся вверх девки на окне, к ее юбке, под которую крепкими тумбочками уходили голые ноги, с радостью ощутил власть Кати» («в мире была Катя, была душа, этот мир в себе воплотившая и надо всем над ним торжествующая»).
В десятой главе писатель сопоставляет смерть как ужас небытия и говорит о любви как способе преодоления смерти. Весьма значимо и сопоставление двух наваждений в восприятии весны в сознании Миги. Одно — юношеское, почти детское, после смерти отца, когда даже весна связывается со смертью: «Смерть! Она была во всем: в солнечном свете, в весенней траве на дворе, в небе, в саду… Он пошел в сад, в пеструю от света липовую аллею, потом в боковые аллеи, еще более солнечные, глядел на деревья и на первых белых бабочек, слушал первых, сладко заливающихся птиц, — и ничего не узнавал: во всем была смерть, страшный стол в зале и длинная парчовая крышка на крыльце! Не по-прежнему, как-то не так светило солнце, не так зеленела трава, не так замирали на весенней, только еще сверху горячей траве бабочки, — все было не так, как сутки тому назад, все преобразилось как бы от близости конца мира, и жалка, горестна стала прелесть весны, ее вечной юности!» Иное наваждение, — «совсем другого порядка», — когда в сердце Мити живет любовь: «эта весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чем все прежние весны. Мир опять был преображен, опять полон как будто чем-то посторонним, но только не враждебным, не ужасным, а напротив, — дивно сливающимся с радостью и молодостью».
Даже еще в четырнадцатой главе хотя «„ку-ку! ку-ку!“ [и звучало] - так жутко, так выпукло, так близко и так явственно, что слышен был хрип и дрожание острого язычка», желание, чтобы Катя во что бы то ни стало немедленно дала именно это сверхчеловеческое счастье (вторично использованное словосочетание), охватило Митю так неистово, что он «порывисто вскочил и большими шагами зашагал прочь» от Соньки.
Однако как только Митя «вдруг вообразил, что письма не будет и не может быть, что в Москве что-то случилось или вот-вот случится», едва звучавшая в первых главах тема гибели будет нарастать.
Бунин находит слова, передающие состояние влюбленного юноши: «Он как будто пьян от какой-то тяжкой болезни», «зубы его были стиснуты до боли в голове». Природные перемены «потеряли для него свою самостоятельную ценность, он наслаждался ими только мучительно: чем было лучше, тем мучительнее было ему». Любовь из радостного чувства превратилась в наваждение… «И все в мире стало казаться ненужным, мучительным и тем более ненужным и мучительным, чем более оно было прекрасно».
Красота полей и леса, соловьи, запах елей и жасмина, «зачарованная тишина», — все напоминало ему далекое счастье. И он ощутил как «смертельная бледность стягивает его лицо».
Так в бунинской концепции любви возникает двойная антиномия: красота внешней жизни / воспоминания-страдания о кратком счастье и — шире — жизнь-любовь / смерть без любви. «Митя и сам не мог не понимать, что нельзя и вообразить себе ничего более дикого, как это: застрелиться, раздробить себе череп, сразу оборвать биение крепкого молодого сердца, оборвать мысль и чувство, оглохнуть, ослепнуть, исчезнуть из того несказанно прекрасного мира… Он это понимал, по что же было делать?».
Дальнейшая попытка заменить большую любовь красивым суррогатом (тем более что Аленка показалась ему похожей на Катю), осуществить совет приятеля Протасова уберечься от смертельной любви подчиниться «страшной силе телесного желания, не переходящей в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существа» завершилась полным крахом: «Митя поднялся, совершенно пораженный разочарованием». Чтобы еще больше подчеркнуть пошлость происшедшего, Бунин дает Аленке совершенно будничную фразу: «Вы, говорят, в Субботино ездили. Там поп дешево поросят продает. Правда ай нет? Вы не слыхали?».
Письмо Кати разбило единственно возможное для Мити восприятие «прекрасной любви в том прекраснейшем весеннем мире, который еще так недавно был подобен раю».
В финале Бунин дважды повторяет слово «ужасный»: мир оказался «ужасным», «самым ужасным и отвратном из всех земных снов». Спасти свое представление о любви могла помочь только смерть. Вот почему автор сказал, что Митя «глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил».
«Митина любовь» — одно из первых произведений Бунина, где он показал великую силу любви, воссоздающую прекрасную действительность и смертью побеждающую действительность будничную, пошлую.
Тема любви, целиком захватывающей человека и становящейся его счастьем в этой сумрачной жизни, находит дальнейшее развитие в рассказе «Солнечный удар». Казалось бы обычный дорожный роман вырастает сначала для героини днем большого счастья. «Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло», — признается женщина. Несколько позже подобное чувство испытывает и офицер: «Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею — и пуст. Это было странно!» Чувство странности перерастает в осознание вечной потери. «…Он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Пет, этого не может быть! Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно! И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние». Прогулка по городу, посещение базара усилили осознание пошлости обычной жизни и невосполнимости потери. «…Страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено, — да, поражено, он теперь понимал это, — этим страшным „солнечным ударом“, слишком большой любовью, слишком большим счастьем!».
«Солнечный удар» перекликается с рассказом А. Чехова «Дама с собачкой». То же осознание пошлости жизни, то же спасение в любви. Но у Чехова Гуров и Анна Сергеевна нашли друг друга. И хотя жизнь еще готовит им много сложностей («Казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается»), у них есть любовь.
Персонажи Бунина до смерти обречены на существование в этом мире пошлости, и единственное, что скрасит им жизнь и даст возможность счастья — любовь («много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой»).
Любовь как единственная ценность мира и как средство победить пошлость жизни и даже саму смерть — главная тема сборника рассказов «Темные аллеи» (1937—1945).
Академик Д. С. Лихачев (1906—1999) в статье «Начало и происхождение пейзажных садов» писал, что «прямые и узкие аллеи… составляли обычно самую характерную особенность [русских усадебных садов] — прямые, но нестриженые и с такой тесной посадкой лип, к какой обычно в Западной Европе не прибегали»[10].
Так что уже первое слово в названии книги Бунина проникнуто скрытым лиризмом, отправляет память читателя к России, к родине. Между тем слово «темные» полисемантично (многозначно). Оно ассоциируется и с «таинственным», и с «мрачным», и с подсознательным. Не случайно Бунин однажды сказал: «Чужая душа — потемки. Нет, своя собственная гораздо темней».
Уже в «Жизни Арсеньева» не раз говорится о «пленительно-страшном», что есть в человеке: страсти к убийству (сцены с убийством грача и охотой на дроздов), к самоистреблению. Постоянно занимала Бунина-человека и Бупипа-писателя и тема смерти, обреченности человека, рока (фатума). Не случайно в последние годы он особенно увлекался М. Лермонтовым, завершившим «Героя нашего времени» таинственно-неопределенной главой «Фаталист».
Главная тема «Темных аллей» — любовь — как нельзя лучше сопрягается со всеми названными темами. Бунин идет здесь вслед за мировой литературной традицией (Данте, Петрарки (1304—1374), Шекспира (1564—1616)) и за субъективно нелюбимым им Ф. Достоевским, считавшим, что любовь у русского человека достигает вершин как в возвышении, так и в падении. «Наши русские православные души, — говорил Бунин Ирине Одоевцевой, — лиричны, аскетичны, мрачны и сумасбродны»[11].
Герои Бунина любят страстно, всем сердцем, всей душой. Чувство поражает внезапно, как «солнечный удар», или после непродолжительного знакомства («В Париже»), или вырастает из ненависти («Руся»). Любовь захватывает человека полностью, до готовности покончить самоубийством из-за ухода возлюбленной («Кавказ»), из чувства разочарования («Митина любовь», «Галя Ганская»), до убийства изменницы («Пароход „Саратов“», «Дубки»). Характерно, что социальное происхождение героя при этом не имеет никакого значения: это может быть студент, офицер, артист, крестьянин.
В описаниях любви Бунин не боится плотских подробностей. В «Русе» дважды сказано о смуглом с родинками теле героини, передано любовное исступление персонажей. Бунин любит живописать колени и щиколотки женщин, их голые руки, грудь, талию, страстность объятий. Полемически звучат слова одной из героинь его рассказа — писательницы, которую, как и самого Бунина, ханжеская критика упрекала в «бесстыдстве и низких побуждениях»: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном».
Даже краткосрочная любовь, по мысли писателя, если в ней есть хоть миг подлинного порыва, оправданна, так как противостоит серым будням («Антигона», «Визитные карточки», «Кума»).
Другое дело — и в этом писатель видит извечный трагизм бытия, — что глубокое чувство, страсть краткотечны. Это вспышка в ночи, солнечный луч в серой жизни. Будничные дела, «житейская мудрость» убивают любовь («Галя Ганская»), случайность, невольная измена надолго разлучают возлюбленных («Натали»). Даже если ничто не предвещает трагедии, она происходит, ибо счастье, по Бунину, лишь миг в трагедии жизни: оправдываются мрачные предчувствия нашедшего верную подругу бывшего полковника — он умирает в вагоне метро («В Париже»); недолго длится счастье, но страшны страдания писателя Глебова: его возлюбленная убита ревнивым мужем («Генрих»), умирает при родах едва успевшая вновь обрести любимого Натали из одноименного рассказа.
Бунинское понимание судьбы раскрывает рассказ, давший название всей книге. Два несчастных человека — генерал Николай Алексеевич и его бывшая возлюбленная, ныне содержательница трактира, Надежда, встретились. Любовь женщины превратилась в ненависть («Простить мне вас нельзя»), причем пронесенную через всю жизнь. И, быть может, это уже и не ненависть. Или не только ненависть, а ненависть-любовь, единственное, что соединяет эту женщину с полнокровной жизнью. Да и генерал, понимая, что невозможно представить эту женщину его женой, матерью его детей, тем не менее знает, что мгновения, проведенные с ней когда-то, — единственные истинно счастливые в его жизни.
Рассказ включает в себя стихи Огарева, придающие поэтический оттенок прошлому (с этой же целью введены стихи Фета в «Холодную осень»). В этом проявляется еще одна особенность мастерства Бунина: стихи, цитаты из стихов вводятся в целый ряд рассказов, придавая повествованию особый лиризм.
Противопоставление поэтического прошлого и прозы сегодняшней жизни героя имеется и в «Русе». Тончайший лиризм пейзажа, соотносящегося с Русей, контрастирует с резким и грубым тоном разговора героя рассказа с женой.
Этот прием воспоминания о прошлом счастье из несчастливого сегодняшнего времени персонажа характерен почти для половины рассказов сборника «Темные аллеи».
Используется он и в любимом самим писателей рассказе «Чистый понедельник». В отличие от других новелл здесь широко дана картина русской жизни 1913 г. Более того, как отмечено критикой, Бунин сознательно отступает от реальных фактов, сгущая события, перенося в рассказ эпизоды, происходившие в другое время. Цель таких анахронизмов — показать противоречия русской жизни. Русская старина, храмы, монастыри, старинные кладбища, предания («Житие Петра и Февропии») соседствуют с описанием ресторанов, безвкусных, по мнению писателя, «капустников» Художественного театра, кривляний Андрея Белого, чтением персонажами модных авторов. Столь же противоречив характер героини, лишенной (как часто бывает у Бунина) собственного имени, но наделенной (что многократно подчеркнуто автором) всеми чертами восточной красоты («шамаханская царица»). Восточное влияние, по Бунину, воплотилось в России в стремление к философской созерцательности, вобрало в себя заветы русской духовности, склонность к глубинным поискам смысла жизни. Героиня проходит и все искушения европейской культуры: мира суеты пошлости и мелочности.
Своеобразно и понимание любви в этом рассказе писателя. Если для героя любовь ограничивалась только страстью к женщине, то ей такой любви было недостаточно. Ей нужны были и летописные сказания, и звуки церковных колоколов, и силуэты монастырей и храмов. Она отдавала душу закоулочкам Москвы. Она не могла быть счастлива рядом с красивым, добрым, но совершенно не понимающим ее человеком («Вы меня не знаете»). И потому его любовь не смогла помочь ей обрести духовную гармонию. Она поняла, что существуют более сильные и важные вещи, чем любовь-страсть к мужчине. Подарив рассказчику ночь «Чистого понедельника», сама она уходит в монастырь, чтобы начать новую жизнь, обрести умиротворенность. Другое дело, что финал рассказа не содержит ответа, нашла ли она ее.
В критике нет единого мнения о философско-эстетической позиции Бунина. И. Ильин, отдавая дань уважения огромному таланту писателя, тем не менее считает его лишь певцом «земной плоти», «мастером внешнего зрения», холодным «анатомом» жизни[12]. Человек у Бунина, утверждал философ Русского Зарубежья, «покинет Темные Аллеи своей земной жизни, чтобы исчезнуть в темном провале небытия»[13]. Таким образом, Бунин трактуется как писатель экзистенциальный, трагичный и даже безбожный. Советские критики стремились доказать противоположную мысль: Бунин, несмотря на некоторые пессимистические мотивы, утвердил своим творчеством победу жизни.
Видимо, истина лежит посередине. Ирина Одоевцева вспоминает, как однажды на ее вопрос: смогли бы он сам покончить жизнь самоубийством?, Бунин после долгого раздумья ответил, что он слишком любит жизнь. Герои писателя живут в трагическом мире и бессильны его преодолеть. И прав Л. Долгополов, когда говорит, что Бунин раньше, чем европейские и американские писатели, создал образ человека потерянного поколения[14]. А мы бы добавили: экзистенциального героя. Но тот же ученый подчеркивает, что это «русский вариант» названного литературного типа. А потому он не только осознает трагизм своего положения, но и пытается преодолеть его духовной жизнью, памятью, поэтизацией бытия. Не случайно героиня рассказа «Натали» говорит: «Разве самая скорбная музыка в мире не дает счастья?».
Таким образом, творчество Бунина эмигрантского периода можно рассматривать и как завершение реалистической традиции А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, которых он так любил, и как продолжение экзистенциальных мотивов нелюбимого им Ф. Достоевского, и как перекличку с вызывавшими его раздражение А. Блоком, А. Белым, Ф. Сологубом. Не случайно, прочитав рецензию Л. Ржевского на свои «Воспоминания», рецензию, где критик утверждал, что «реалист Бунин не приемлет символиста Блока», Бунин написал Ржевскому: «Называть меня „реалистом“ — значит или не знать меня как художника, или ничего не понимать в моих крайне разнообразных писаниях в прозе и стихах»[15]. Вот почему правомерно рассматривать книги писателя еще и как художественное предварение прозы «незамеченного поколения» русской эмиграции, воплотившейся в книгах Б. Поплавского и Г. Газданова, и таких писателей метрополии, как Ю. Казаков (1927;1982), В. Шукшин (1929;1974), Ю. Трифонов (1925;1981).
Литература
(аннотированный список)
1. Бунин, И. Собрание сочинений: в 6 т. / И. Бунин. — М.: ТЕРРА, 1997.
В томе 1 представлены стихотворения Бунина 1888—1917 гг. Тома 2—3 включают дореволюционные произведения писателя 1887—1914 гг. В том 4 вошли произведения 1914—1931 гг. Том 5: «Жизнь Арсеньева»; проза 1930 г.; стихотворения 1918—1952 гг.; переводы. Том 6: «Освобождение Толстого»; «О Чехове»; воспоминания, дневники. Это наиболее полное Собрание сочинений писателя.
2. Русские писатели — лауреаты Нобелевской премии. Иван Бунин. — М.: Мол. гвардия, 1991.
Включает в себя Нобелевскую речь Бунина, эссе «Последняя весна», «Последняя осень», «Богиня разума», книгу «Окаянные дни», воспоминания «Конец» и «Далекое», миниатюры «Святитель», «Товарищ Дозорный», «Роза Иерихона». В приложения включены воспоминания писателя, а также В. Н. Муромцевой-Буниной и Г. Н. Кузнецовой о получении писателем Нобелевской премии.
Книга предваряется глубоким и тонким очерком критика и литературоведа А. Н. Архангельского «Последний классик», прослеживающим основные темы, мотивы творчества писателя и эволюцию его художественного метода.
3. Муромцева-Бунина, В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью /.
В. Н. Муромцева-Бунина. — М.: Сов. писатель, 1989.
Это первое отечественное издание опубликованных в 1958 г. в Париже воспоминаний жены Бунина Веры Николаевны (1881—1961). С тех пор книга многократно переиздавалась. Первая часть охватывает период с 1870 но 1906 г. Собраны материалы биографии писателя, дана творческая история ряда произведений. Вторая часть, более мемуарная, доведена до 1910 г. Отдельная глава посвящена вручению Нобелевской премии.
Книга предваряется статьей А. К. Бабореко «Поэзия и правда Бунина». Имеется алфавитный указатель имен.
4. Кузнецова, Г. Грасский дневник / Г. Кузнецова; сосг., вступ. статья, коммент. О. Р. Демидовой. — СПб.: М1ръ, 2009.
Книга впервые была опубликована в Вашингтоне в 1967 г. Галина Николаевна Кузнецова, поэт, прозаик, переводчица, жила в доме Буниных с 1927 по 1942 г., помогала писателю в работе над изданиями его книг. Уже покинув семью Буниных и переехав в СЛИЛ, состояла с ним в переписке. Содержит записи разговоров с писателем, его высказываний.
5. Ильин, И. О тьме и просветлении: книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев // Ильин, И. Собрание сочинений: в 10 т. — Т. 6. — Кн. I. — М.: Русская книга, 1996.
Книга выдающегося религиозного философа Русского Зарубежья И. А. Ильина издана посмертно в 1959 г. Ильин видел в Бунине великого художника, не сумевшего тем не менее подняться до высот христианского религиозного сознания. При неполноте исследования (в поле зрения автора не попали ни «Темные аллеи», ни книга о Л. Толстом) работа содержит глубокие наблюдения, тонкий анализ художественного мира писателя.
6. Долгополов, Л. На рубеже веков: о русской литературе конца XIX начала XX в. / Л. Долгополов. — Л.: Сов. писатель, 1977. С. 274—358.
Книга включает в себя главы о Бунине: «Литературное движение века и Иван Бунин» и «Рассказ „Чистый понедельник“ в творчестве Бунина эмигрантского периода». Ученый высказывает мысль о том, что творчество Бунина, но своей трагедийности вписывалось в философско-эстетические поиски не только реалистов, но и русских символистов, предваряло литературу «потерянного поколения».
7. Михайлов, О. Я. Бунин / О. Н. Михайлов // Литература русского зарубежья: 1920—1940. — М.: Наследие-Наука, 1993.
Статья одного из ведущих буниноведов, много сделавшего для возвращения книг писателя к отечественному читателю, рассматривает связь творчества Бунина с русской классической традицией. Подробно анализируется книга о Л. Толстом. Выявлены особенности стиля позднего Бунина. Приводится ряд редких документов, дневниковых записей писателя. Обширный библиографический аппарат позволяет читателю познакомиться с редкими и до сих пор малоизвестными книгами о Бунине.
8. Саакянц, А. Жизнь Арсеньева / А. Саакянц // Бунин, И. А. Собрание сочинений: в 3 т. — Т. 3. — М.: Худож. лит., 1982.
Рассмотрено художественное своеобразие книги, вопрос о соотношении факта и вымысла. Намечена линия Арсеньева-художника.
9. Мальцев, 10. Бунин / Ю. Мальцев. — Франкфурт-на-Майне. — М.: Посев, 1994.
Книга дает систематическое исследование жизни писателя, трактует его творчество как неореалистическое и феноменологическое. Приводится обширнейшая библиография, в том числе работ зарубежных русских и иностранных исследователей (с. 409−431).
- [1] Симонов К. М. Истории тяжелая вода. М., 2005. С. 217.
- [2] Дальние берега: (портреты писателей эмиграции). М.: Республика, 1994. С. 11.
- [3] Там же. С. 12.
- [4] Одоевцева И. На берегах Сены. М.: Худож. лит., 1989. С. 253.
- [5] Зайцев Б. Бунин (речь на чествовании писателя 26 ноября 1933 г.) // Зайцев Б. К. Братья-писатели [Электронный ресурс] // Предание. ги: благотворительный фонд. URL: http://predanie.ru/zaycev-boris-konstantinovich/book/73 683-bratya-pisateli/ (дата обращения:17.01.2017).
- [6] Архангельский А. Последний классик // Бунин И. [Избранное] / сост. и вступ. очеркА. II. Архангельского. М.: Мол. Гвардия, 1991. С. 17.
- [7] Архангельский А. Последний классик // Бунин И. [Избранное] / сост. и вступ. очеркА. Н. Архангельского. М.: Мол. Гвардия, 1991. С. 17—18.
- [8] Зайцев Б. Бунин (речь на чествовании писателя 26 ноября 1933 г.).
- [9] Ильин И. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6. Кн. 1. С. 249.
- [10] Лихачев Д. С. Начало и происхождение пейзажных садов [Электронный ресурс] //День за днем: Наука. Образование. Культура. URL: http://www.den-za-dncm.ru/page.php?articlc=255 (дата обращения: 01.02.2017).
- [11] Одоевцева И. На берегах Сены. С. 263.
- [12] Ильин И. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6. Кн. 1. С. 215.
- [13] Там же. С. 266.
- [14] Долгополов Л. На рубеже веков. Л.: Сов. писатель, 1977. С. 313.
- [15] Русская литература XX века: итоги и перспективы. М., 2002. С. 351.