«Сквозь огнь скорбей»: алексей ремизов (1877-1957)
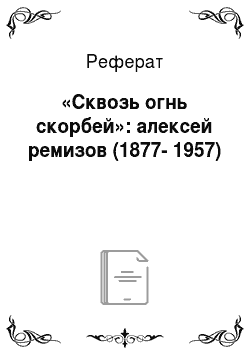
Все писавшие о Ремизове неизменно отмечали его необычную внешность. «Сутулый, схожий чем-то с Коньком-горбунком, чуть-чуть вприсядочку бежит по Невскому человек, колюче выглядывающий из-за очков, в пальтеце и шапочке… Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно принюхиваясь к тому… Читать ещё >
«Сквозь огнь скорбей»: алексей ремизов (1877-1957) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В результате изучения материала данной главы студент должен: знать
- • одно-два произведения автобиографического цикла;
- • мифологизированную прозу, стилизованную под старину;
- • художественное своеобразие прозы А. Ремизова; уметь
- • анализировать основные особенности книги «Взвихренная Русь»;
- • сравнивать ремизовские пересказы-переложения с оригиналами, выделяя замысел писателя;
- • характеризовать стиль ремизовского письма; владеть навыками
- • выделения архетипов в творчестве А. Ремизова;
- • анализа и объяснения темы любви в творчестве писателя;
- • подготовки собственных рефератов об отдельных произведениях Ремизова.
Все писавшие о Ремизове неизменно отмечали его необычную внешность. «Сутулый, схожий чем-то с Коньком-горбунком, чуть-чуть вприсядочку бежит по Невскому человек, колюче выглядывающий из-за очков, в пальтеце и шапочке… Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно принюхиваясь к тому, что излетает из выпяченных уст»[1]. Таким запомнил Ремизова 1918 г. писатель К. Федин. Через много лет почти такой же портрет Ремизова в Париже создал В. Яновский: «Горбатый гном, закутанный в женский платок или кацавейку, с тихим внятным голосом и острым, умным взглядом… Передвигалось это существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной самодельными монстрами и романтическими чучелами»[2]. Ремизов тщательно поддерживал такой образ чудака, хранителя старины, всеми гонимого юродивого XX века. Но за этой внешностью скрывался острый ум, любовь к игре, в которую он уходил от «века-волкодава». Оборванное нами описание Федина заканчивается словами: «Уста (Ремизова. — В. А.) глаголят нечто скорбное, или рекут гневное, или лепечут нежное, или струят язвительное, или изливают сердечное, и все это в изысканном, но в таком русском слове, какое обмывалось на красных блюдах, протиралось расшитыми полотенцами, хоронилось на божницах либо доходило к нам в кованых родительских рундуках»[3].
Алексей Михайлович Ремизову как и Иван Шмелев, родился в Москве, в купеческой семье. Москва с ее сорока сороками церквей, легендами и русскостью и строго-религиозное образование выработали у него неискоренимый интерес к старине, фольклору, русской мифологии, к протопопу Аввакуму, к языку допетровской эпохи. «С детства в мой слух незаметно вошло — песенный строй: лад древних напевов», — вспоминал писатель. И слово «люблю», первозвук слова и сочетание звуков. «Люблю московский напевный говор, люблю русские природные опущения слов (эллипс), когда фраза глядится, как медовые соты; люблю путаницу времен — движущуюся строчку, с неожиданным скачком и — сел; чту и поклоняюсь разумному слову — редчайшее среди груды тусклых дурковатых слов безлепицы, но приму с радостью безумную выпуль и вздор, сказанные на свой глаз и голос», — писал Ремизов в книге «Иверень». Огромное влияние оказали на него бытовавшие в его среде рассказы о домовых, ведьмах, чертях и прочей нечисти; предания о сверхъестественных, иррациональных (как он будет позже говорить — инфернальных) силах. В той же книге в главке «Писатель» Ремизов указал и литературные на него влияния: Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, А. Ф. Вельтман (1800−1870), В. И. Даль (1801−1872). К этим именам бесспорно следует добавить Э. Т. А. Гофмана (1776—1822).
Несмотря на то, что семья была богатой, он с детства познал нужду (мать ушла от отца к братьям, не одобрявшим этого шага и ограничившим непокорную сестру и ее шаловливого сына в средствах). Нужда преследовала его во время учебы в Московском университете. Сочувствие к бедным и угнетенным привело его на время в стан революционеров-народников. Случайный арест весной 1896 г. (Ремизов заступился за избиваемых полицией студенток на демонстрации) имел серьезные последствия: он был исключен из университета и сослан сначала в Пензу, потом в УстьСысольск и затем в Вологду, где познакомился с Н. Бердяевым, Б. Савинковым, П. Щеголевым (1877—1931), А. Луначарским (1875—1933). Здесь он встретился с Серафимой Павловной Довгелло (1876—1943), ставшей его женой и другом. Там же были созданы первые литературные произведения, отвергнутые реалистами А. Чеховым, В. Короленко, М. Горьким, но понравившиеся неотреалисту Л. Андрееву. Так с 1902 г. началась творческая жизнь писателя.
К 1917 г. Ремизов был уже автором нескольких книг («Посолонь», «Лимонарь», «За святую Русь. Думы о родной земле»), двух романов («Пруд» и «Часы»), повестей «Неуемный бубен» и «Крестовые сестры» и др. В издательстве «Сирин» вышло его восьмитомное собрание сочинений. Он был признан теперь и М. Горьким. А. Блок посвятил ему стихотворение «Болотные чертенята». Среди друзей и ценителей его таланта А. Белый, В. Розанов, А. Ахматова, М. Кузмин, Н. Бердяев.
Ремизов остро ощущал надвигающуюся катастрофу. 5—7 октября 1917 г., за несколько дней до Октябрьских событий, он написал «Слово о погибели Русской Земли» (опубликовано 29 октября), в январе 1918 г. — «Заповедное слово русскому народу». Оба они перекликаются с апокалиптическими предвидениями его друга В. Розанова. Ремизов обращается с призывом: «Остановитесь же, вымойте руки — они в крови, и лицо — оно в дыму пороха. Земля ушла, отодвинулась… Русский народ, что ты сделал? Искал свое счастье и все потерял». Писатель не приемлет «бунтующую Россию», вслед за А. Пушкиным и Ф. Достоевским считая, что не приведи Господь увидеть «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». «Бунтом жить невозможно», — говорил он в 1921 г. в «Слове», посвященном 40-й годовщине смерти Ф. Достоевского. Болью и страстью пронизаны слова писателя об ушедшей России: «Ни песен, ни звезд. Все закрыто, зачернено, приглушено. И куда ни глянь, одна костлявая неразлучная горькая разлучница мать-беда… Россия нищая, холодная, голодная горит огненным словом». И тут же, несмотря ни на что, утверждал, что рано или поздно «из-горим», «и над просторной изжаждавшей Россией, над выжженной степью и грозящим лесом зажгутся ясные верные звезды».
В 1921 г. Ремизовы решились на отъезд. «В суровое августовское утро, — писал Ремизов, — покорные судьбе, в скотском вагоне, как скот убойный, мы подъезжали к границе, оставляя русскую землю». Горсть этой земли Алексей Михайлович зашил в ладанку, с которой не расставался до смерти.
Из Ревеля супруги переехали в Берлин, а в 1923 г. — в Париж, где на улице Буало в доме номер 7 на втором этаже в двухкомнатной квартире прошла почти безвыездно жизнь писателя. Он оставался верен себе: в его кабинете куковала кукушка (что и дало название комнате — «кукушкина»). Возле нее на фоне золотой бумаги — сухая веточка, напоминающая фигурку человека с привязанной на шнурке гладкой шишкой — Эспри. На протянутых по комнате бечевках разные звери, пестрые человечки, красное сердце, клешня, носатая птица, рыбьи скелеты, косточки — колдовские символы. Тут же тибетское ожерелье — подарок Рерихов, его собственные картинки. Еще в 1908 г. он создал «Обезьянью Великую и Вольную Палату» (сокращенно «Обезвелволпал») — символ противостояния лживому миру реальности, присвоил себе титул «старшего канцеляриуса» и выписывал им же избранным членам Палаты написанные каллиграфическим почерком[4] «обезьяньи лавровые грамоты». Он продолжал выдавать их и в Париже. Князьями и кавалерами ремизовского «Обезвел вол пала» были Б. Зайцев (имел ряд «званий»: музыкант и куафер обезьяний, Стрекоза, Князь-Епископ), И. Бунин (Полпред Баскский, Великий Муфтий), Е. Замятин (Замутий), востоковед В. Никитин (Эмир обезьяний). В этой игре было и нечто серьезное: она помогала романтизировать жизнь, уходить от скучной, как говорил писатель, «необходимости земной». «Было много радостного, — вспоминает узнавшая его только в эмиграции и ставшая его добровольным литературным секретарем Наталья Резникова. — А. М. очаровывал людей, попадавших у него в обстановку искусства, веселых шуток, необычного оживления»[5]. Это была одна сторона жизни Ремизова.
Характерно, однако, что сам писатель хотел оставить потомкам другой портрет, о чем настойчиво просил другую мемуаристку — Н. Кодрянскую: страдальца, искупающего своими страданиями печальную участь своей родины. «В течение всей своей жизни, — вспоминала Н. Резникова, — он всегда подчеркивал свою нужду, неустроенность и заброшенность»[6].
Жизнь Ремизовых в эмиграции действительно не была легкой. Несмотря на высокую оценку его творчества среди эмигрантской элиты, Ремизов не был понятен широкой читательской аудитории. С 1932 г. до начала 1950;х гг. ему не удалось издать ни одной книги: он переписывал их от руки и дарил (иногда продавал). Приходилось прилагать немалые усилия, чтобы печататься в журналах и зарабатывать себе на хлеб. Особенно тяжело жилось Ремизовым в годы оккупации Парижа немцами. Но и тогда, и впоследствии им помогали многочисленные друзья (Л. Шестов, С. Прегель (1897—1972), Н. Бердяев, С. Маковский и многие другие). Их стараниями было создано специально для Ремизова издательство «Оплешник» (старое русское слово — волшебник, чаровник, от глагола «оплести» — очаровать, заворожить), выпустившее несколько его книг, хотя и очень небольшими тиражами. Всего в эмиграции вышло 45 книг писателя.
Диалектика двух состояний (романтически светлой внутренней жизни и страдания) раскрывает существо натуры Ремизова, сущность его произведений, выраженную им в одном из частных писем: «Моя тема — задавленная жизнь для создания на земле „святого места“». Она проходит через все его творчество, создавая причудливый синтез хаоса бытия и сказочного мира, боли, гнева и насмешки. «Скорбь, лукавство и гнев, — писал Г. Адамович, — вот что отчетливее всего другого входит в ту причудливую тональность, в которой держится творчество Ремизова, и вот отчего трудно дать ему ясную характеристику: черты меж собой слишком несходны, а переплетены они в книгах слишком тесно. Бывает, что пишет он о России, или о любви, или об одиночестве, — и пишет так, с такой страстью и огнем, с такой неистовой силой, что, кажется, вот-вот раскроются какие-то тайны его мысли и чувства. Но нет, тут же рядом и смешок, да настолько язвительный, что само собой возникает сомнение: не иронизировал ли он и тогда, когда взывал к небесам?»[7].
В 1948 г. Ремизов принял советское гражданство, но возвращаться на родину не стал. 27 ноября 1957 г. он умер.
Творчество Ремизова в эмиграции развивалось по двум направлениям.
Первое — создание автобиографических повествований. Написанные в разное время (первое — в 1927 г., последние — на склоне лет, в 1940— 1950;е гг.), они составляют своего рода хронику жизни писателя: «Подстриженными глазами» (1877—1897); «Иверень» (1897—1905); «Петербургский буерак» (1905—1917); «Взвихренная Русь» (1917—1921); «Учитель музыки» (1923—1939); «Сквозь огнь скорбей» (1940—1943). При этом ни одну из вышеперечисленных книг невозможно воспринимать как сугубо мемуарную прозу. В каждой из них реальные события совмещены с вымышленными, перемежаются снами. В отличие от реалистических произведений, где сны раскрывают психологию героев, и в отличие от символистских снов, переводящих повествование в философскую идею, сны Ремизова — художественные образы его собственного мира, восстание против «нормального мышления». Порой они карикатурные, порой символические, порой полностью иррациональные, не поддающиеся расшифровке, понятные только самому автору. Ремизов называл такой взгляд «подстриженными глазами». «Мои подстриженные глаза, — говорил он Н. Кодрянской, — развернули предо мной многомерный мир лун, звезд и комет… Для простого глаза пространство не заполнено. Для подстриженных глаз нет пустоты. Эти глаза подняли меня в мир сновидений, а также открыли дорогу в подземную глубь черной завязи жизни»[8].
Второе направление творчества Ремизова — создание на основе духовных преданий, житий, древнерусских повестей особого жанра мифологизированной и стилизованной под старину прозы.
Этапной книгой первого направления, открывающей новую стилевую манеру в творчестве писателя, становится роман-хроника «Взвихренная Русь». Еще живя на родине, Ремизов создал зарисовки Петрограда 1917—1918 гг. на манер «Временника» дьяка Ивана Тимофеева XVII века и печатал их в еженедельном журнале «Народоправие». Именно эти материалы впоследствии оказались первыми девятью главами романа-хроники «Взвихренная Русь», вышедшего отдельным изданием в 1927 г. в Париже.
Перед читателем проходит «мозаичная летопись частного бытия» (В. А. Чалмаев)[9]. Писатель нарочито избегает описания исторически значимых событий, о политических деятелях (А. Керенском, М. Родзянко (1859−1924), М. Терещенко (1886−1956), В. Ленине (1870−1924), Л. Троцком (1879—1940)) если и упоминается, то в самом будничном контексте: в разговорах толпы, в снах автора, в слухах. Зато на страницах книги звучат голоса десятков простых людей (дворников, кухарок, крестьян, городских обывателей, матросов), сплетающиеся с голосами писателей (А. Блока, А. Белого, Д. Мережковского, М. Пришвина, В. Розанова, В. Шишкова), художников (К. Петрова-Водкина (1878—1939), Б. Кустодиева (1878— 1927)), ученых. Все это создает хор, фреску из множества осколков.
Однако это только одна сторона ремизовского текста. Своеобразие «Взвихренной Руси» заключается в предоставляемой читателю двоякой возможности прочтения текста: линейного и нелинейного. Эти возможности обусловливают двоякую жанровую природу «Взвихренной Руси»: при линейном прочтении текста создается иллюзия летописной хроникальности, беспорядка и спонтанности отбора материала в угоду точной фиксации фактов революционной действительности, независимо от их масштаба, значимости и места свершения. При этом своеобразными «летописными зачинами», фиксирующими событийный ритм, становятся как многочисленные упоминания религиозных праздников, так и косвенные намеки на события революционные. В то же время литературные реминисценции (из собственного творчества и из классики), воспоминания, сны, которыми перенасыщен текст, объединяются в некую «вертикальную ось», противостоящую мнимой хроникальности текста, создается неомифологический текст.
В книгу вводятся образы, известные читателю по другим ремизовским произведениям, и даже целые фрагменты текстов, созданных писателем до революции. Так, полноправным персонажем романа-хроники становится Акумовна «Крестовых сестер», живущая все в том же Бурковом дворе (глава «Великая нищета»). Прямое упоминание о «Крестовых сестрах» как непосредственно принадлежащем перу Ремизова реальном литературном тексте возникает в главке «Лошадь из пчелы». Апофеозом использования автором этого литературного приема становится упоминание во «Взвихренной Руси» некоего «Временника», над которым работает лирический герой романа-хроники. Таким образом писатель достигает восприятия событий «Взвихренной Руси» как действительности, реальности, неупорядоченной ничьей рациональной волей, хаотичной и полномасштабной в своем Хаосе на фоне ее подчеркнуто литературных интерпретаций. Подобный прием характерен для классической русской литературы, в частности, он берет свое начало в пушкинском «Евгении Онегине», и Ремизов играет этой традиционной аурой.
Несмотря на то что многие текстовые вкрапления из дореволюционных произведений вводятся Ремизовым без какой бы то ни было редакции, их новое контекстное окружение определяет происходящее приращение смысла, и прежние рассказы, подобно лирическим стихотворениям, подвергающимся перециклизации, вступают в новые внутритекстовые связи, а пронизывающая их емкая символика позволяет углубить семантику отдельных мотивов.
О той же самой Акумовне говорится: «Прежнее время наряжал я Акумовну в елочное серебро, так в серебре старуха и чай пила, а тут не до чаю, не до серебра. Ой, что-то будет, Господи! А непременно будет, весь Бурков дом знает — весь Петербург».
Определяющая роль контекста, придающего повествованию принципиально новую окраску, сказывается и в названиях глав романа-хроники. Объединяя некоторые главки романа под заглавием «Весна-Красна», Ремизов отсылает читателя к одноименному разделу сказочной книги «Посолонь», обращая внимание на контрастность материала двух книг. В художественном мире «Взвихренной Руси» фольклорный постоянный эпитет «красна» становится натуралистичным, а красный — цветом крови. «Посолонный» мир разрушается, как разрушается и ранняя стилевая манера писателя, что заставляет исследователей говорить о стилевом сломе, происходящем в пореволюционном творчестве Ремизова. Персонажи «Посолони» становятся игрушками, мало способными заинтересовать отчужденное сознание натыкающихся на них жильцов и красноармейцев.
Творимый абсурд приобретает во многом и фольклорные корни: тонкая ирония в названии главки «Лошадь из пчелы» содержит мифологическую подоплеку: согласно поверью, воспроизведенному Ремизовым ранее в сказке «Божья пчелка» («К Морю-Океану»), пчела уродилась на свет от Фроловского коня. Таким образом, становится попятным название главки: «Лошадь из пчелы» — то есть аномальный, вывернутый ход революционных событий, составляющий основное содержание главы.
Новый смысл приобретает и главка «Обезьяны», ранее известная читателям в составе цикла 1910 г. «Бедовая доля», а ныне включенная в одну из главок «Обезвелволиала». Впрочем и сама Великая и Вольная Палата утратила свой игровой характер. Вся глава рассказывает об аресте автора и его коллег. Сакральный царь Асыка низвергнут, старая иерархия утрачена навсегда, иерархия же новая, пореволюционная, оказывается более шутовской, чем противопоставленная ей альтернатива. Фарс превращается в трагедию на Сенатской площади. Петушиный крик помешанного надзирателя становится гласом истины, воплем человека, превращенного революцией в орудие слепой судьбы, юродивого поневоле: «И есть тут, сказывали, — шепчет баба с поросенком, — находится надзиратель, петухом кричит: расстреливал и помешался — петухом кричит».
Параллельно меняются местами «зверский» и «человеческий» лейтмотивы. Писатель упорно нагнетает как картины зверств человека, так и противостоящие им картины мук животных, перед лицом гибели ведущих себя по-человечески. В этом ряду оказываются и реальная собака, умирающая под забором с кровавой щепкой в зубах, и «обезьян» из фантастического бурлеска, казнимый солдатами «Медного всадника», — трагедии, в которую превращается карнавальная игра.
Для создания неомифологического текста Ремизов пользуется знакомым читателю по его дореволюционным романам приемом превращения сюжетов литературных в архетипические. Возникая в романе, эти неоархетипы зачастую демонстрируют незыблемость мировых основ, которые не в состоянии поколебать никакие революции. Так, в революционную эпоху повторяется сюжет пушкинского «Домика в Коломне» с приходом в дом лирического героя мнимой домработницы — Кати (глава «Катя»). В знаменитом эпизоде с казнью обезьяньего царя на Сенатской площади (глава «Асыка») отчетливо просматриваются в лирическом герое черты пушкинского Евгения — перед нами гот же знакомый конфликт «маленького человека» с тотальной государственностью. В рассказе Турки о «водяной голове» нового градоначальника Григория Сильвестровича Киреева (глава «Медовый месяц») просвечивает гротеск «Истории одного города» М. Салтыкова-Щедрина, характеризуя прежний бездумный автоматизм форм правления соборным городом — страной.
Гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина «в тюрьму подвальную посадили: изморозят, изморят — забоится! А ему хоть бы что — хуже не будет» (глава «Саботаж»). В главе «Четвертый круг» Ремизов вступает в полемику с Гоголем:
«Гоголь:
- — Поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его.
- — Николай Васильевич! — какие огни? Или не слышите? Один пепел остался: пепел, зола, годная только, чтобы вынести ее на совке, да посыпать тротуары. А йогом растопчет чья-нибудь американская калоша".
Привычные курсивные лейтмотивы из классической литературы («уста к устам и сердце к сердцу», «и звезда с звездою говорит», «кремнистый путь блестит», «желанность души») соседствуют с курсивными вкраплениями плакатного стиля типа:
- • «воспрещается лущить семечки, садиться на прилавок, если много людей;
- • без дела не надо входить в лавку, за неослушание будут подвергаться административному взысканию».
Лозунги встают даже в сильную позицию — эпиграфа:
«Горы мусору у нас —.
Надо вывезти сейчас:
Мусор в кухне не копи, А сжигай его в печи!".
(Глава «На даровых хлебах»).
Ремизов то и дело прибегает к материализации сленга, фразеологизма и т.н. Так, лейтмотив озверения человека в романе строится изначально на игре со словом «хвост» — очередь за пайком.
Мифологическая действительность собирается по крупицам из бытовых деталей и структурирует разрозненные подробности. Конкретикой измеряются абстракции — «нолфунта революционности» — революционная эпоха, превращаясь в мифологическое время первотворепия, приносит свой язык, свои способы преодоления вселенского хаоса.
Ремизов играет с пространствами, накладывая на современную революционную действительность пространство дантевской «Божественной комедии» («Четвертый круг»).
Так в бытовое повествование входит ориентированное в первую очередь на стилистику древнерусской литературы высокое слово. Тем самым сегодняшний день вписывается в историческую систему, в результате чего создается «вечное» мифологическое время.
При этом важна композиционная последовательность «высоких» текстов. Первым является плач-молитва «Красный звон» (глава «Веснакрасна»). Далее в текст книги частично входит «Слово о погибели русской земли» (глава «Москва»). Оба текста говорят, с одной стороны, о «горезле-кручинном», о «смутном часе», о «поверженной России»; с другой — полны надежды на то, что Русь воспрянет из пепла:
Ты одна неколебимая!
Из гари и смуты выведи на вольный белый свет.
И одно утешение, одна у меня надежда: буду терпеливо нести бремя дней, очищу сердце и ум и, если суждено, восстану в светлый день.
Русский народ, настанет Светлый день!
Слышу трепет крыльев над головой.
Это новая Русь —.
Русский народ! настанет Светлый день!
Следующий стилистически высокий фрагмент — включенная во «Взвихренную Русь» первая часть книги стихов Ремизова «Электрон» (Пг., 1919), представляющая из себя ритмизированное переложение нескольких фрагментов из Гераклита Эфесского. При этом писатель снимает ту часть раннего текста, которая говорит о возможности избежать роковой предопределенности (орфику), но оставляет нетронутым Гераклитов «Гимн всемогущей судьбе»:
Судьба всемогущая!
Великое единство пути!
вверх и вниз, спасения и гибели!
Кто тебя минует, кто тебя избежит?
Тем самым гераклитова философия вписывается в структуру близкого общему пафосу книги библейского текста (Экклезиаст, Бытие, Апокалипсис). Ремизов утверждает неизбежность страдания как начала искупления и залог будущего воскресения. Эти мотивы усиливаются в главах «Огненная Россия» и «К звездам», чтобы завершиться поэтической лирической главкой — воспоминаниями о церковной службе, ликах святых и простых людях — зодчих и строителях России, ослепленных, но идущих сквозь туман и верящих:
«Неугасимые огни горят над Россией!».
Заканчивая этой фразой книгу, Ремизов замыкает кольцо, начатое первой главой «Бабушка», также являющейся ранним рассказом писателя (1900). Однако в контексте «Взвихренной Руси» бытовой эпизод с едущей на поезде измученной старушкой становится символом возрождения измученной страны: «Бабушка, костромская наша, мать наша, Россия». Образ этот столь важен писателю, что он появится в середине книги после рассказа о крушении всех святынь, когда, казалось бы, нет никакой надежды на обезумевший народ. В подглавке «Белое сердце» (глава «Современные легенды») бабушка своим видом растопила сердца революционных матросов и всех пассажиров трамвая (напомним, что образ трамвая как синонима жизни широко вошел в русскую литературу XX века. Достаточно назвать А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Ы. Гумилева). По-христиански простившая обижавших ее людей («свои робята»), она, пишет Ремизов, «своим сердцем с потерей и утратой, белым сердцем приняла всю свою горючую судьбу», смиренно несет «всю свинцовую тяжесть, весь крест наш» и еще убеждает спутника в хорошем исходе: «Ты не беспокойся». «И пошел я в нашу петербургскую темень, понес сквозь темь белое — тихий свет уверенной веры».
Среди разврата, разрухи, разложения писатель видит бытовые, но одновременно и глубоко символические проявления человечности («Мы еще существуем», «Именины», «Анна Каренина»). «Коли нет ничего, хоть ласковым словом поделиться», — слышит лирический герой книги слова простой женщины:
«Ия точно проснулся —.
Вижу небо синее такое, не наше — вся душа потянулась — не робкая, не забитая — многорукая — многокрылая —.
И я как вырос.
У меня тоже нет ничего, и мне нечем делиться — я уличный, побиралыцик! — но у меня есть — и оно больше всяких богатств и запасов — у меня есть слово! И этим словом я хочу поделиться: сказать всему разрозненному, избедовавшемуся миру —.
человеку, потерянному от отчаяния беспросветно, — человеку, с завистью мечтающему о зверях, — человеку, падающему от непосильного труда в жесточайшей борьбе — быть на земле человеком, —.
уста к устам и сердце к сердцу!"
Созданию единого «вертикального» текста, соединению реальности и мифа способствуют, как уже было отмечено, и сны. Для Ремизова становится важным воспроизведение самой логики-алогии сна в ее первозданном, несочиненном виде. Поэтому многие из снов не подлежат расшифровке, воссоздают лишь общую атмосферу взвинченности, тревожности, а порой и успокоения.
Сны выделяются и графически: отступами от левого поля «реального» текста. Сон может усиливать абсурдность мира:
«— Иду по дорожке в саду. Вижу череп лежит. Нагнулся: череп. Взял его в руки. Иду и разбираю — и в траву откидываю кости. И когда разобрал весь, говорят мне:
«Это ваш череп».
«Как же так, ведь я жив!».
«Череп ваш».
И я подумал:
«Мой череп — удивительное дело, при жизни! Надо сберечь».
И опять я иду, сбираю кости, чтобы череп составить — свой".
Но сон может и давать надежду, сигнализировать о существовании иного вечного бытия, как это происходит в рассказе о затопленном водой Невском, где все попутчики рассказчика разбрелись:
«Я дальше пошел. А там снег, тихо падает снег и ложится на землю чистый, как в крещенский сочельник.
И я чую: тишина, как этот крещенский снег, ложится мне на душу".
Благодаря появляющимся на страницах «Взвихренной Руси» снам реальность и фантастика, абсурд и здравый смысл вступают в поэтическом мире романа-хроники в сложную, причудливую игру.
Две темы — тема судьбы и тема свободы творчества — пронизывают в конечном счете художественную ткань романа-хроники. Революция убивает не только человека, она убивает память, лишая творца главного творческого импульса. Свобода творчества убивается не введением цензуры, а сломом быта, без которого оказывается невозможным никакое бытие: «Есть особенная „художественная казнь“ — для писателей — это отрывать и рассеивать, ни на минуту не оставляя в покое, ни на минуту не давая человеку сосредоточить мысли». Хроникалыюсть превращается в силу, довлеющую над человеком: именно ее действием мотивирует Ремизов смерть А. Блока: «Взвихриться над землей, слышать музыку, и вот будни…», отсутствие сновидений, из которых вырастает поэзия.
Тема творчества представляет собой композиционный стержень романахроники, ибо в ней объединяются сон и реальность, миф и действительность, личность и революция. Свобода творчества, право на творчество оказываются напрямую связаны с разрешением вопроса об отношении творца к действительности.
На звучащий в начале романа «Достоевский вопрос»: «Революция или чай пить?» Ремизов склонен ответить: «Революция». Речь идет не о приятии Октября, а о приятии судьбы, о чувстве сострадания и искупления, которые зародились в душе художника в тяжелую годину. В момент прозрения у героя рождается: «Да, я тоже потерял. А ведь мне и в голову не приходило! Конечно ж потерял. Ну, а мои чувства — жарчайшие чувства и слова, вышедшие из этих моих чувств, и мои сны — это я получил в жесточайшие дни». Автор преодолевает хаос жизни, взвихренность Руси своим словом, воспоминанием: «Какое это счастье унести в жизнь сияющие воспоминания: событие неповторяемое, но живое, живее, чем было в жизни, потому что, как воспоминание, продумано и выражено, и еще потому, что в глубине его горит напоенное светом чувство». Трудность сохранения самобытности в мире, где действуют фатальные силы, оказывается мнимой. И тогда-то и возникает уверенность в воскресении России.
В годы эмиграции в творчестве Ремизова со всей полнотой проявляется и вторая тенденция: наряду с оригинальными произведениями писатель создает знаменитые пересказы-переложения известных литературных произведений. Среди них «Брунцвик» (1949—1950), «Бова Королевич» (1952), «Мелюзина» (1950), «Тристан и Исольда» (1953), фабульную основу которых составляют переводные рыцарские романы, получившие широкую известность в России в XVI—XVII вв.еках, и обработки собственно древнерусских «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1951) и «Соломонии» (1929), а также фрагмента византийского басенного цикла «Повесть о двух зверях. Ихнелат» (1950). Все эти переложения тяготеют к объединению их в цикл, причем предпосылкой этого объединения становится общность проблематики и поэтики ремизовских повестей.
Так, следуя своей убежденности в необходимости возвращения искаженного годами бытования текста к исконному оригиналу, Ремизов делает сюжетным стержнем повестей второстепенный эпизод, вводит в текст — в русле полемики с общеизвестным текстом — тему грядущих «слухов», искажающих истинный смысл «увиденного воочию», расширяется круг функций второстепенных персонажей, возникает фигура рассказчика, окруженного деталями ремизовского быта, особым планом повествования становится «книжная среда»: жизнью героев то и дело правят знакомые им книги, что, с одной стороны, становится дополнительным источником анахронизмов, а с другой — создает иллюзию действительности и противопоставляет понятию индивидуального авторства, ключевому для литературы нового времени, понятие коллективного и анонимного авторства, изначально присутствующее в фольклоре и древней литературе, когда автор не предполагает собственности в литературном произведении и отводит себе роль сказителя, переписчика.
Две из ремизовских повестей-пересказов объединены в мини-цикл авторской волей: «Соломония» и «Савва Грудцын». Ремизов называет цикл «Бесноватые», при этом подчеркивая тот факт, что образы одержимых бесами интересны для него в первую очередь как образы людей, сильнее других ощущающих на себе действие фатальных разрушительных сил, допускаемое равноправным с ними божественным началом: «Все наполнено жизнью и нет в мире пустот. И то, что „умирает“, живет, только в других, не „живых“ формах». «Бесноватый то же, что раскованный, — усиленный ритм речи и движения в подхлестывающем танце под потусторонний или, точнее, иссторонний свист» («Савва Грудцын»). Здесь вновь проявляется тяготение писателя к представлению картины мира в духе еретических воззрений манихеев и богомилов, вполне объяснимое общим направлением творчества писателя — возрождением мифа, ремифологизацией традиционных жанров и даже литературных текстов. Необходимые для выполнения подобной задачи два полюса — космический и хаотический — писатель и находит в уравнивании сил Добра и Зла, двух мировых начал. Авторское примечание к повести становится не просто комментарием, а полноправным эстетическим компонентом, содержащим в себе одновременно фрейдистско-юнгианский анализ текста древнерусской повести и мотивировку многочисленных отступлений от общеизвестного текста.
В свете такого анализа ортодоксально-дидактическая «Повесть о Соломонии», в своей полной («житийной») редакции вошедшая в состав «Жития Прокопия Устюжского» XVII века, становится повестью о господстве над человеком роковых сил фатума, о невозможности «иссудьбиться» в духе прозы экзистенциализма с эротической подосновой: «Бес — фалл — в образе Змия вошел в нее, сжег ее и в ее крови расчленился — раздробленные живчики „головастики“ вцепились в нее безотступно». Полемизируя с древнерусским источником, Ремизов отрицает не только «книжный» язык создателя Жития, но и бытовую мотивировку одержимости бесами героини («поп пьян крестил»), и темный, по-иконному невнятный облик самих бесов: «Поп Иаков держался „древнего благочестия“, но дара любви протопопа Аввакума к „природному русскому языку“ не имел и повесть о чуде исцеления бесноватой… написал книжно и довольно-таки путанно. Да и как было не спутаться? Много ли понимала бесноватая из того, что с ней происходило? Не больше понимал и духовник. Откровенная исповедь. И все, конечно, „просторечием“, бредовая и притом сексуальная… Ведь это же редчайший случай — повесть о явлении фалла, принимающего разные образы, чтобы мучить свою жертву. А Соломония — жертва, принесенная фаллу».
Вписывая древний сюжет в авторскую систему координат, Ремизов все — вплоть до рода занятий мужа Соломонии — пастуха — «языческого пастыря» подвергает символическому истолкованию. Из деталей, согласно жанровым канонам древнерусской житийной повести XVI века, концентрируемых в источнике вокруг центральной темы греха и его искупления, нарушения предания, канона и кары за него, писатель строит новый подтекст хрестоматийной фабулы: избравшая Бога и избранная Духом не может без страданий спуститься в мир плотского, земного, телесного. И христианский обет безбрачия превращается в отречение от материального мира — единственное условие исцеления.
Предметом изображения в ремизовской «Соломонии» становится в первую очередь извечный спор двух мировых начал: Добра и Зла, Света и Тьмы, Божественного и дьявольского. И начала эти оказываются равными не только в силе своей, но и в правоте. В этом отношении наиболее интересен возникающий в повести собственно ремизовский персонаж — Ярославка, целиком и полностью принадлежащий к миру бесовскому: «И, конечно, не по городу Ярославлю имя той „Ярославки“, которую встречает Соломония в своем видении поддонного царства… и которой „это можно“…». Характерна как сочувственная прорисовка автором образа Ярославки, так и то, что писатель не обходит его сквозным лейтмотивом света в ключевой сцене поклонения Сатане. Образу Ярославки соответствует в симметричной композиции повести образ блаженной Феодоры, этим и объясняется приобретение героиней имени-антипода, отсутствовавшего в древнерусском житии: если Ярославка поклоняется Яри, земляным силам, то поклоняющаяся силам Света Феодора зовется Богуславкой.
Вторая повесть цикла «Савва Грудцын» затрагивает все ту же проблему подвластности человеческого бытия стихийным силам. Указанные в примечаниях к повести источники вновь обнажают объект скрытой полемики — распространенную редакцию относящейся к XVII веку «Повести о Савве Грудцыне».
Нетрудно заметить, что ремизовская повесть отличается от своего древнерусского прототипа даже сюжетно: убийство в Козьмодемьянске удваивается убийством Степаниды Саввой, в повествование автор вводит два сна вместо одного, который видит герой древнерусской повести, да и финал пересказа по-ремизовски типичен: Савва не принимает монашество, а уходит в неизвестном направлении.
В изображении персонажей древнерусской повести Ремизов использует весь арсенал средств психологизации и индивидуализации, известный писателю XX века: герои, вплоть до беса Виктора Тайных, наделяются полными именами, получают имена и все второстепенные персонажи, каждый из героев приобретает самобытную речевую характеристику, исповедь Саввы представляет собой широко известный к моменту создания повести в западной литературе «поток сознания»: «…возможно ли меня простить изгладить из вечной памяти непрощаемое моей совестью между нами была тайна пути этой тайны привели нас к нашему концу и концы в воду сколько раз в отчаянии я говорил себе если бы мне разлюбить тебя таких слов ты не произносила и не могла…».
Бесноватость Саввы Грудцына, подвергающаяся детальному психологическому анализу на страницах повести, превращается в попытку разрешить своеобразный парадокс: святая любовь Саввы к Степаниде, чистота которой подчеркивается во внутренних монологах героя, противостоит абстрактной концепции христианской праведности и покаяния, позволяющего откреститься от совместного греха — святой любви. Рядовой грех, привычная для древнерусского книжника «ступенька в ад» становится у Ремизова сюжетным стержнем произведения, определяющим его философскую проблематику.
Разрешает сюжетную коллизию Ремизов вновь не в пользу ортодоксального христианства (как раз его ревнителем становится в повести бес!). Двоится образ вершащей чудо освобождения Саввиной души: Богородица остается на иконе, перед которой Савва получает исцеление, иконописными же чертами наделяется сходящая к герою с прощением Степанида: «И тут багор на ней вспыхнул изумрудом и, разгораясь, переплавился в лазурь. И я услышал голос, этот голос я с детства помню, какое участие и какая нежность: „Савва, на праздник в Казанскую ты придешь в мой дом — что на площади у Ветошного ряда. За твою страдную любовь перед всем народом я чудо явлю над тобой“». Любовь Саввы, а не покаяние, не отрицание правомерности им своей любви к Степаниде, становится главным поводом к искуплению греха, причиной же столь неортодоксальной развязки служит, по убеждению автора, сама природа мира «этого», куда является человек с единственной целью — «страдной». Страданием, уготованным Савве, становится его любовь к Степаниде — чувство изматывающее и святое, ибо с ведома Высших сил отдается герой на поругание бесовскому стаду. Выше норм христианской нравственности оказывается страдание: страдающий герой заведомо оправдан, и единственный выход уготован ему после свершения им своей доли земной — выход из мира, Божьей волей открытого для бесовских сил, поруганного демонами мира.
Совершающаяся в финале ремизовской повести обедня-литургия из высшего христианского таинства превращается в своеобразное «окно», сквозь которое постигается истинная сущность мира: «В Херувимской, в „иже херувимы“ есть что-то напевно-колдующее. Мне видится саморазмыкающийся замок и вот дверь настежь, смотри, какое заманчивое поле, синие незабудки, уведет, затянет — по пояс, по горло и оставит одни глаза, гляди: какой это страшный этот Божий мир, „иже херувимы тайно образующе“». Традиционные литургические формулы в контексте повести наполняются новым смыслом, разрушается ортодоксальная картина мира и лишь образ юродивого Семена-Летопроводца, уводящего Савву не в рай и не в ад, а из «этого мира», связывает финал ремизовской повести с его христианской подосновой: модель поведения юродивого стереотипна даже для канонического жития — в его непотребстве открывается истинная вера и правда Божия. Тем не менее возглашаемая в «куковании» Семена истина превращается в невысказанный протест против законов мира Божьего: «В дверях юродивый приостановился и, обернувшись лицом к образам, закуковал. И это его прощальное с миром какою горечью пронзило заоблачное ангельское „Свят-свят“…».
В высшей степени характерен комментарий Ремизова к повести: «Два образа Смутного времени запечатлелись в душе русского народа — СкопинШуйский и царевна Ксения, дочь царя Бориса: Скопин-Шуйский в песне, царевна в повести. И невольно видишь их при имени: Савва и Степанида». Отождествляя героев повести с историческими лицами, Ремизов переносит открытые им в пересказе древнерусской повести законы мироздания в мир реальный, исторический. Выявление этих, зачастую безжалостных и губительных законов, управляющих миром, становится главным итогом творимого автором мифа, в котором сливаются и история, и древнерусские повести, и русская сказка.
Общую тенденцию в переработке Ремизовым известных литературных текстов нагляднее всего отражает и переложение писателем хрестоматийной «Повести о Петре и Февропии». Сюжетно ремизовская повесть наиболее отличается от древнерусского источника в своем зачине: ее открывает детально психологизированная история любовных отношений княгини Ольги и одолевающего ее Змея. При этом писатель своеобразно расставляет акценты в повести: страдательным персонажем оказывается княгиня, а ее отношения со Змеем больше напоминают истинную любовь, чем отношения с эгоистичным князем, бросающим Ольгу на произвол судьбы. Не удивительно, что княгиня, в отличие от древнерусской повести, гибнет вместе со Змеем: одержимый силами судьбы человек в поэтическом мире Ремизова не способен увернуться от своей Недоли, обречен на гибель. Характерны и поправки, которые вносит писатель в древнерусское изображение Змея: «В „Февронии“ спутали змия (огненный с белыми крыльями) со змеем-драконом (зеленые крылья, не огненный, а упругий)».
Если древнерусский книжник-создатель «Повести о Петре и Февронии» отталкивается от сказочного потенциала, заложенного в сюжете, и приближает повесть к житийной, то Ремизов, напротив, актуализирует сказочные элементы, а таковым становится в первую очередь вышеупомянутый сюжет с княгиней и посещающим ее Змеем. Из сказки заимствует писатель и традиционный мотив превращения героиней крошек со стола в драгоценности и ладан на зависть недоброжелателям.
Вторая часть ремизовского произведения (собственно о Петре и Февронии) ближе к первоисточнику. Но и здесь текст повести удаляется от покойного житийного «преставления». В древнерусском тексте Феврония божественной силой оказывается в гробу рядом с любимым. У Ремизова показан демонический вылет «ведьмы» из гроба: «С вечера в день похорон поднялась над Муромом гроза. И к полночи загремело. Дорога до города из Воздвиженья вшибь и выворачивало — неуспокоенная, выбила Феврония крышку гроба, поднялась грозой и летела в Собор к Петру. Полыхавшая молпья освещала ей путь, белый огонь выбивался из-под туго сжатых век, и губы ее дрожали от немевших слов проклятия». О том, насколько сознательно Ремизов стремился именно к такому превращению героини первоисточника, свидетельствуют замечания самого писателя в ходе работы над циклом «Бесноватые»: «Мне не нравится моя Феврония, в ней я не слышу визга боли, она „мудрая“, а значит, спокойная, а ведь мне надо, чтобы человек от тоски загрыз землю, это мое. У Февронии есть гнев и магия, но какая же во мне магия, и поэтому выходит формально, словесно». Поводов к трансформации хрестоматийного образа писатель находит, таким образом, сразу несколько: это и мельком упомянутое в повести колдовство Февронии, доведенное до предела согласно логике; и волнующая писателя проблема фатального несчастья, которое несет человеку бытие в мире, — именно так воспринимается эпизод повести, в котором Петр и Феврония изгоняются из города; и необходимость рассказать повесть в сказовой манере, т. е. с эффектом не просто присутствия рассказчика, но его вживания в каждый из образов, залогом успешности которого становится родственность душевного склада автора и героя.
В текст древнерусской повести вводится и отсутствующий в первоисточнике чисто ремизовский персонаж — мальчик Ласка: «В Муроме ходил беспризорный, звали его Ласка — Алексеем. Таким представится Нестерову Радонежский отрок в березовом лесу под свежей веткой, руки крепко сжаты, в глазах лазурь, подымется с земли и улетит». Персонаж этот, наделенный автобиографическим именем, существо в одинаковой степени всеведущее и бессильное, страдательное, беспричинно гибнущее в неумолимой жестокости мира.
Вновь Ремизов вводит в текст не только детали из разных редакций древнерусского памятника, но и характерные реконструкции отдельных его моментов, содержащиеся в известных писателю научных статьях: так история происхождения Агрикова меча, возникающая на страницах ремизовской повести, повторяет гипотезу М. О. Скрипиль[10].
Автор возводит героев в архетипы, формулируя извечную проблему «неразлучной любви, человеческой волей нерасторжимой»: «Повесть кончена. Остается загадка жизни: неразлучная любовь — Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Петр и Феврония».
Пафос противоречия общеизвестной истине канонической веры позволяет рассматривать ремизовскую повесть о Петре и Февронии в ряду упоминаемых выше повестей из цикла «Бесноватые». Как и в «Савве Грудцыне», на страницах повести возникает специфическое разрешение проблемы греха и его искупления. Грех искупается не покаянием, а волей страдающего в земном своем бытии человека к жизни в этом мире: «„Согрешишь, покаешься и спасешься!“ — какой это хитрец, льстя злодеям, ляпнул? Грех неискупаем. И только воля пострадавшего властна». В результате такой трактовки темы покаяния — краеугольного камня, на котором строится христианская мораль, христианство в поэтической системе ремизовских обработок древнерусских повестей превращается в эстетическую категорию, что материально выражается в тексте рядом характерных тропов, компрометирующих высшую правду ортодоксальной церковности: «Последние монашки черными змеями расползлись из церкви».
Наряду с данной, еще две проблемы формируют единую проблематику всех ремизовских повестей-пересказов — проблема любви и проблема судьбы, неизбежно горькой, которую «конем не объедешь». Подобно древнерусскому книжнику, манеру работы которого с литературным текстом с точностью до мелочей имитирует писатель, Ремизов создает в каждой из своих повестей одну из редакций распространенных текстов, причем редакцию «выправленную», достоверную, отображающую, в отличие от древних редакций, истинную, с точки зрения писателя XX столетия, картину мира и роль в этом мире персонажей.
Нельзя не сказать о языке Ремизова. Он считает, что современная речь оторвалась от истоков русского языка. И всячески стремится вернуться к этим истокам. Это видно уже из названий его книг. Одни несут в себе память о старой допетровской речи («Огненная Россия», «Взвихренная Русь», «Книга узлов и закрут памяти»[11], «Звенигород окликанный. Николины притчи», «Россия в письменах», «Посолонь», «Иверень», «Зга»). Другие лишь фонетически напоминают древнюю речь, полностью являясь авторскими окказионализмами («Ахру», «Кукха», «Сны и предсонья»). То же относится к лексическому ряду писателя. К Ремизову в полной мере относится оценка, данная им Ф. М. Достоевскому в главе «Потаенная мысль» книги «Звезда-полынь: у него «на слово — глаз». Действительно, многочисленные словосочетания, употребляемые Ремизовым, удивительно образны и точны: «родина чудесных сказок — сон»; «неотструганная душа»; «обманувшаяся надежда»; «морозная тьма»; «раскаленные глаза»; «жизнь шла кувырком»; «уши навострились»; «книгописцы»; «кощунески»; «человек человеку подтычка»; «люди с лицом лопаты»; «человеческая упрь»; «вихрь бесячий»; «жундят жуки»; «псивое житье» и т. д. Порой обилие этих слов, их «густота» кажутся излишней игрой, утомляют читателя. Не случайно И. А. Бунин и некоторые критики упрекали Ремизова в фиглярстве, в непонятности.
Однако в большинстве случаев язык Ремизова, хотя и сложен для чтения и понимания, но не только проясняет мысль писателя, по и помогает понять красоту старого, быть может, навсегда утерянного лада русской речи, русской старины. Книги писателя ведут в непознанный мир русских мифов и преданий.
Литература
(аннотированный список)
1. Ремизову А. Собрание сочинений: в 10 т. / А. Ремизов. — М.: Русская книга, 2000;2002.
Том 5 содержит произведения, посвященные эпохе революции 1917 г. В нем объединены ремизовские сатира и публицистика тех лет, роман-хроника «Взвихренная Русь», а также документы из российских и зарубежных архивов, в том числе «Дневник 1917;1921 гг.».
Тома 7—10 включают произведения, созданные в эмиграции.
В томе 7 даны произведения в жанре мемуаристики («Ахру. Повесть петербургская», «Кукха. Розановы письма»), розановская интерпретация русской классической литературы («Огонь вещей. Сны и предсонье»), а также развитие темы сновидений («Мартын Задека. Сонник»).
В том 8 вошли книги «Подстриженными глазами» и «Иверень» (1930— 1940;е гг.), соединивший в себе черты романа, сказки и литературных мемуаров. В книге «Подстриженными глазами» рассказывается о детстве и юности Ремизова, колоритные картины русского купеческого быта конца XIX века чередуются с фантастическими историями, размышлениями о судьбах русской литературы. «Иверень» посвящен годам юности писателя, когда он был увлечен идеями революционного переустройства мира, и одновременно это рассказ о начале его литературного пути, о жизни литературной богемы. Книга «Иверень» впервые издается в России.
В том 9 входит одно из последних произведений эмигрантского периода творчества писателя — «стоглавая повесть», «каторжная идиллия», «Учитель музыки». Используя необычную жанровую форму, Ремизов развертывает перед читателем панораму жизни русского Парижа 1920—1930;х гг. В книге даны яркие портреты представителей духовной элиты эмиграции первой волны (Н. Бердяева, Л. Шсстова, И. Ильина и др.).
В том 10 вошли последние крупные произведения эмигрантского периода творчества писателя — «Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак». В них представлена картина художественной жизни периода Серебряного века и первой волны русской эмиграции. Писатель вспоминает о В. Розанове, С. Дягилеве, В. Мейерхольде, К. Сомове, В. Коммиссаржевской, А. Аверченко и других.[12]
3. Кодрянская, Н. Алексей Ремизов / Н. Кодрянская. — Париж, 1959.
Книга является в первую очередь уникальным собранием заметок самого писателя о природе своего творчества, новых замыслах, вере, полученных автором от самого писателя. Один из разделов книги составляют надписи Ремизова на собственных книгах, иллюстрирующие судьбы произведений и отношение к ним писателя. Содержатся и собственные воспоминания Н. Кодрянской.
4. Резникова, Н. Огненная память: воспоминания об Алексее Ремизове / Н. Резникова. — СПб.: Пушкинский Дом, 2013.
Мемуары переводчицы, литератора, многолетнего друга и литературной помощницы Ремизова Натальи Резниковой рисуют картины художественной жизни и быта русских Берлина и Парижа 1920—1950;х гг. Мемуаристка прослеживает жизнь писателя с 1920;х до 1950;х гг.
Значительный интерес представляют главы «Образ Ремизова, им самим создаваемый» и «Последние дни Ремизова».
5. Адамович, Г. Одиночество и свобода: литературно-критические статьи / Г. Адамович. — М.: Республика, 1996.
В сборнике известного поэта и критика Русского Зарубежья содержится статья «Ремизов», рассматривающая вопрос о взаимоотношении творчества Ремизова с наследием Достоевского и других предшественников и анализирующая язык писателя.
6. Грачева, А. М. Алексей Ремизов и древнерусская культура / А. М. Грачева. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.
В книге ведущего ремизоведа России А. М. Грачевой выявлены истоки творческого самоопределения писателя и проанализирован зрелый цикл писателя «Легенды в веках», в частности «Повесть о двух зверях. Стефанит и Ихнелат», «Савва Грудцын», «Брунцвиг», «Мелюзина», «Бова Королевич», «Тристан и Исольда», «О Петре и Февронии Муромских», «Григорий и Ксения».
7. Грачева, А. М. Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910— 1950;е годы) / / А. М. Грачева. — СПб.: Пушкинский Дом, 2010.
Монография посвящена исследованию жанров большой формы в творчестве А. М. Ремизова. Показан отказ Ремизова от жанра русского классического романа. «Взвихренная Русь» рассматривается как романа-коллаж. «Подстриженными глазами» и «Учитель музыки» анализируются в контексте европейской литературы. «Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак» — итоговые опыты писателя с «большой формой».
8. Обатнина, Е. Р. Царь Асыка и его подданные. Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах / Е. Р. Обатнина. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001.
Монография, подробно рассказывающая о мистификации Ремизова — созданной им Обезьяньей Вольной Палате. Приведен полный список произведенных Ремизовым в члены Палаты деятелей литературы и искусства.
Книга богато иллюстрирована каллиграфическими рисунками Ремизова.[13]
10. Алексей Ремизов: исследования и материалы / отв. ред. А. М. Грачева. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1994.
Книга включает статьи русских и зарубежных исследователей. Об эмигрантском периоде жизни А. Ремизова статьи О. Раевской-Хьюз «Образ С. П. Ремизовой-Довгелло в творчестве А. М. Ремизова», С. Н. Доценко «„Автобиографическое“ и „апокрифическое“ в творчестве А. М. Ремизова», Антонеллы д’Амелии «Поздние повести Ремизова: в поисках жанра», Н. Ю. Грякаловой «А. Ремизов в работе над книгой „Павлиньим пером“», Ю. Молока «О графических текстах Алексея Ремизова», а также ряд воспоминаний о писателе. Имеется указатель имен.
11. Синани Э. Структурная композиция «Взвихренной Руси» / Э. Синани // Aleksej Remizov — Approaches to a Protean Writer. — Columbus (Ohio), 1987 (UCLA Slavic studes; vol. 16).
Статья обосновывает тезис о неправомерности отнесения книги к мемуарным произведениям. Автор показывает, что «Взвихренная Русь» написана по канонам художественной прозы.
- [1] Федин К. Горький среди пас. М, 1968 // Федин К. Л. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 10.М.: Худож. лит., 1986.
- [2] Яновский В. Поля Елисейские. Париж, 1993. С. 186.
- [3] Федин К. Указ. соч.
- [4] Ремизов был выдающимся каллиграфом. Его грамоты и рисунки к текстам являютсяподлинными произведениями искусства. См.: Обатнина Е. Р. Царь Асыка и его подданные. Обезьянья Великая и Вольная Патата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб., 2001.
- [5] Резникова Н. Огненная память. Воспоминания об Алексее Ремизове. Беркли, 1980.С. 137.
- [6] Там же. С. 138.
- [7] Адамович Г. Одиночество и свобода. С. бб.
- [8] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 64.
- [9] Чалмаев В. Лицом к лицу с историей // Ремизов А. Взвихренная Русь. М.: Сов. Россия,
- [10] См. об этом: Скрипиль М. О. Повесть о Петре и Февронии Муромских в ее отношениик русской сказке // Труды отдела древнерусской литературы Пушкинского дома. Т. VII.М. — Л., 1949.
- [11] Ср. солженицыиские узлы как принципы построения романов и повестей; «Затеей"В. Астафьева.
- [12] Ильин, И. А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин. Ремизов. Шмелев / И. А. Ильин // Ильин, И. А. Собрание сочинений: в 10 т. — Т. 6. — Кн. 1. — М.: Русская книга, 1996. Одно из лучших исследований творчества писателя, несмотря на некоторуютенденциозность и стремление сблизить отношение Ремизова к ортодоксальномухристианству с толстовством. Философ выдвигает следующую концепцию творчества писателя: «Для Ремизова жить — значит мучиться сердцем; страдая — мечтать;мечтая — улыбаться; улыбаясь — писать». Высказан ряд интересных замечанийоб особенностях ремизовского словотворчества и мифотворчества.
- [13] Чалмаев, В. А. Ремизов / В. А. Чалмаев // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья, 1918—1940: в 3 т. — Т. 1: Писатели РусскогоЗарубежья. — М. ГРОССПЭН, 1997. Публикатор и знаток творчества Ремизова, В. А. Чалмаев прослеживает творческий путь писателя. Имеется список прижизненных критических статей о творчестве А. М. Ремизова.