Лекция пятнадцатая ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ К КУЛЬТУРЕ ПЕРСОНАЛИСТСКОЙ
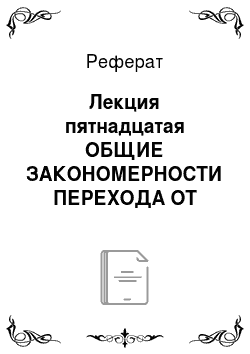
Возрождения и Реформации в истории европейской культуры. Их рассматривают то вместе, как В. Дильтей, то порознь, в качестве самостоятельных духовных явлений, считая одно или другое достаточным для понимания его роли в становлении капитализма: так трактовал М. Вебер роль немецкого протестантизма, Л. М. Баткин — роль итальянского Возрождения, Л. Е. Кертман — роль европейского Возрождения в целом… Читать ещё >
Лекция пятнадцатая ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ К КУЛЬТУРЕ ПЕРСОНАЛИСТСКОЙ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Синергетическое осмысление рассматриваемого процесса
Период, к рассмотрению которого мы переходим, охватывает вторую половину тысячелетия. Общая социальная и культурная ситуация в эти века оказалась несравненно более сложной и разнохарактерной, чем прежде: в то время сосуществуют, сталкиваются, взаимодействуют четыре существенно различные состояния бытия и сознания. Их взаимоотношения выражаются в широком спектре конкретных форм — от полного взаимного неведения о существовании иного образа жизни до кровавых схваток, в конечном же счете, объективно, они оказываются разными траекториями развития человечества, как бы соревнующимися в возможности доказать собственные преимущества, а о существовании аттрактора, влияние которого решит эту проблему, ни одна из них не подозревает, полагаясь на божественное предопределение…
Первое состояние — сохранявшаяся на окраинах эйкумены, хотя все время пространственно сокращавшаяся, первобытная культура. Мифология народов глубинных районов Африки и Южной Америки, островов Тихого океана, приполярных районов Евразии и Северной Америки, да и необходимость самозащиты от расширявших свою агрессию европейцев, порождали замкнутость их существования, с трудом преодолевавшуюся миссионерами, торговцами и путешественниками, которые и приносили в европейскую цивилизацию информацию об этой архаической форме бытия, сознания, языка, нравов «дикарей», как их будут называть в дальнейшем, согласно установившейся в XIX веке исторической типологии «дикость — варварство — цивилизация».
Второе состояние — сохранявшаяся на гораздо более широких пространствах планеты (на Востоке, а до XVIII века и востоке Европы) традиционная культура земледельческих и скотоводческих обществ феодального средневековья. Их существование было также стабильным и изолированным от внешних влияний, потому что строилось на неизменной материально-практической основе, а стойкость их остававшегося мифологическим сознания охраняла их от каких-либо инноваций.
Характерный пример: в большой вступительной статье М. Б. Пиотровского к каталогу выставки «Искусство ислама» в Эрмитаже в 2000 г., посвященной его общей характеристике ни один из восьми ее разделов не касается исторической периодизации этого искусства, при том, что его памятники, представленные на выставке и описанные в данной статье, охватывают более тысячи лет — от времени возникновения мусульманства до XVIII века; оно и неудивительно — стойкость традиционных принципов формообразования не давала оснований для сколь-нибудь основательной периодизации. И дело тут не в особенностях ислама — ив других странах Востока с иными религиозными догмами (иудейской, индуистской, буддийской) мы видим такое же отсутствие истории в искусстве, как и в прочих областях культуры, до тех пор, пока страны эти не подверглись вестернизации, а в азиатских районах России и затем Советского Союза — влиянию русской культуры. В России же «культурный фронт» традиционализма был прорван в начале XVIII века волей Петра Великого, резко повернувшего страну на проложенный Западной Европой путь Просвещения. Благодаря этому переходный процесс, длившийся на Западе четыре столетия, в России оказался намного более коротким, там, но и более длительным, чем в Японии, Корее, Китае.
Третья ситуация складывалась в результате колонизации европейцами ряда районов Азии, Африки и Америки, в которых удавалось — и насилием, не останавливавшимся перед физическим уничтожением части аборигенов, и обращением в христианство тех, кто выживал, и усилиями просвещения — достигать уникальных сплавов местных культурных традиций и культуры европейских колонизаторов. Наиболее значительные для мировой истории культуры подобные сплавы образовались в Северной, Центральной и Южной Америке в результате скрещения уже не двух, а трех культур: автохтонной индейской, в одном из ее многочисленных вариантов; культуры испанских, португальских, британских, французских колонизаторов; культуры черных рабов, массами завозившихся из Африки.
Наконец, четвертое состояние — сама европейская цивилизация, в которой складывался новый исторический тип культуры, зародившийся в городах позднего средневековья и ставший культурной революцией такого масштаба, каких еще не знала история, ибо он разрушал казавшийся непоколебимым былой фундаментальный принцип человеческого мышления, поведения и деятельности, противопоставив власти традиций право индивида самостоятельно выбирать ценности, идеалы, правила деятельности и поведения. Тем самым индивид обретал качества личности, и культура из традиционной становилась персоналистской, что придавало ей основанный на реализации творческого потенциала личности инновационный динамизм. (В прежних работах я пользовался термином «личностно-креативный», но сейчас предпочитаю понятие «персоналистский», в силу его лаконичности, а по смыслу они идентичны. В этом же значении Л. А. Черная при характеристике данных типов культуры употребляет категориальные антитезы «личностный — внеличностный» и «антропоцентрический — теоцентрический».)
В интересах наглядности структуру данного переходного этапа истории культуры можно представить в такой схеме:

Схема 17.
Дальнейший ход истории показал, что именно европейский путь, и в самостоятельном развитии, и в органическом синтезе с другими, отвечал требованиям аттрактора — императивной логике научно-технического прогресса, преобразовывавшего общественное бытие; только в XIX веке аттрактор этот стал очевиден, когда новый социальный порядок и новый тип культуры победили в Европе и в Америке после четырехсот лет мучительного перехода, чреватого революциями и контрреволюциями, межнациональными и межконфессиональными войнами, противоборством религии и науки, совершенствованием и разрушением машин, внутрифилософскими и внутрихудожественными конфликтами. Правда, этот аттрактор многие мыслители и целые слои общества не хотели признавать и пытались оказывать упорное сопротивление его действию, наивно-романтически полагая, что его можно перебороть, что можно вернуть общество к средневековому состоянию, к мифологическому сознанию, к ремесленному типу производства, однако аттрактор доказывал — ив Германии, и в Испании, и в России, а в XX веке и в большей части государств Азии и Африки — свою неодолимость и общечеловеческий масштаб своего действия.
Неудивительно, что процесс европеизации азиатских, африканских и американских стран проходил, проходит и будет всегда проходить болезненно, однако степень его драматизма, нередко перерастающего в трагедию, зависит только от умения согласовывать нововведения со специфическими национальными культурами, а в ряде случаев и племенными традициями; противоположные друг другу решения этой проблемы представляют сегодня Япония и Афганистан…
Становление персоналистской культуры до сих пор характеризуется историками односторонне, в соответствии с их приверженностью той или иной методологической концепции: историками марксистской ориентации — как процесс экономический и политический, противниками материалистического понимания истории — либо как движение в основе своей религиозно-реформационное, либо как ренессансные преобразования светской духовной культуры, научной, художественной и философской, либо как процесс, имевший гуманистическую доминанту в романских странах и религиозную в германских, либо как формирование ценностного самосознания человека в России (так называемый «философско-антропологический» подход). Между тем, применение того же системно-синергетического подхода, который позволил в первой книге данного «Введения…» обозначить закономерности развития предшествующего этапа истории культуры, показывает, что происходившее в Европе в XV—XVIII вв.еках ее радикальное преобразование было многоуровневым, многосторонним и потому нелинейным. Чтобы выявить логику этого процесса, трактуя его не суммативно, а системносинергетически, нужно — аналогично сделанному в свое время в анализе процесса перехода от первобытности к цивилизации — обосновать необходимость и достаточность описываемых частей изучаемой культурной системы и их динамические взаимоотношения, определяющие нелинейный характер ее развития.
Важно иметь здесь в виду, что усложнение данной системы и расширение спектра возможностей творческой деятельности личности вело к возрастанию различий в развитии культур разных стран Европы, расширяя «нелинейный» характер данного процесса; это ясно видно и при сопоставлении Северного Возрождения и Южного, романского, и в особенностях национальных путей развития в пределах того и другого. (Быть может, следует согласиться с предложением группы владивостокских историков А. В. Коротаева, Н. Н. Крадина и В. А. Лынша, высказанным в одной из глав коллективной монографии «Альтернативные пути к цивилизации», говорить даже не о «многолинейной», а о «многомернопространственной» структуре данного процесса, поскольку история человечества действительно испытывает одновременно разные пути не только в одной плоскости (таков смысл геометрических понятий «линейность — нелинейность»), но и на разных уровнях бытия системы, то есть в многомерном социокультурном пространстве, и в каждой его плоскости — экономической, политической, религиозной, художественной — развитие имеет свои содержательные особенности и свой ритм; впрочем, синергетики говорят ведь не о «многолинейности», а о «нелинейности», а это значит, что «многомерно-пространственную» структуру развития следует рассматривать как разновидность «нелинейной».)
Во всяком случае, именно синергетический подход позволяет найти ответ на остающийся до сих пор неясным вопрос о взаимоотношении
Возрождения и Реформации в истории европейской культуры. Их рассматривают то вместе, как В. Дильтей, то порознь, в качестве самостоятельных духовных явлений, считая одно или другое достаточным для понимания его роли в становлении капитализма: так трактовал М. Вебер роль немецкого протестантизма, Л. М. Баткин — роль итальянского Возрождения, Л. Е. Кертман — роль европейского Возрождения в целом; наиболее последовательно эта точка зрения проведена во второй книге коллективной монографии «История философии: Запад — Россия — Восток» (под редакцией Н. В. Мотрошиловой), в которой глава о Реформации просто включена в раздел «Философия эпохи Возрождения» как частное явление в общее. Готов признать, что и я в ряде работ по истории культуры абсолютизировал роль Возрождения и недооценивал значение Реформации, однако сейчас такая позиция представляется мне безусловно ошибочной, и я присоединяюсь к позиции Дж. Бернала, утверждавшего, что «Возрождение и Реформация представляют собой два аспекта одного и того же движения». О необходимости целостного рассмотрения духовной жизни этого переходного времени, в единстве и взаимодействии светской и религиозной ее сторон, хорошо сказал Б. Рассел, характеризуя «мудрость Запада»: «переворот, который в связи с упадком средневековья привел к громадному скачку вперед в XVII в.», охватывал «четыре великих движения» — «итальянское Возрождение», «гуманизм» мыслителей и ученых ряда стран, «лютеранскую реформацию» и «эмпирические исследования» в области естествознания.
Об этом говорил и М. А. Барг: «Гуманизм и Реформация — во многих случаях два враждебных духовных течения данной эпохи — в одном отношении развивались под одним и тем же углом: они, хотя и по разным причинам, нацеливали усилия человека на мир посюсторонний, становившийся фокусом его интеллектуальных усилий и морально-этических исканий». Аналогичной была и позиция исследовавшего историю немецкой культуры этой эпохи И. И. Иоффе (я имею в виду его недооцененную до сих пор монографию «Мистерия и опера»). Сошлюсь и на работу Н. В. Ревуненковой «Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации», весьма убедительно показавшей, что речь должна идти именно о разных сторонах единого и целостного историко-культурного процесса, или, по ее собственной формулировке, о «двух нераздельных и в то же время антагонистических явлениях культуры XVI в.», которые можно персонифицировать взаимоотношениями Эразма и Лютера; этот подход лежал и в основе изданного в 1981 году в Петербурге по материалам Всесоюзной конференции сборника статей «Культура эпохи Возрождения и Реформация». Неудивительно, что такова позиция большинства немецких историков, поскольку Реформация произошла на их родине (в начале 1980;х годов, и в Восточной, и в Западной Германии, был проведен ряд конференций и коллоквиумов (см. библиографию) по темам «Гуманизм и Реформация в немецкой истории», «Искусство и Реформация»; показательно название ю статьи М. Штейнметца, открывавшей сборник статей на эту тему — «Гуманизм и Реформация в их взаимосвязях»). Впрочем, в содержательной «Истории педагогических систем» П. Соколова, вышедшей в СанктПетербурге в 1913 году, на которую я еще не раз буду ссылаться, «связь реформации с гуманизмом» была признана столь глубокой, что название одной из глав получило следующую формулировку: «Новые начала воспитания и обучения в эпоху гуманизма — реформации»; именно такую формулировку — «эпоха Возрождения — Реформации» — использует современный историк философии Т. И. Ойзерман.
«Культурная революция», осуществлявшаяся Возрождение, не могла, конечно же, совершенно обойти отношение к религии, но, решая эту проблему в духе деизма или пантеизма, ренессансные мыслители выявляли ее второстепенное для них значение; типичный пример — рассуждение Л. Б. Альберти, что человека «создала природа, то есть бог». Но переворот в ценностном сознании общества не мог этим удовольствоваться — слишком велик был в нем удельный вес религии, поэтому осуществленное Реформацией радикальное преобразование христианства, сохранявшее его роль в культуре, было закономерным и исторически необходимым.
В самом деле, если рассматривать данную эпоху не в пределах истории литературы, истории искусства, истории философии или научной мысли (Дж. Бернал, например, мог построить свое фундаментальное исследование истории науки, вообще не обращаясь к Реформации), а в целостном развитии европейской культуры, то надо будет признать, что переход от ее состояния в средневековом феодальном обществе к новому, порождавшемуся становлением научно-технической цивилизации и буржуазных отношений, может быть понят в его противоречивой целостности лишь при условии анализа взаимоотношений светской и религиозной граней общественного сознания, то есть ренессансной и реформационной. Впрочем, современный искусствовед М. Н. Соколов считает, что «трудно дать однозначный ответ, насколько новое разделение христианской церкви является ренессансным, а насколько антиренессансным», и что спор на эту тему «остается неразрешенным и по сей день».
Вместе с тем, применение синергетической методологии исследования приводит к выводу, что нелинейный характер начальной фазы становления нового исторического типа культуры не сводится к отмеченым двум траекториям — Возрождению и Реформации, что была у нее и третья — политическая, которая выразилась и в разработке идей утопического социализма, и практически, в первых организациях республиканского способа управления. Если этот путь становления нового типа культуры до сих пор ее историками либо игнорировался, либо явно недооценивался, то только потому, что политическую сферу жизни общества принято рассматривать как нечто внешнее по отношению к культуре, в лучшем случае оказывающее на нее более или менее сильное воздействие, и потому находящееся в сфере компетенции гражданской истории, а не культурологии. Однако уже В. Дильтей показал в своем исследовании истории европейской культуры «со времен Возрождения и Реформации» органическую связь этих ее сторон с политическим сознанием общества в жизни <<�целостного человека": в эту эпоху, подчеркивал он, «человеческий разум обрел достаточное мужество, чтобы подойти к самой запутанной и трудной задаче — к урегулированию образа жизни и устройства общества». В. Дильтей и пришел к выделению «трех больших движений», характеризующих переход от старого типа культуры к новому: «Первое из них — развитие городов и национальных государств новой Европы. Ему сопутствует политическая литература, начинающаяся с Макиавелли и Гвиччардини и восходящая к утопиям Т. Мора и Т. Кампанеллы и теориям права Ж. Бодена, И. Альтуса и Г. Гроция… Второе из этих движений — развитие великого искусства и литературы в Европе… Третье движение этой эпохи происходит внутри христианской религиозности и церкви». (Не могу не поделиться тем чувством интеллектуального удовлетворения, какое я испытал, когда уже после того, как пришел к аналогичному выводу, нашел ему подтверждение в только что изданной у нас и прежде мне неизвестной книге одного из крупнейших философов и культурологов XIX—XX столетий и успел включить ссылку на осуществленную им декомпозицию данного процесса в уже написанную главу моей книги. Тем большее удивление и удовлетворение вызвало у меня чтение М. де Унамуно, который в анализе трагедии Гете «Фауст» пришел к выводу, что триединство «Ренессанс, Реформация и Революция» привели нашу культуру к ее европейскому состоянию — Революция трактуется здесь как «дочь Ренессанса и Реформы».).
Правомерен вопрос — отвечает ли выделение этих трех, и только этих трех, дорог по которым шло становление нового исторического типа культуры, столь важному для системно-синергетического анализа критерию необходимости и достаточности основных модификаций нелинейного процесса?
Ответ на него начну с того, что на рассматриваемом этапе истории материально-производственная база жизни общества была в принципе общей для всех его национальных форм — это развивавшееся в городах профессионализировавшееся ремесло, перераставшее в мануфактуру, а затем в индустриальное, фабрично-заводское производство; эпифеноменом данного процесса было развитие внутринационального рынка и межнациональной, наземной, речной и морской, торговли с необходимой им банково-финансовой системой. Однако на этом общем фундаменте вырастали, согласно подтверждаемой реальной историей структурной модели К. Маркса, к сожалению, не разработанной им досконально, различные политические надстройки с соответствующим их правовым обоснованием и еще более разнообразные формы духовной деятельности. Таким образом, нелинейный характер развития на этом уровне мог и должен был определяться разным соотношением практически-политической и духовной энергий, а эта последняя необходимо проявлялась в религиозной и светской формах. Данную динамическую структуру можно представить наглядно в очередной схеме:

Схема 18.
Историки обычно исследуют Ренессанс, Реформацию и республиканизацию разрозненно в связи с тем, что возобладавший еще в XIX веке под влиянием позитивизма эмпирико-аналитический подход ограничивает исследование единичными фактами, неизбежно их при этом изолируя от смежных, а на связи с ними обращает внимание только тогда, когда они имеют предметно выраженный характер; суть проблемы, однако, не в том, что «итальянские Возрождение и гуманизм повлияли на идеологию и политическое движение протестантизма», как отмечает автор предисловия к фундаментальному каталогу организованной в Берлине в 1983 году грандиозной выставки «Искусство эпохи Реформации», посвященной 500-летию со дня рождения М. Лютера, а в том, что независимо от наличия или отсутствия прямых связей этих процессов, как и взаимодействия того и другого со становлением республиканско-демократического строя в нескольких европейских странах, это были разные проявления нелинейного хода развития человечества на пути, говоря традиционным языком историков, от Средневековья к Новому времени. Хотя разрозненное исследование различных конкретных форм данного процесса — в литературе, в изобразительном искусстве, в учениях гуманистов, в рождении протестантизма, в политической жизни разных европейских стран и т. д. — действительно обогащает нас конкретной информацией фактографического характера, оно приводит, образно говоря, к тому, что за скрупулезным анализом отдельных деревьев теряется представление о лесе в его целостном бытии.
В интересующем нас сейчас случае речь должна, таким образом, идти о трех разных путях перехода от одного исторического типа к другому, при том, что во всех трех случаях переход этот имел революционный — то есть качественно преобразовывавший культуру — характер. Применительно к политической ветви данного процесса это не нуждается в доказательствах: произошедшие в Англии в XVII веке и во Франции в XVIII свержения королей, их казнь и установление республик — в прямом и точном смысле слова революции, и этого никак не опровергает восстановление в обоих случаях, спустя несколько лет, монархического строя. Но точно так же революцией, только культурной, в сфере общественного сознания, духовной жизни европейцев, идеологии, являлась Реформация, как ее точно характеризовали и Ф. Энгельс, и М. Вебер, — достаточно вспомнить силовую реакцию на нее так называемой «контрреформации», кровавые акции инквизиции, печально знаменитую Варфоломеевскую ночь. Но и Возрождение было культурной революцией, только не в религиозной, а в светской сфере сознания — примечательно в этом смысле сделанное однажды Г. Гейне замечание, как всегда у него, ироничное по форме, но вполне серьезное по существу: итальянские живописцы не менее успешно полемизировали с поповщиной, чем саксонские теологи, ведь цветущее тело на картинах Тициана значило больше, чем идеи протестантизма, и бедра его Венеры были более основательными тезисами, чем те, которые немецкий монах приклеил к дверям церкви в Виттенберге.
В ряде отношений Возрождение сохраняет, конечно, некоторые черты культуры позднесредневекового города — как могло быть иначе? — однако в существе своем было опровержением самих устоев религиозномистического сознания; это очевидно при сравнении картин ренессансных живописцев и средневековых на те же самые евангельские сюжеты, или рассуждений итальянских гуманистов с догматическими декларациями «отцов церкви», или отношения Возрождения и Средневековья к античному художественному наследию, или архитектуры ренессансных соборов и палаццо с готическими храмами и рыцарскими замками, или, наконец, ренессансной космогонии с опровергавшейся ею библейской картиной мироздания. Весьма существен и такой приводимый Э. Гарэном аргумент, как характер ренессансного самосознания: «Осознание того, что родилась новая эпоха, в своих отличительных признаках противоположная эпохе предшествующей, — одна из типичных черт культуры XV и XVI веков». Поэтому вполне оправданно Л. Г. Брагина, вслед за Ф. Энгельсом, говорит об «огромном революционном потенциале» Возрождения «в борьбе со средневековой системой мышления».
Правда, как пишет Л. Г. Брагина в предисловии к русскому изданию избранных работ Э. Гарэна по истории итальянского Возрождения, его позиции противостоят «широко распространенные в трудах западных историков и философов тенденции медиевизации ренессансной культуры, стирания грани между средними веками и Возрождением». По сути дела, именно такое «стирание грани» лежит в основе теории «восточных Ренессансов» — достаточно познакомиться с докладами московских востоковедов, выступавших в 1966 г. на международном симпозиуме по теоретическим проблемам развития восточных литератур с обоснованием данной идеи (они опубликованы в сборнике «Теоретические проблемы восточных литератур»), В резюмирующем выступлении И. С. Брагинского «Возможен ли Ренессанс на Востоке?» утвердительный, хотя и крайне осторожный, ответ был основан на том, что сформулированный им «комплекс признаков, выявляющий сущность Ренессанса», характеризовал совсем не Возрождение, а культуру позднего средневекового города! Не случайно и то, что когда сам Н. И. Конрад приводил примеры параллельного развития литературы на Западе и на Востоке, он характеризовал, как правило, именно средневековые ее формы, а не собственно ренессансные.
Рассмотрим же более внимательно все три траектории этого подлинно революционного по своему содержанию и историческому значению процесса преобразования культуры феодального общества в культуру персоналистскую, ибо она противопоставила тысячелетнему господству традиционализма «поиск индивидуальности», как сформулировал это Л. М. Баткин, или, сформулирую это более резко, рождение человеческой личности как субъекта свободной творческой деятельности. (Я предпочитаю говорить в данном историко-культурном контексте о «личности», а не об «индивидуальности», хотя имею в виду то же самое, что Л. М. Баткин: «Это категория, в которой пафос единственности и оригинальности в принципе каждого индивида прямо проистекает из индивидуальной свободы. Так что можно бы сказать, что праздником индивидуальности следует считать 14 июля — день взятия Бастилии…» Представляется поэтому точным суждение Г. Вейса, автора посвященного истории архитектуры и прикладных искусств монументального энциклопедического словаря «История цивилизации»: «Эпоха Ренессанса, с ее стремлением к свободе самовыражения, видоизменила художественные формы, особенно орнаментацию и ее применение. Эти перемены обусловливались осознанием права на свободное развитие личности…»).
Но и в культуре Возрождения творческие права личности были, как уже отмечалось, далеко небеспредельны, каковыми они станут впоследствии, начиная с Романтизма и кончая Модернизмом, то есть тогда, когда новый тип культуры, который я и называю персоналистским, обретет господствующее положение в культуре буржуазного общества, станет ее системообразующим и — таков парадоксальный ход истории! — одновременно системоразрушающим свойством.