Французская литература второй половины xx — начала xxi века
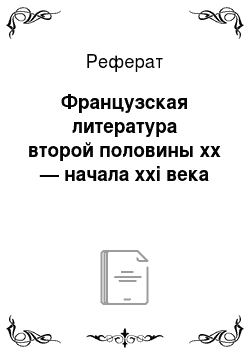
В центре одного из самых известных произведений Турнье, романа «Лесной царь» (Le Roi des aulnes, Гонкуровская премия за 1970 г.), судьба Абеля Тиффожа — некоего современного «невинного», пикарескного героя, «симплициссимуса», чистое око которого (скрытое за очками с толстыми стеклами) прозревает в окружающем мире то, что не способны увидеть другие. Часть романа представляет собой «Мрачные… Читать ещё >
Французская литература второй половины xx — начала xxi века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Социокультурная ситуация во Франции после 1945 г. Понятие «ангажированной литературы». — Сартр и Камю: полемика между двумя писателями; художественные особенности послевоенного экзистенциалистского романа;развитие экзистенциалистских идей в драматургии («За закрытой дверью», «Грязныеруки», «Затворники Альтоны» Сартра и «Справедливые» Камю). — Этическая и эстетическая программа персонализма; творчество Кейроля: поэтика романа «Я буду жить любовью других», эссеистика. — Концепция искусства как «антисудьбы» в позднем творчестве Мальро: роман «Орешники Альтенбурга», книга эссе «Воображаемый музей». — Арагон: интерпретация «ангажированности» (роман «Гибель всерьез»). — Творчество Селина: своеобразие автобиографических романов «Из замка в замок», «Север», «Ригодон». — Творчество Жене: проблема мифа и ритуала; драма «Высокий надзор» и роман «Богоматерь Цветов». — «Новый роман»: философия, эстетика, поэтика. Творчество Роб-Грийе (романы «Резинки», «Соглядатай», «Ревность», «В лабиринте»), Саррот («Планетарий»), Бютора («Распределение времени», «Изменение»), Симона («Дороги Фландрии», «Георгики»). — «Новая критика» и понятие «текста». Бланшо как теоретик литературы и романист. — Французский постмодернизм: идея «новой классики»; творчество Не Клезио;роман «Лесной царь» Турнье (особенности поэтики, идея «инверсии»); языковой эксперимент Новарина; постмодернистская литература рубежа XX—XXI вв.: «новый морализм» Уэльбека, «мистическое декадентство» Киньяра, иронический дискурс Эшноза; новые формы жанра биографии Мишона; мулътикультурализм и национальная самоидентификация в творчестве Бен Джеллуна; «новая ангажированность» Ндьяй; между поисками «национальной идентичности» и «национальной драмой»: осмысление колониальных войн Франции в литературе текущего десятилетия.
Изучив данную главу, студент будет:
знать
- • периодизацию литературного процесса во Франции (начиная с послевоенного периода и до наших дней);
- • социокультурную ситуацию в послевоенной Франции, особенности послевоенной литературы (1940;е — начало 1950;х гг.);
- • что такое «французский экзистенциализм», его варианты и жанровые разновидности;
- • послевоенное творчество А. Мальро;
- • специфику творчества Л. Арагона как политически ангажированного писателя;
- • содержание послевоенного творчества Л.-Ф. Селина;
- • театр Ж. Жене;
- • особенности поэтики «нового романа» (на примере творчества А. РобГрийе, Н. Саррот, М. Бютора, К. Симона);
- • основные концепции французского структурализма (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Бланшо);
- • своеобразие французского постмодернизма 1970—1980;х гг. («неоромантизм» Ж.-М. Г. Ле Клезио и М. Турнье, «театр слов» В. Новарина);
- • особенности постмодернизма 1990—2010;х гг. (творчество М. Уэльбека, П. Киньяра, Ж. Эшноза);
- • что такое мультикультурализм и поиски национальной идентичности (на примере творчества Бен Джеллуна);
- • творчество М. Ндьяй как пример «новой ангажированности»;
- • романы о войне в Алжире как способ национальной самоидентификации;
уметь
- • раскрывать содержание полемики Ж.-П. Сартра и А. Камю;
- • рассказать об экзистенциализме как философско-художественном направлении, его основных категориях;
- • выявить особенности поэтики экзистенциалистского романа;
- • объяснять причину обращения писателей-экзистенциалистов к театру;
- • называть основные черты поэтики «нового романа»;
- • объяснять влияние структурализма на «новую критику» (Р. Барт);
- • характеризовать концепцию мира и человека в постмодернистской литературе;
владеть
- • принципами анализа экзистенциалистских художественных текстов;
- • представлением об интерпретации мифа у французских экзистенциалистов;
- • пониманием художественных особенностей «нового романа» (А. РобГрийе, Н. Саррот, М. Бютор, К. Симон);
- • умением анализировать произведения Ле Клезио, М. Турнье и др. с привлечением понятий философии постмодернизма;
- • трактовкой концептуальных особенностей творчества писателейпостмодсрнистов (М. Уэльбек, П. Киньяр, Ж. Эшноз и др.);
- • умением определять идейную направленность произведений современной литературы.
Французская литература второй половины XX в. во многом сохранила свой традиционный престиж законодательницы мировой литературной моды. Ее международный авторитет оставался заслуженно высоким, даже если взять такой условный критерий, как Нобелевская премия. Ее лауреатами в послевоенные годы стали А. Жид (1947), Ф. Мориак (1952), А. Камю (1957), СенЖон Перс (1960), Ж.-П. Сартр (1964), С. Бекетт (1969), К. Симон (1985), Ж.-М. Г. Ле Клезио (2008).
Наверное, было бы неверно отождествлять литературную эволюцию с движением истории как таковой. Вместе с тем очевидно, что ключевые исторические вехи — май 1945 г. (освобождение Франции от фашистской оккупации, победа во Второй мировой войне), май 1958 г. (приход к власти президента Ш. де Голля и относительная стабилизация жизни страны), май 1968 г. («студенческая революция», движение контркультуры) — помогают понять направление, в котором продвигалось общество. Национальная драма, связанная с капитуляцией и оккупацией Франции, колониальные войны, которые Франция вела в Индокитае и Алжире, левое движение — в эти события так или иначе были вовлечены писатели.
В этот исторический период ключевой фигурой для Франции стал генерал Шарль де Голль (1890—1970). С первых дней оккупации его голос зазвучал на волнах Би-Би-Си из Лондона, призывая к сопротивлению силам Вермахта и властям «нового французского государства» в Виши, возглавляемого маршалом А.-Ф. Петеном (героем Первой мировой войны). Де Голлю удалось претворить позор бесславной капитуляции в осознание необходимости борьбы против врага, придать движению Сопротивления в годы войны характер национального возрождения. Программа Национального комитета Сопротивления (так называемая «хартия»), содержавшая в перспективе идею создания новой либеральной демократии, требовала глубинного преобразования общества. Ожидалось, что идеалы социальной справедливости, разделяемые участниками Сопротивления, будут реализованы в послевоенной Франции. В определенной степени так и произошло, однако для этого понадобилось не одно десятилетие. Первое послевоенное правительство де Голля просуществовало всего несколько месяцев.
В Четвертой республике (1946—1958) де Голль как идеолог национального единства оказался во многом невостребованным. Этому способствовали и «холодная война», вновь поляризовавшая французское общество, и болезненно переживавшийся многими процесс деколонизации (отпадение Туниса, Марокко, затем Алжира). Эпоха «великой Франции» наступила лишь в 1958 г., когда ставший наконец полновластным президентом Пятой республики (1958—1968) де Голль сумел положить конец алжирской войне, утвердить линию независимой военной политики Франции (выход страны из НАТО) и дипломатического нейтралитета. Относительное экономическое процветание и промышленная модернизация привели к становлению в 1960;е гг. во Франции так называемого общества потребления.
В годы войны французские писатели, как и их соотечественники, были поставлены перед выбором. Одни предпочли коллаборационизм, гу или иную степень признания оккупационных властей (П. Дриё Ла Рошель, Р. Бразийяк, Л.-Ф. Селин), другие — эмиграцию (А. Бретон, Б. Пере, Ж. Бернанос, Сен-Жон Перс, А. Жид), третьи присоединились к движению Сопротивления, видную роль в котором играли коммунисты. А. Мальро под псевдонимом полковник Берже командовал бронетанковой колонной, поэт Р. Шар сражался в маки (партизанское движение; от фр. maquis — заросли кустарника) Прованса. Стихи Л. Арагона цитировал Ш. де Голль по радио из Лондона. Листовки со стихотворением «Свобода» П. Элюара сбрасывали над территорией Франции английские самолеты. Общая борьба заставила писателей забыть о былых разногласиях: под одной обложкой (например, подпольно издававшегося в Алжире журнала «Фонтен») печатались коммунисты, католики, демократы — «те, кто верил в небо», и «те, кто в него не верил», как писал Арагон в стихотворении «Роза и резеда». Был высок моральный авторитет тридцатилетнего А. Камю, ставшего главным редактором журнала «Комба» (Combat, 1944—1948). Публицистика Ф. Мориака на время затмила его славу как романиста.
Очевидно, что в первое послевоенное десятилетие на первый план выдвинулись литераторы, участвовавшие в вооруженной борьбе против немцев. Национальным комитетом писателей, созданным коммунистами во главе с Арагоном (в те годы убежденным сталинистом), были составлены «черные списки» иисателей- «изменников», что вызвало волну протеста со стороны многих участников Сопротивления, в частности Камю и Мориака. Наступил период жесткой конфронтации между авторами коммунистического, прокоммунистического толка и либеральной интеллигенцией. Характерными публикациями этого времени стали выступления коммунистической печати против экзистенциалистов и сюрреалистов («Литература могильщиков» Р. Гароди, 1948; «Сюрреализм против революции» Р. Вайана, 1948).
В журналах политика и философия преобладали над литературой. Это заметно по персоналистскому «Эспри» (Esprit, гл. ред. Э. Мунье), экзистенциалистскому «Тан модерн» (Les Temps modernes, гл. ред. Ж.-П. Сартр), коммунистическому «Леттр франсез» (Les Lettres frangaises, гл. ред. Л. Арагон), философско-социологическому «Критик» (Critique, гл. ред. Ж. Батай). Самый авторитетный предвоенный литературный журнал «Нувель ревю франсез» (La Nouvelle revue frangaise) на некоторое время прекратил свое существование.
Художественные достоинства литературных произведений словно отодвинулись на второй план: от писателя ждали прежде всего моральных, политических, философских суждений. Отсюда понятие ангажированной литературы (litterature engagee, от фр. engagement — обязательство, поступление на службу добровольцем, политическая и идеологическая позиция), гражданственности литературы.
В серии статей в журнале «Комба» Альбер Камю (Albert Camus, 1913—1960) утверждал, что долг писателя — быть полноправным участником Истории, неустанно напоминать политикам о совести, протестуя против всякой несправедливости. Соответственно, в романе «Чума» (1947) он попытался нащупать те моральные ценности, которые могли бы объединить нацию. Жан-Поль Сартр (Jean-Paul Sartre, 1905—1980) пошел «еще дальше»: согласно его концепции ангажированной литературы, политика и литературное творчество нераздельны.
Литература
должна стать «социальной функцией», чтобы «помочь изменить общество» («Я думал, что отдаюсь литературе, а принял постриг», — писал он с иронией по этому поводу).
Для литературной ситуации 1950;х весьма показательна полемика между Сартром и Камю, приведшая к их окончательному разрыву в 1952 г. после выхода эссе Камю «Бунтующий человек» (L'Homme revolte, 1951). В нем Камю сформулировал свое кредо: «Я бунтую, следовательно, мы существуем», — но тем нс менее осудил революционную практику, ради интересов нового государства узаконившую репрессии над инакомыслящими. Камю противопоставил революции (породившей Наполеона, Сталина, Гитлера) и метафизическому бунту (маркиза де Сада, Ивана Карамазова, Ницше) «идеальный бунт» — протест против недолжной действительности, который фактически сводится к самоусовершенствованию личности. Упрек Сартра Камю в пассивности и примиренчестве обозначил границы политического выбора каждого из этих двух писателей.
Политическая ангажированность Сартра, ставившего себе целью «дополнение» марксизма экзистенциализмом, привела его в 1952 г. в стан «друзей СССР» и «попутчиков» коммунистической партии (серия статей «Коммунисты и мир», «Ответ Альберу Камю» в «Тан модерн» за июль и октябрь — ноябрь 1952 г.). Сартр участвует в международных конгрессах в защиту мира, регулярно, вплоть до 1966 г., бывает в СССР, где с успехом ставятся его пьесы. В 1954 г. он даже становится вице-президентом Общества дружбы «Франция — СССР». «Холодная война» заставляет его сделать выбор между империализмом и коммунизмом в пользу СССР, подобно тому, как в 1930;е гг. Р. Роллан видел в СССР страну, способную противостоять нацизму, дающую надежду на построение нового общества. Сартру приходится идти на компромиссы, которые он до этого осудил в своей пьесе «Грязные руки» (1948), в то время как Камю остается непримиримым критиком всех форм тоталитаризма, в том числе и социалистической действительности, сталинских лагерей, ставших после Второй мировой войны достоянием гласности.
Характерным штрихом в противостоянии двух писателей стало их отношение к «делу Пастернака» в связи с присуждением автору «Доктора Живаго» Нобелевской премии (1958). Известно письмо Камю (Нобелевского лауреата 1957 г.) Пастернаку с выражением солидарности. Сартр же, впоследствии сам отказавшийся от Нобелевской премии (в 1964 г.), высказал сожаление, что Пастернаку дали премию раньше, чем Шолохову, и что единственное советское произведение, удостоенное такой награды, было опубликовано за границей.
Личность и творчество Ж.-П. Сартра и А. Камю оказали огромное влияние на интеллектуальную жизнь Франции 1940—1950;х гг. Несмотря на их разногласия, в сознании читателей и критиков они олицетворяли собой французский экзистенциализм, взявший на себя глобальную задачу решения главных метафизических проблем бытия человека, обоснования смысла его существования. Сам термин «экзистенциализм» был введен во Франции философом Габриэлем Марселем (1889—1973) в 1943 г., а затем подхвачен критикой и Сартром (1945). Камю же отказывался признать себя экзистенциалистом, считая отправной точкой своей философии категорию абсурда. Несмотря на это, философско-литературное течение экзистенциализма во Франции обладало целостностью, что стало очевидно, когда ему на смену в 1960;е пришло увлечение «структурализмом». Историки французской культуры говорят об этих феноменах как об определяющих интеллектуальную жизнь Франции на протяжении тридцати послевоенных лет.
Реалии войны, оккупации, Сопротивления подтолкнули писателей-экзистепциалистов к разработке темы человеческой солидарности. Они заняты обоснованием новых принципов человечности — «надежды отчаявшихся» (по определению Э. Мунье), «бытия-против-смерти». Так становятся возможными программное выступление Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм» {LExist.entialisme est ип humanisme, 1946), а также формула Камю: «Абсурд есть метафизическое состояние человека в мире», однако «нас интересует не само по себе это открытие, а его следствия и правила поведения, из него извлекаемые».
Пожалуй, не стоит переоценивать вклад французских писателей-экзистенциалистов в развитие собственно философских идей «философии существования», имеющей глубокие традиции в немецкой (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, К. Ясперс) и русской.
(Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов) мысли. В истории философии французскому экзистенциализму не принадлежит первое место, но в истории литературы оно, несомненно, остается за ним. Сартр и Камю — оба выпускники философских факультетов — уничтожили пропасть, существовавшую между философией и литературой, обосновали новое понимание литературы («Хотите философствовать — пишите романы», — говорил Камю). В связи с этим Симона де Бовуар (Simone de Beauvoir, 1908—1986), единомышленница и спутница жизни Сартра, в своих мемуарах приводит остроумные слова философа Реймона Арона, адресованные в 1935 г. ее мужу: «Видишь ли, если ты занимаешься феноменологией, ты можешь говорить об этом коктейле [разговор происходил в кафе] и это уже будет философия!» Писательница вспоминает, что Сартр, услышав это, буквально побледнел от волнения («Сила возраста», 1960).
Влияние экзистенциализма на послевоенный роман шло по нескольким линиям. Экзистенциалистский роман — роман, решающий проблему существования человека в мире и обществе. Его герой — «весь человек, вобравший всех людей, он стоит всех, его стоит любой» (Сартр). Сюжет романа в достаточной мере условен: герой блуждает (в прямом и переносном смысле) по пустыне жизни в поисках утраченных социальных и естественных связей, в поисках самого себя. Тоска по подлинному бытию имманентна человеку («ты не искал бы меня, если бы уже не нашел», — заметил Сартр). «Человек-скиталец» (homo viator, но терминологии Г. Марселя) испытывает состояние тревоги и одиночества, ощущение «затерянности» и «ненужности», которое может быть в той или иной степени наполнено общественным и историческим содержанием. Обязательно наличие в романе «пограничной ситуации» (термин К. Ясперса), в которой человек вынужден сделать нравственный выбор, т. е. стать собой. Болезнь века писатели-экзистенциалисты лечат не эстетическими, а этическими средствами: обретением чувства свободы, утверждением ответственности человека за свою судьбу, права на выбор. Сартр заявлял, что для него главной идеей творчества было убеждение в том, что «от каждого произведения искусства зависит судьба вселенной». Он устанавливает особые отношения читателя с писателем, интерпретируя их как драматическое столкновение двух свобод.
Литературное творчество Сартра после войны открывает тетралогия «Дороги свободы» (Les Chemins de la liberte, 1945—1949). Четвертый том цикла «Последний шанс» (La Demiere chance, 1959) так и не был завершен, хотя публиковался в отрывках в журнале «Тан модерн» (под названием «Странная дружба»). Это обстоятельство можно объяснить политической ситуацией 1950;х гг. Каким должно быть участие героев в Истории с началом «холодной войны»? Выбор становился не столь очевиден, как выбор между коллаборационизмом и Сопротивлением. «Своей незавершенностью произведение Сартра напоминает о том этапе развития общества, когда герой осознает свою ответственность перед историей, но не имеет достаточно сил, чтобы творить историю», — заметил литературовед М. Зераффа.
Трагедия существования и непреодолимые идеологические противоречия получают у Сартра не только прозаическое, но и сценическое воплощение (пьесы «Мухи», Les Mouches, 1943; «За закрытой дверыо», Huis clos, 1944; «Почтительная потаскушка», Laputain respectueuse, 1946; «Мертвые без погребения», Motts sans sepultures, 1946; «Грязные руки», Les Mains sales, 1948). Сартровские пьесы 1950;х отмечены печатью трагикомедии: анатомия государственной машины (примитивного антикоммунизма) становится темой пьесы-фарса «Некрасов» (Nekrassov, 1956), моральный релятивизм всякой деятельности на ниве Истории и общества постулируется в драме «Дьявол и Господь Бог» (Le Diable et le Ron Dieu, 1948).
Пьеса <<�Мухи", написанная Сартром по просьбе режиссера Шарля Дюлена и поставленная в период оккупации, объясняет причины, по которым Сартр обратился к театру. Его влекла не страсть к сцене, а возможность непосредственного воздействия на аудиторию. Ангажированный писатель, Сартр влиял на Историю, устами Ореста призывая соотечественников (униженный народ Аргоса) к сопротивлению оккупантам.
Созданный свободным, человек может так и не обрести свободу, оставшись пленником собственных страхов и неуверенности. Боязнь свободы и неспособность к действию свойственны главному герою драмы «Грязные руки» Гуго. Сартр считает, что «экзистенция» (существование) предшествует «эссенции» (сущности). Свобода как априорный признак человека в то же время должна быть обретена им в процессе существования. Имеются ли границы свободы? Ее пределом в этике Сартра становится ответственность. Следовательно, можно говорить о кантианской и христианской сущности экзистенциалистской этики (ср. с известными словами Ж.-Ж. Руссо: «Свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого»). Когда Юпитер предупреждает Ореста, что открытие им правды не принесет счастья народу Аргоса, а лишь погрузит его в еще большее отчаяние, Орест отвечает, что он не имеет права лишать народ отчаяния, так как «жизнь человека начинается по ту сторону отчаяния». Лишь осознав трагизм своего существования, человек становится свободным. Каждому требуется для этого собственное «путешествие на край ночи».
В пьесе «За закрытой дверью» (1944), которая поначалу называлась «Другие», трое мертвых (Инес, Эстель и Гарсен) осуждены вечно пребывать в обществе друг друга, познавая смысл того, что.
«ад — это другие». Смерть положила предел их свободе, «за закрытой дверью» у них нет выбора. Каждый становится судьей другого, каждый пытается забыть о присутствии другого, но даже молчание «кричит им в уши». Присутствие другого отнимает у человека его лицо, он начинает видеть себя глазами другого. Зная, что его мысли, которые «тикают, как будильник», могут быть услышаны, он становится провокатором, не только марионеткой, жертвой, но и палачом. Подобным же образом Сартр рассматривал проблему взаимодействия «быгия-для-себя» (осознания себя как свободной личности с проектом собственной жизни) с «бытием-длядругих» (ощущением себя под взглядом другого) в книге «Бытие и ничто» (1943).
Пьесы «Грязные руки» и «Затворники Альтоны» (Les Sequestres d’Altona, 1959), отстоящие друг от друга на десятилетие, являются осмыслением практики коммунизма и нацизма. В пьесе «Грязные руки» Сартр (имевший перед глазами советский опыт построения социалистического общества) попытался разрешить конфликт между нравственностью и революционным насилием. В одном из государств Центральной Европы перед окончанием войны коммунисты стремятся захватить власть. Страна (возможно, Венгрия) будет занята советскими войсками. Мнения членов компартии разделились: вступить ли ради успеха во временную коалицию с другими партиями или опереться на силу советского оружия. Один из лидеров партии, Хёдерер, выступает за коалицию. Противники подобного шага решают ликвидировать оппортуниста и поручают это Гуго, который становится секретарем Хёдерера (Сартр обыграл здесь обстоятельства убийства Л. Троцкого). После многих колебаний Гуго совершает убийство, но и сам погибает от рук товарищей как ненужный свидетель. Он готов принять смерть.
Пьеса строится в виде размышлений Гуго о происшедшем — он ждет товарищей, которые придут объявить ему приговор. Рассуждения Гуго о морали Хёдерер называет буржуазным анархизмом. Он руководствуется принципом, что «чистые руки — у тех, кто ничего не делает» (ср. с революционной формулой Л. Сен-Жюста: «Нельзя править безвинно»). Хотя Сартр заявлял, что «Гуго никогда не был ему симпатичен» и сам он считает позицию Хёдерера более «здоровой», по сути пьеса стала обличением кровавого сталинского террора (зарубежной деятельности советской разведки), и именно так она была воспринята зрителями и критикой.
Пьеса «Затворники Альтоны» — одна из самых сложных и глубоких пьес Сартра. В ней Сартр пытался изобразить трагедию XX в. как столетия исторических катастроф. Можно ли требовать личной ответственности от человека в эпоху коллективных преступлений, какими были мировые войны и тоталитарные режимы? Иначе говоря, вопрос Ф. Кафки о том, «может ли вообще человек считаться виновным», Сартр переводит в историческую плоскость. Принять свой век со всеми его преступлениями пытается «с упрямством побежденного» бывший нацист Франц фон Герлах. Пятнадцать лет после окончания войны он провел в затворе, преследуемый страшными воспоминаниями военных лег, которые он изживает в бесконечных монологах.
Комментируя пьесу «За закрытой дверью», Сартр писал: «Каков бы ни был круг ада, в котором мы живем, я думаю, что мы свободны его разрушить. Если люди его не разрушают, значит, они остаются в нем добровольно. Так добровольно они заключают себя в ад». Ад Франца — его прошлое и настоящее, так как историю нельзя повернуть вспять. Сколько Нюрнбергский суд ни говорил бы о коллективной ответственности за преступления, каждый — по логике Сартра, одновременно и палач, и жертва — будет переживать их по-своему. Ад Франца — не другие, а он сам: «Один плюс один равняется один». Единственный способ разрушить этот ад — саморазрушение. Франц ставит себя на грань безумия, а затем прибегает к самому радикальному способу самооправдания — кончает с собой. В финальном монологе, записанном перед самоубийством на магнитофонную ленту, он говорит о бремени своего выбора следующее: «Я вынес этот век на своих плечах и сказал: я за него отвечу. Сегодня и всегда». Пытаясь оправдать свое существование перед лицом будущих поколений, Франц утверждает, что он — дитя XX в. и, следовательно, не вправе никого осуждать (в том числе отца; тема отцовства-сыновства также одна из центральных в пьесе).
«Затворники Альтоны» со всей очевидностью демонстрируют разочарование Сартра в ангажированной литературе, в жестком разделении людей на виновных и невиновных. Не менее напряженно, чем Сартр, работал после войны А. Камю. Поэтика его романа «Посторонний» (1942) дает понять, почему он не готов был назвать себя экзистенциалистом. Кажущаяся циничность повествования имеет двойную направленность: с одной стороны, вызывает ощущение абсурдности земного бытия, но, с другой стороны, за этой манерой Мерсо кроется простодушное приятие каждого мгновения (к этой философии автор приводит Мерсо перед казнью), способное наполнить жизнь радостью и даже оправдать человеческий удел. «Можно ли придать физической жизни моральные основания?» — спрашивает Камю. И сам же пытается ответить на этот вопрос: человек обладает естественными добродетелями, которые не зависят от воспитания и культуры (и которые общественные институты лишь искажают), такими как мужественность, покровительство слабым, в частности, женщинам, искренность, отвращение ко лжи, чувство независимости, любовь к свободе.
Если существование не имеет смысла, а жизнь — единственное благо, во имя чего рисковать ею? Рассуждение на эту тему привело писателя Жана Жионо (1895—1970) в 1942 г. к мысли о том, что лучше быть «живым немцем, чем мертвым французом». Известна телеграмма Жионо французскому президенту Э. Даладье по поводу заключения Мюнхенского соглашения (сентябрь 1938 г.), отсрочившего начало Второй мировой войны: «Мне не стыдно за мир, каковы бы ни были его условия». Мысль Камю двигалась в ином направлении, как это следует из эссе «Миф о Сизифе» (Le Mythe de Sisyphe, 1942). «Стоит ли жизнь труда быть прожитой», если «чувство абсурда может поразить человека в лицо на повороте любой улицы»? В эссе Камю решает «единственную действительно серьезную философскую проблему» — проблему самоубийства. Вопреки абсурду бытия он строит свою концепцию морали на рациональном и позитивном видении человека, который способен привносить порядок в изначальный хаос жизни, организовать его в соответствии с собственными установками. Сизиф, сын бога ветров Эола, за свою изворотливость и хитроумие был наказан богами и осужден вкатывать на крутую гору громадный камень. Но у самой вершины горы каждый раз камень срывается вниз, и «бесполезный труженик преисподней» снова принимается за свою тяжелую работу. Сизиф «учит высшей верности, которая отрицает богов и поднимает обломки скал». Каждое мгновение Сизиф возвышается духом над своей судьбой. «Надо представлять себе Сизифа счастливым», — таков вывод Камю.
В 1947 г. Камю публикует роман «Чума» {La Peste), имевший оглушительный успех. Как и «Дороги свободы» Сартра, он выражает новое понимание гуманизма (личностное сопротивление личности катастрофам истории): «…выход — не в банальном разочаровании, а в еще более упорном стремлении» к преодолению исторического детерминизма, в «лихорадке единения» с другими. Камю описывает воображаемую эпидемию чумы в городе Оране. Аллегория прозрачна: фашизм (а возможно, и коммунизм), как чума, расползался по Европе. Каждый герой проходит свой путь, чтобы стать борцом против чумы. Доктор Риё, выражающий позицию самого автора, подает пример великодушия и самоотверженности. Другой персонаж, Тарру, сын богатого прокурора, на основе своего жизненного опыта и в результате поисков «святости без Бога» приходит к решению «во всех случаях становиться на сторону жертв, чтобы как-нибудь ограничить размах бедствия». Эпикуреец журналист Рамбер, стремящийся уехать из города, в конце концов остается в Оране, признав, что «стыдно быть счастливым в одиночку». Лаконичный и ясный стиль Камю не изменяет ему и на этот раз. Повествование подчеркнуто безлично: только к концу читатель понимает, что ведется оно доктором Риё, стоически, подобно Сизифу, выполняющим свой долг и убежденным в том, что «микроб — это естественно, а остальное — здоровье, честность, чистота, если хотите, — это результат воли».
В своем последнем интервью Камю на вопрос, можно ли его самого считать «посторонним» (по видению мира как всеобщего страдания), ответил, что изначально он и был посторонним, но его воля и мысль позволили ему преодолеть свой удел и сделали его существование неотделимым от времени, в которое он живет.
Театр Камю (драматургией писатель занялся одновременно с Сартром) насчитывает четыре пьесы: «Недоразумение» (Le Malentenduv 1944), «Калигула» (Caligula, 1945), «Осадное положение» (L'Etat. de siege, 1948), «Справедливые» (LesJustes, 1949). Особенно интересна последняя пьеса, созданная по мотивам книги «Воспоминания террориста» Б. Савинкова. Камю, который пристально изучал проблему революционного насилия, обратился к опыту русских эсеров-террористов, пытаясь выяснить, как благие намерения, самоотверженность могут сочетаться с утверждением права на убийство (позднее он анализирует эту ситуацию в эссе «Бунтующий человек»). Основой морали террористов является их готовность отдать свою жизнь взамен отнятой у другого. Лишь при соблюдении этого условия индивидуальный террор ими оправдан. Смерть уравнивает палача и жертву, иначе любое политическое убийство становится «подлостью». «Начинают с жажды справедливости, а кончают тем, что руководят полицией», — доводит эту мысль до логического конца начальник департамента полиции Скуратов. Планируемое, а затем и осуществленное убийство великого князя Сергея Александровича сопровождается спором революционеров о цене революции, ее жертвах. Бомбометатель Каляев нарушил приказ Организации и не бросил бомбу в карету великого князя, так как в ней были дети. Каляев хочет быть не убийцей, а «творцом правосудия», ведь если пострадают дети, народ «возненавидит революцию». Однако не все революционеры думают так. Степан Федоров убежден, что революционер имеет «все права», в том числе и право «переступить через смерть». Ои считает, что «честь — роскошь, которую себе могут позволить лишь владельцы карет». Парадоксальным образом любовь, во имя которой действуют террористы, тоже оказывается непозволительной роскошью. Героиня пьесы Дора, которая любит «благородного» террориста Каляева, сформулировала это противоречие: «Если единственный выход — смерть, мы не на правильном пути… Сначала любовь, а справедливость потом». Любовь к справедливости несовместима с любовью к людям, таков вывод Камю. Бесчеловечность грядущих революций уже заложена в этой антиномии.
Камю считает иллюзорной всякую надежду на то, что революция может стать выходом из ситуации, которой она вызвана.
Закономерным в связи с этим было обращение Камю к опыту Ф. М. Достоевского. Помимо оригинальных пьес Камю написал сценический вариант романа «Бесы» (1959). В Достоевском, высоко ценимом им, писателя восхищала способность распознать нигилизм в самых разных обличиях и найти пути его преодоления. «Справедливые» Камю — один из лучших образцов театра «пограничных ситуаций», столь плодотворного в 1950;е гг.
Последний роман Камю «Падение» (La Chute, 1956), несомненно, наиболее загадочное его произведение. Оно имеет глубоко личный характер и, вероятно, обязано своим появлением полемике автора с Сартром по поводу эссе «Бунтующий человек» (1951). В споре с левой интеллигенцией, «уличавшей» Камю в прекраснодушии, он вывел в «Падении» «лжепророка, которых так много развелось сегодня», — личность, охваченную страстью к обвинению других (разоблачению своего века) и самообвинению.
Однако Кламанс (его имя отсылает к латинскому выражению vox damans in deserto — «глас вопиющего в пустыне») воспринимается, по мнению биографов писателя, скорее как некий двойник самого Камю, чем как карикатура на Сартра. Одновременно он напоминает племянника Рамо из одноименного сочинения Дени Дидро и героя «Записок из подполья» Достоевского. В «Падении» Камю виртуозно использовал театральную технику (монолог героя и имплицитный диалог), превратив своего героя в трагического актера.
Одним из вариантов экзистенциалистского романа стал персоналистский роман, образцов которого довольно мало, так как вокруг главного теоретика этого философского течения Э. Муньс объединились в основном философы и критики, а не писатели. Исключение составляет Жан Кейроль (Jean Cayrol, 1911—2005). Сартр, думается, не без оснований заметил, что «в жизни каждого человека есть уникальная драма», которая составляет суть его жизни. Драма, пережитая Кейролем, участником Сопротивления, узником концлагеря Маутхаузен, имела измерение, позволяющее вспомнить о ветхозаветном Иове. Писатель попытался ответить на вопросы, порожденные его жизненным опытом: «Узник вернулся, хотя казался обреченным. Почему он вернулся? Почему именно он вернулся? В чем смысл смерти других?».
Ответом на эти вопросы стала трилогия «Я буду жить любовью других» (Je vivrai Vamour des autres, 1947—1950). Первые два тома трилогии «С вами говорят» (On vous parle) и «Первые дни» (Les Premiers jours, 1947) были удостоены премии Ренодо (1947) и принесли писателю широкую известность. Роман «С вами говорят» написан от первого лица и представляет собой монолог безымянного персонажа. Кейроль первым показал «человека толпы» (в отличие от Рокантена и Мерсо, отмеченных печатью исключительности), так как из опыта войны вынес убеждение в том, что «обыкновенный человек — это и есть самое необыкновенное». Из сбивчивой исповеди повествователя мы узнаем о некоторых фактах его детства, юности, о заключении в концлагере, о подробностях его теперешней жизни, проходящей в поисках работы и в вечном страхе потерять крышу над головой, — словом, о его внутренней жизни, сотканной из воспоминаний и размышлений.
Сюжетный стержень романа — блуждания рассказчика по городу. Встречи с людьми на улицах, разговоры с соседями по квартире, в которой он снимает угол, — этим ограничивается внешняя канва романа. Вместе с тем за счет евангельских реминисценций Кейроль придает субъективным переживаниям персонажа почти космический масштаб: он не только «первый встречный», но представляет собой весь человеческий род.
«Моя жизнь — открытая дверь» — таков принцип существования персонажа Кейроля. Вот он встречает своего бывшего товарища по заключению Робера, который зарабатывает себе на жизнь увеличением фотографий, и берет его перед лицом читателя по защиту: «Имейте в виду, если вам встретится тип, который предложит увеличить фотографии, не отказывайте ему. Ему нужно это не для того, чтобы выжить, но чтобы верить, что он живет». Готовность сочувствовать человеку — это то, что, по мнению писателя, делает человека человеком, и подобное качество присуще его герою.
Проблему выбора жизненного пути герой Кейроля решает не в пользу общества. Включиться в жизнь общества для него означает предать себя, утратить человеческое достоинство: «Упряжь не разговаривает, и с ней не разговаривают». Символичен эпизод, когда герой находит на мостовой стофранковый билет. При его нищенском существовании банкнота кажется ему пропуском в новую жизнь, но «представьте себе, я так и не потратил те деньги; никогда… Может быть, придет день, когда я перестану бояться стать одним из вас… Я не хочу есть, слишком велик мой голод». То, что в плане событийном выглядит неправдоподобным, в плане философии поступка полно смысла. Ценности, предлагаемые герою окружающим обществом (личный и материальный успех), не являются в его глазах подлинными. Чего же он жаждет? «Он в поисках жизни, которая была бы Жизнью», — говорит Кейроль о своем герое в предисловии. Кейролевский герой живет интенсивной духовной жизнью, ищет высокий смысл в повседневности. «Нас сжигает огонь, не нами зажженный» — подобное духовное беспокойство преследовало протагонистов Ф. Мориака и Ж. Бернаноса, отказывавшихся принять мир таким, каков он есть. В романе Кейроля предложены два пути противостояния недолжному миропорядку и верности идеалам человечности, сострадания.
С одной стороны, это творчество. Кейролевский герой мечтает написать «роман, в котором одиночество взорвется, как солнце». С другой — это страдание. Оно перерождает человека, принуждает его к большой, и не только эстетической, внутренней работе. Таким образом, автор ищет возможность подлинного самоосуществления личности, что соответствует персоналистской концепции «заново рожденного человека». (Ср.: «Произведение искусства вовлекает личность в „продуктивное воображение“; художник, соперничая с миром и превосходя его, сообщает индивидам новые ценности, заставляет человека как бы заново родиться — таков наиболее важный — демиургический аспект художественного творчества», Э. Мунье). Само заглавие трилогии: «Я буду жить любовью других» явно противостоит тезису Ж.-П. Сартра о том, что «ад — это другие» (1944).
Важный документ творческой биографии Кейроля — эссе «Лазарь среди пас» (Lazare parmi nous, 1950). История воскрешения Лазаря (Евангелие от Иоанна, гл. 12) увязана автором с собственным опытом «воскресения из мертвых». Задумываясь над тем, почему он смог выжить в нечеловеческих условиях концлагеря, Кейроль приходит к убеждению, что объяснить это можно только неуязвимостью человеческой души, ее многообразной и бесконечной способностью к творчеству, к воображению, которое он называет «сверхъестественной защитой человека».
С экзистенциалистской точки зрения, существование концлагерей было аргументом в пользу признания абсурдности мира, как об этом свидетельствует Давид Руссе (1912—1997). Вернувшись из заключения в концлагере, Руссе опубликовал два эссе: «Концентрационный мир» (L’Univers concentrationnaire, 1946) и «Дни нашей смерти» (Les Jours de noire mort> 1947). В них он сделал попытку философского анализа «мира концлагерей», ввел в послевоенную французскую литературу понятие «концентрационната», «концентрационной повседневности», увидев в событиях Второй мировой войны подтверждение абсурдности истории. Кейроль возражал Руссе. Абсурд не всевластен, пока существует человек: «Он борется и нуждается в помощи». Поэтому писатель искал точку опоры для этой борьбы, взяв за основу тезис о нацеленности человека на должное бытие, на «доразвитие» реальности, которая «не замыкается в себе самой, а находит свое завершение за пределами себя, в истине». Тоска по бытию «высшего порядка» выявляет черты романтическо-идеалистического мировосприятия, свойственного Кейролю и персонализму в целом.
Писатели-экзистенциалисты не создали нового типа дискурса и использовали традиционные разновидности романа, эссе, драмы. Не создали они и литературной группы, оставаясь некими «одиночками» в поисках солидарности {solitaire etsolidaire — ключевые слова в их мировоззрении): «Одиночки! скажете вы презрительно. Быть может так, сейчас. Но как одиноки вы будете без этих одиночек» (Камю).
В 1960;е гг. после гибели Камю наступает заключительный этап эволюции экзистенциализма — подведение итогов. Большим успехом пользуются «Мемуары» Симоны де Бовуар («Воспоминания благовоспитанной девушки», Memoires dune jeunefille range e, 1958; «Сила возраста», La Force de l’age, 1960; «Сила вещей», La Force des chosesy 1963), автобиографический роман Сартра «Слова» (Les Mots, 1964). Давая оценку своему творчеству, Сартр замечает: «Я долго принимал перо за шпагу, теперь я убедился в нашем бессилии. Неважно: я пишу, я буду писать книги; они нужны, они все же полезны. Культура никого и ничего не спасает, да и не оправдывает. Но она — создание человека: он себя проецирует в нее, узнает в ней себя; только в этом критическом зеркале видит он свой облик».
В последние годы жизни Сартр в большей степени занимался политикой, чем литературой. Он руководил крайне левыми газетами и журналами, такими, как «Ла Коз дю пёпль» (La Cause du peuple, «Дело народа»), «Либерасьон» (Liberation, «Освобождение»), поддерживая все движения протеста, направленные против существующей власти, и отвергая альянс с коммунистами, ставшими к этому времени его идеологическими противниками. Пораженный слепотой (1974), Сартр умер весной 1980 г. (см. воспоминания о последних годах жизни Сартра в книге С. де Бовуар «Церемония прощания», La ceremonie des adieux, 1981).
Отличным от сартровского вариантом философии экзистенциализма в действии стало творчество А. Мальро (Andre Malraux, 1901 — 1976). Андре Мальро — человек-легенда, автор прогремевших до войны романов «Королевская дорога» (1930), «Удел человеческий» (1933), «Надежда» (1937). Один из руководителей Сопротивления на юге страны, полковник маки, командир бригады «Эльзас-Лотарингия», Мальро был неоднократно ранен, попадал в плен. В 1945 г. он познакомился с де Голлем и с этого момента остался до конца жизни его верным соратником. В нервом послевоенном правительстве стал министром информации, четыре года спустя — генеральным секретарем деголлевской партии, в 1958 г. — министром культуры.
Хотя после 1945 г. Мальро романов больше не публикует, он продолжает активную литературную деятельность (эссеистика, мемуары). Отчасти меняются его жизненные установки: независимый сторонник социализма в 1930;е годы, после войны он ведет борьбу против сталинского тоталитаризма; прежде убежденный интернационалист, теперь он возлагает все свои надежды на нацию.
Свой последний роман «Орешники Альтенбурга» (Les Noyers de VAltenburg, швейцарское изд. — 1943, фр. изд. 1948) Мальро представил как первую часть романа «Битва с ангелом», который был уничтожен фашистами (автор счел невозможным писать его заново). В нем отсутствует единство места и времени, характерное для предыдущих произведений Мальро, имеются черты разных жанров: автобиографии, философского диалога, политического романа, военной прозы. Речь в романе идет о трех поколениях респектабельной эльзасской семьи Берже (под этим псевдонимом воевал сам Мальро). Дед рассказчика Дитрих и его брат Вальтер, друзья Ницше, накануне 1914 г. организуют философские коллоквиумы в монастыре Альтенбург, в которых участвуют известные немецкие ученые и писатели, решая вопрос о трансцендентности человека (прообразом этих коллоквиумов послужили беседы самого Мальро с А. Жидом и Р. Мартеном дю Гаром в аббатстве Понтийи, где в 1930;е гг. проводились встречи европейских интеллектуалов). Отец рассказчика Винсен Берже, участник Первой мировой, на русском фронте познал ужас первого применения химического оружия. Сам же рассказчик начинает свое повествование воспоминанием о лагере французских пленных (в числе которых он был) в Шартрском соборе в июне 1940 г. и заканчивает книгу эпизодом военной кампании того же года, когда он, командуя экипажем танка, оказался в противотанковом рву под перекрестным огнем врага и чудом остался жив: «Теперь я знаю, что означают античные мифы о героях, вернувшихся из царства мертвых. Я почти не вспоминаю об ужасе; я несу в себе разгадку тайны, простой и священной. Так, наверное, Бог смотрел на первого человека».
В «Орешниках Альтенбурга» обозначены новые горизонты мысли Мальро. Героическое действие — стержень его первых романов — отходит на второй план. Речь по-прежнему идет о том, как преодолеть тревогу и победить смерть. Но теперь победу над судьбой Мальро видит в художественном творчестве. Символичен один из самых ярких эпизодов романа, когда впавшего в безумие Ф. Ницше друзья везут на родину, в Германию. В туннеле СенГотард, в темноте вагона третьего класса вдруг раздается пение Ницше. Это пение пораженного безумием человека преобразило все вокруг. Вагон был тот же, но в его темноте заблестело звездное небо: «Это была жизнь — я говорю просто: жизнь… миллионы лет звездного неба показались мне сметенными человеком, как сметает звездное небо наши бедные судьбы». Вальтер добавляет: «Самая великая тайна — не в том, что мы брошены на волю случая в мире материи и звезд, а в том, что в этой тюрьме мы способны вынуть из себя достаточно мощные образы, чтобы не согласиться с тем, что мы ничто» («nier notre neant»).
Все послевоенное творчество Мальро — книги эссе «Психология искусства» (Psychologic de Vart, 1947—1949), «Голоса безмолвия» (Les Voix du silence, 1951), «Воображаемый музей мировой скульптуры» (Le Musee imaginaire de la sculpture mondiale, 1952—1954), «Метаморфозы богов» (La Metamorphose des dieux, 1957—1976) — посвящено размышлениям об искусстве как «антисудьбе». Вслед за О. Шпенглером Мальро ищет черты сходства исчезнувших и современных цивилизаций в едином пространстве культуры и искусства. Мир искусства, созданный человеком, не сводится к реальному миру. Он «обесценивает реальность, как ее обесценивают христиане и любая другая религия, обесценивают своей верой в привилегию, надежду, что человек, а не хаос несет в себе источник вечности» («Голоса безмолвия»). Интересно замечание критика К. Руа: «Теоретик искусства, Мальро не описывает произведения искусства в их многообразии: он пытается собрать их, слить в одно перманентное произведение, в вечное настоящее, постоянно возобновляющуюся попытку бегства от кошмара истории. В 23 года в археологии, в 32 года в революции, в 50 лет в историографии искусства Мальро ищет религию».
В 1967 г. Мальро опубликовал первый том «Антимемуаров» (Antimemoires). В них, в соответствии с названием, нет воспоминаний детства писателя, нет и рассказа о личной жизни («разве важно то, что важно только для меня?»), нет воссоздания фактов собственной биографии. Речь же идет в основном о последних двадцати пяти годах его жизни. Мальро начинает с конца. Реальность переплетается с вымыслом, в неожиданных контекстах оживают персонажи его ранних романов, героями повествования становятся вожди наций (де Голль, Неру, Мао Цзэдун). Героические судьбы торжествуют над смертью и временем. Композиционно «Антимемуары» складываются вокруг нескольких диалогов, которые вел Мальро с генералом де Голлем, Неру и Мао. Мальро выносит их за рамки своей эпохи, помещая в вечность. Разрушительному характеру времени он противопоставляет героику прометеевского начала — деяния человека, «тождественные мифу о нем» (высказывание Мальро о де Голле, приложимое к нему самому).
В 1960;е гг. новые тенденции философии, гуманитарных наук и литературы вели в сторону, противоположную устремлениям экзистенциалистов. Писатель, пытающийся решить все проблемы культуры и истории, вызывает как уважение, так и недоверие. Особенно оно свойственно структуралистам. Ж. Лакан начинает говорить о «децентрировании субъекта», К. Леви-Стросс утверждает, что «цель гуманитарных наук — не конституирование человека, а его растворение», М. Фуко высказывает мнение, что человек может «исчезнуть, как рисунок на песке, смытый прибрежной волной».
Философия удаляется от экзистенциальных тем и занимается структурированием знания, построением систем. Соответственно, новая литература обращается к проблемам языка и речи, пренебрегает философско-нравственной проблематикой. Более актуальным становится творчество С. Бекетта и его интерпретация абсурда как нонсенса.
В 1970;е гг. экзистенциализм полностью утратил свои ведущие позиции, однако не стоит недооценивать его глубокого опосредованного влияния на современную литературу. Возможно, Бекетт идет дальше в развитии понятия абсурда, чем Камю, а театр Ж. Жене превосходит драматургию Сартра. Очевидно, однако, что без Камю и Сартра не было бы ни Бекетта, ни Жене. Влияние французского экзистенциализма на послевоенную литературу Франции сравнимо с влиянием сюрреализма после Первой мировой войны. Каждое новое поколение писателей вплоть до настоящего времени вырабатывало свое отношение к экзистенциализму, к проблеме ангажированности.
Луи Арагон (Louis Aragon, наст, имя — Луи Андрие, Louis Andrieux, 1897—1982) так же, как Мальро, Сартр, Камю, относится к числу ангажированных писателей. Это вылилось у него в приверженность коммунистическим идеям. Если А. Жида к увлечению коммунизмом привело чтение Евангелия, то Арагона захватила идея социальной революции, к которой он пришел от идеи революции в искусстве, будучи одним из основоположников сюрреализма. Ему понадобилось десять лет художественных экспериментов в кругу «золотой молодежи», чтобы затем освоить метод, названный им «социалистическим реализмом», и воссоздать эпоху 1920—1930;х гг. в романах цикла «Реальный мир» («Базельские колокола», Les Cloches de Bale, 1934; «Богатые кварталы», Les Beaux quartiers, 1936; «Пассажиры империала», Les Voyageurs de Vimperiale, 1939, 1947; «Орельен», Aurelien, 1944) и «Коммунисты» (Les Communistes, 1949—1951, 2-я ред. 1967—1968).
Активный участник Сопротивления, член ЦК компартии Франции, Арагон на страницах газеты «Леттр франсез» старался, хотя и не всегда последовательно (увлекаясь творчеством Ю. Тынянова, В. Хлебникова, Б. Пастернака), проводить линию партии в искусстве. Но после XX съезда КПСС он осуществляет ревизию своих прежних политических взглядов. В романе «Страстная неделя» (La Semaine sainte, 1958) им имплицитно проводится параллель между смутным временем наполеоновских ста дней и развенчанием сталинского культа личности. Стержнем романа оказываются предательство офицерами Наполеона (и соответственно коммунистами — Сталина) и их чувство вины. В романе «Гибель всерьез» (La Mise d mort, 1965) особый интерес представляют описание похорон А. М. Горького (в чьей судьбе писатель видел прообраз собственного пути) и размышления Арагона о границах реализма: «За долгую жизнь мне не раз случалось быть очевидцем событий, которые поначалу не казались чем-то особенно значительным. И когда позднее я постигал их смысл, то чувствовал себя простофилей: ведь видеть и не понять — все равно, что не видеть вовсе. Я только и видел, что роскошные, отделанные мрамором и украшенные скульптурами станции метро. Вот и толкуйте после этого о реализме. Факты бросаются в глаза, а вы отворачиваетесь от них с прекраснодушными суждениями… Такая нескладная штука жизнь. А мы все тщимся найти в ней смысл. Все тщимся… Наивные люди. Можно ли верить художнику? Художники сбиваются с пути, заблуждаются: „то он спутник, то преступник“».
«Мы пользуемся книгами как зеркалами, в которых пытаемся найти свое отражение», — пишет Арагон в послесловии к роману. Двойник героя Антоан — это Арагон-сталинист, которого хочет убить в себе («гибель всерьез») писатель. Он способен пойти на такой шаг безнаказанно («Гёте не обвинили в убийстве Вертера, не отдали под суд и Стендаля из-за Жюльена Сореля. У меня, если я убью Антоана, хотя бы будут смягчающие обстоятельства…»). Но оказывается, Антоана-сталиниста нельзя убить. Во-первых, потому что он «давно мертв», а во-вторых, потому, что «пришлось бы вместо него ходить на собрания». Словом, прошлое живет в нас, его не так просто похоронить.
Пражские события 1968 г. примирили Арагона с собственным отпадением от коммунизма советского образца. Он перестает заботиться о том, чтобы соответствовать своей роли ортодоксального члена партии — выступает в защиту А. Солженицына, А. Синявского, Ю. Даниэля, ходатайствует перед советским правительством об освобождении из тюрьмы кинорежиссера С. Параджанова. Его газета «Леттр франсез» в начале 1970;х гг. закрывается.
Совсем иначе проблема ангажированности предстает на примере творчества Луи-Фердинана Селина (Louis-Ferdinand Celine, наст, имя — Луи-Фердинап Детуш, Louis Ferdinand Destouches, 1894—1961). «Это человек, не имеющий никакой значимости в коллективе, он всего-навсего индивид» — эти слова Селина (пьеса «Церковь», 1933), послужившие эпиграфом к «Тошноте» Сартра, приложимы к самому Селину, отказавшемуся признать ответственность человека перед обществом.
Посмертная судьба этого писателя не менее удивительна, чем его жизнь: по мнению критики, ни у кого из французских писателей XX в. в настоящее время нет более прочного литературного статуса, чем у него. Его «черный лиризм», сопровождающийся деконструкцией-реконструкцией синтаксиса французского языка, представляет собой художественное достижение, сопоставимое по значимости с сонетами С. Малларме и прозой М. Пруста.
Помимо художественных достоинств стиля на многих французских писателей XX в. (в их числе Сартр и Камю) повлияла сквозная интонация сслиновских произведений. «Родство Сартра и Селина бросается в глаза. Очевидно, что „Тошнота“ (1938) прямо вытекает из „Путешествия на край ночи“ (1932) и „Смерти в кредит“ (1936). То же раздражение, предвзятость, желание всюду видеть безобразное, абсурдное, отвратительное. Примечательно, что два самых великих французских романиста XX века, как бы ни были они далеки друг от друга, едины в своем отвращении к жизни, ненависти к существованию. В этом смысле астма Пруста — аллергия, принявшая характер общей болезни, — и антисемитизм Селина сходны, послужили кристаллической основой для двух различных форм неприятия мира», — пишет о Селине писатель-постмодернист М. Турнье.
Во время Первой мировой войны Селин был мобилизован и в двадцать лет оказался на фронте, получил ранение в руку. Участие в войне стало для Селина той самой уникальной драмой, которая определила его дальнейшую жизнь. Врач по образованию, он имел все предпосылки сделать карьеру: в 1924 г. блестяще защитил диссертацию, выступал с докладами в Академии наук, ездил в командировки в Северную Америку, Африку и Европу, а в 1927;м открыл частную практику. Однако сфера его подлинных интересов оказалась иной. Не порывая окончательно с профессией врача, Селин начинает писать и сразу же становится знаменитым: его первые романы «Путешествие на край ночи» (Voyage аи bout de la nuit, премия Ренодо за 1932 г.) и «Смерть в кредит» (Mart a credit, 1936) произвели эффект разорвавшейся бомбы. Эпатирующее содержание романов усиливалось их необыкновенной стилистической самобытностью.
Материалом для «Путешествия…» послужил жизненный опыт писателя: воспоминания о войне, знание колониальной Африки, поездки в США, бурно переживавшие в первую треть века триумф промышленного капитализма, а также врачебная практика в бедном пригороде Парижа. Пикарескный герой романа, Бардамю, рассказывает свою историю от первого лица, рисуя перед читателем беспощадную картину абсурдности жизни. Провокативен образ мыслей этого антигероя, но еще более провокативен его язык. С. де Бовуар вспоминала: «Многие отрывки из этой книги мы знали наизусть. Его анархизм казался нам сродни нашему. Он атаковал войну, колониализм, посредственность, общие места, социум в таких стиле и тональности, которые нас увлекли. Селин отлил новое орудие: письмо такое же живое, как устная речь. Какое удовольствие мы получали от него после застывших фраз Жида, Алена, Валери! Сартр схватил его суть; окончательно отказался от чопорного языка, которым пользовался до сих пор».
Однако предвоенные антисемитские памфлеты Селина и демонстративный коллаборационизм («Чтобы стать коллаборационистом, я не ждал, пока Комендатура вывесит свой флаг над отелем „Крийон“») во время Второй мировой войны привели к тому, что его имя почти исчезло с литературного горизонта, хотя в 1940—1950;е гг. им были написаны и опубликованы роман о его лондонском путешествии 1915;го года («Марионетки», GuignoVs Band, 1944), повесть «Траншея» (Casse-pipe, 1949), а также записки о бомбардировках 1944 г., пребывании в политической тюрьме «Феерия для иного случая» (Feerie pourune autre fois} 1952) и продолживший их очерк «Нормане» (Nonnance, 1954).
В 1944 г. после краха правительства Виши Селин бежит в Германию, затем в Данию. Движение Сопротивления приговорило его к смертной казни. Сартр писал о том, что Селин «был куплен» нацистами («Портрет антисемита», 1945). Дания отказалась его выдать, тем не менее в Копенгагене писателя отдали под суд и приговорили к четырнадцати месяцам тюрьмы и проживанию под надзором полиции. В 1950 г. Селин был амнистирован, получил возможность вернуться во Францию, что и сделал в 1951;м. На родине Селин много работает и вновь начинает печататься, хотя ему трудно было ожидать непредвзятого отношения к себе и своему творчеству. Только после его смерти началось второе рождение Селина в качестве крупнейшего писателя, проложившего новые пути в литературе. Для литературной Франции конца XX в. он сделался столь же но-своему знаковой фигурой, как Дж. Джойс для Англии.
Селин объяснял свой творческий замысел исключительно как попытку передачи индивидуальной эмоции, которую необходимо изжить. Профетизм, свойственный его произведениям, свидетельствует о том, что писателю доставляла мрачное удовольствие роль Кассандры: один против всех. Автобиографические хроники «Из замка в замок» (D’un chateau I’autre, 1957), «Север» (Nord, 1960) и изданный посмертно роман «Ригодон» (Rigodon, 1969) описывают апокалипсическое путешествие Селина в сопровождении жены Лили, кота Бебера и друга-актера Ле Вигана по охваченной огнем Европе. Путь Селина лежал сначала в Германию, где в замке Зигмаринген он присоединился к агонизировавшему вишистскому правительству в изгнании и несколько месяцев работал врачом, леча коллаборационистов. Затем, выхлопотав через друзей разрешение на выезд, Селин под бомбами союзной авиации на последнем поезде сумел добраться до Дании. Объясняя свое намерение изобразить предсмертные дни правительства Петена, Селин писал: «Я говорю о Петене, Лавале, Зигмарингене, это момент истории Франции, хочешь — не хочешь; может быть, печальный, о нем можно сожалеть, но это момент истории Франции, он имел место и когда-нибудь о нем будут говорить в школе». Эти слова Селина требуют если не сочувствия, то понимания. В условиях полного военного поражения правительство маршала Петена (национального героя Первой мировой войны) сумело добиться разделения страны на две зоны, в результате чего многие из желавших покинуть Францию смогли сделать это через юг страны.
«Кружевной» стиль трилогии, написанной от первого лица (как и все селиновские произведения), передает ощущение всеобщего хаоса, неразберихи. Однако герой, прототипом которого является сам автор, одержим желанием выжить во что бы то ни стало, он не хочет признать себя побежденным. Пародийный тон трагикомического повествования скрывает бурю чувств и сожалений в его душе.
Кажущаяся легкость разговорной манеры Селина — результат упорной и продуманной работы («пятьсот печатных страниц равняются восьми тысячам рукописных»). Писатель Р. Нимье, большой поклонник творчества Селина, характеризовал его так: «„Север“ преподносит скорее урок стиля, чем урок морали. В самом деле, автор не дает советов. Вместо того, чтобы нападать на Армию, Религию, Семью, он постоянно говорит об очень серьезных вещах: смерти человека, его страхе, его трусости».
Трилогия охватывает период с июля 1944 г. по март 1945;го. Но хронология не выдержана: первым должен был бы стать роман «Север», а действие романа «Ригодон» неожиданно для читателя обрывается на самом интересном месте. Нестройное повествование, не вмещающееся в рамки какого-либо жанра, проникнуто ностальгическими воспоминаниями о прошлом. Очутившийся на перекрестке Истории, герой пытается отдать себе отчет в происходящем и подыскать себе оправдание. Селин творит свой собственный миф: он — великий писатель («можно сказать, единственный гений, и не важно, проклятый или нет»), жертва обстоятельств. Изображенная Селином пляска смерти и атмосфера всеобщего безумия работает на создание образа экстравагантного бунтаряодиночки. Вопрос о том, кто безумнее — непонятый пророк или окружающий мир, — остается открытым: «Каждый человек, который говорит со мной, в моих глазах мертвец; мертвец в отсрочке, если хотите, живущий случайно и один миг. Во мне самом живет смерть. И она меня смешит! Вот что не нужно забывать: мой танец смерти меня забавляет как безграничный фарс… Поверьте мне: мир забавен, смерть забавна; вот почему мои книги забавны и в глубине души я весел».
В противовес ангажированной литературе в 1950;е гг. начинается увлечение Селином. Движение контркультуры в 1968 г. также поднимает его на щит как антибуржуазного писателя и революционера. К концу XX в. творчество Селина становится в работах теоретиков постмодернизма (Ю. Кристева) антитезой всей предшествующей словесности. Подобной же, на первый взгляд, маргинальной, а по сути знаковой литературной фигурой стал Жан Жене (Jean Genet, 1910—1986). Он нс принадлежал к какой-либо школе, не следовал установкам экзистенциализма. Тем не менее, когда в 1951 г. издательство «Галлимар» начало публиковать собрание сочинений Жене, то краткое предисловие к нему было заказано Сартру. Работа над ним переросла в работу над довольно объемной книгой «Святой Жене, комедиант и мученик» (1952), написанной в русле экзистенциалистского психоанализа (чтение этой книги вызвало у Жене депрессию и творческий кризис). Сартр отнес Жене к кругу писателей, близких к экзистенциализму. По Сартру, он был вечным изгоем — и как человек, с детства оказавшийся на дне общества, и как художник-маргинал. В этой посылке была определенная правда: воспитанник сиротского приюта, несовершеннолетний преступник, завсегдатай исправительных учреждений, вор, значительную часть жизни проведший в тюрьме, Жене мифологизирует воровское сообщество, сближая его символику (восходящую, как он считает, к первомифам человеческого сознания) с экзистенциалистским видением мира.
Ключом к его драмам и романам может послужить древнегреческая трагедия с ее категориями необходимости (ананке) и судьбы (мойра). Хотя персонажи Жене принадлежат не к поколению героев, а к самому низшему в общественной иерархии социальному слою (преступники), писатель возвеличивает их, поэтизирует их страсти. Сами названия его романов — «Богоматерь Цветов» (Notre-Dame-des-Jleurs, 1944), «Чудо о розе» (Miracle de la rose, 1946), «Погребальный обряд» (Pompes funebres, 1948) — свидетельствуют о безудержном стремлении писателя заклясть мир тюрем, преступников и убийц путем сублимации архетипических человеческих страстей («увидеть себя таким, каким не сумею или не осмелюсь себя представить, но каким на самом деле являюсь»).
Помимо романов с 1943 по 1949 г. Жене публикует пьесы «Высокий надзор» {Haute suweillance, 1943, опубл. 1949), «Служанки» (Les Bonnes, 1947). Несомненное влияние оказал на творчество Жене блистательный Жан Кокто, его друг и покровитель, встреча с которым в 1943 г. сыграла решающую роль в его становлении как писателя. Жене пробовал себя и в других жанрах: писал стихи, киносценарии {"Песнь любви", 1950; «Каторга», 1952), либретто для балета («Зеркало Адама») и оперы, философские эссе. В 1950;е гг. Жене работает над пьесами «Балкон» (Le Balcon, 1955, опубл. 1956), «Негры» {Les Negres, 1956, опубл. 1958), «Ширмы» {Les Paravents, 1957, опубл. 1961). Большой интерес представляют его комментарии к ним: «Как играть „Балкон“» {Commentjouer «Le Balcon», 1962), «Как играть „Служанок“».
{Comment jouer «Les Bonnes», 1963), «Письмо Роже Блэну на полях „Ширм“» {Lettre a Roger Blin еп marge des «Paravents», 1966). Пьесы Жене имеют счастливую сценическую жизнь, их ставят знаменитые режиссеры второй половины XX в. (Луи Жуве, Жан-Луи Барро, Роже Блэн, Питер Брук, Петер Штайн, Патрис Шеро и др.).
Цель трагедии мыслится Жене как ритуальное очищение («изначальной задачей было избавление от отвращения к самому себе»). Парадоксальным образом преступление ведет к святости: «Святость — моя цель… Я хочу сделать так, чтобы все мои поступки вели меня к ней, хотя я и не знаю, что это такое». Стержнем произведений Жене является «некое необратимое действие, по которому нас и будут судить, или, если угодно, жестокое действие, которое судит само себя».
Желая вернуть театру ритуальную значимость, Жене обращается к истокам драмы. Во время погребения в античную эпоху участники ритуала (мистерии смерти) воспроизводили дромен (от греч. drama) покойного, т. е. его прижизненные деяния. Первая пьеса Жене «Высокий надзор» выводит на сцену дромен трех преступников, заключенных в камеру. По содержанию она перекликается с пьесой Сартра «За закрытой дверью». «Я» и «другой» оказываются связаны отношениями роковой необходимости, в которых не властны ни «я», ни «другой».
Действующие лица пьесы — 17-летний Морис и 23-летний Лефран соперничают между собой за внимание третьего заключенного, 22-летнего Зеленоглазого, который приговорен к смерти за убийство. Каждый из заключенных совершил собственный «великий прыжок в пустоту», отделивший его от других людей, и даже в камере продолжает свое падение. Преступление каждого было необходимо, как бы они ни сопротивлялись ему: они были избраны, они «притягивали беду». Их головокружительный путь по ту сторону добра и зла может остановить только смерть. Присутствие смерти, сначала в рассказах Зеленоглазого (о совершенном им убийстве), а затем в реальной жизни (Лефран убивает Мориса) «слишком сладко», ее красота и таинственность завораживают. Смерть неотделима от преступления, она и есть «беда», которая «нужна целиком». («Зеленоглазый. — Вы ничего не знаете о беде, если полагаете, будто ее можно выбрать. Моя, например, выбрала меня сама. Я бы понадеялся на что угодно, только бы ее избежать. Я совсем не хотел того, что со мной приключилось. Все мне было просто дано».).
Поэтизация смерти в рассказах Зеленоглазого («Крови не было. Только сирень»), красота Мориса («дрянь драгоценного, белого металла») и Зеленоглазого («Меня звали „Пауло с цветком в зубах“. Кто еще так же молод, как я? Кто остался так же красив после такой беды?»), подчеркнуто юный возраст участников драмы, которые могут «превратиться в розу или барвинок, маргаритку или львиный зев», парадоксально служат созданию приподнятой, почти праздничной атмосферы. Стремительно нарастает ощущение катастрофы, участники действа кружатся в хороводе смерти («Вы бы видели, как я плясал! О, ребята, я плясал — гак уж плясал!»). В результате провокационного поведения Мориса Лефран, который «послезавтра» выходит на свободу, совершает «настоящее» преступление: убивает Мориса, входя тем самым в круг посвященных в мистерию смерти. На глазах зрителей «беда» выбрала свою очередную жертву. Иными словами, «высокий надзор» осуществляется не старшим надзирателем, появляющимся в последней сцене пьесы, а самой судьбой, обручившей со смертью, ослепительно прекрасной и притягательной, сначала Зеленоглазого («(Дверь камеры отворяется, но на пороге никого нет.) Это за мной? Нет? Она пришла»), а затем Лефрана («Я сделал все, что мог, из любви к беде»).
Подобным образом повествование в романах Жене в кульминационные моменты приобретает черты мифа, действие отождествляется с ритуалом. В одном из лучших его романов «Богоматерь Цветов» (1944) в момент чтения смертного приговора герой перестает быть преступником и становится жертвой для заклания, «очистительной жертвой», «козлом, быком, ребенком». С ним обращаются, как с тем, на кого снизошла «Божья благодать». И когда через сорок дней, «весенней ночью», во дворе тюрьмы он был казнен (появляется образ жертвенного ножа), это событие стало «путем его души к Богу».
Присущая рассказчику ирония (повествование ведется от первого лица) не мешает преображению реальности в миф — преображению преступника, «взявшего на себя все грехи мира», в своего рода искупителя. Эта готовность к жертве подчеркивается именами персонажей Жене, говорящими об их особом избранничестве: Божественная, Первое причастие, Мимоза, Богоматерь Цветов, Принц-Монсеньор и т. п. (Нелишне напомнить, что преступивший Закон у Кафки имел совсем иную стилистику имени — Йозеф К.) Совершая преступление, человек переходит в потусторонний мир, законы посюстороннего мира теряют свою власть над ним. Этот момент перехода и изображает Жене как ритуал посвящения в мистерию смерти. Забрав чью-то душу, убийца отдает свою. В определенном смысле Жене обыгрывает ситуацию, к которой обращались как М. Метерлинк («Слепые»), так и А. Стриндберг («Фрёкен Жюли»),.
Тема трагического одиночества человека перед лицом судьбы не подводит Жене к тому, что интересовало экзистенциалистов, — к проблеме этического выбора, ответственности индивидуума за свой выбор. Хотя герой Жене заявляет, что он сам приговаривает себя к казни и сам себя освобождает из-под стражи, читатель не забывает, что власть героя над реальностью и самим собой эфемерна. В определенном смысле философия Жене оказывается близка пониманию мира как игры, театра.
По мере падения интереса к «ангажированной» литературе к середине 1950;х гг. все сильнее заявляет о себе кризис традиционных, восходящих еще к романтизму и натурализму форм письма. Надо сказать, что тезис о «смерти романа» не стал чем-то неожиданным. Уже в 1920;е годы символисты (П. Валери) и особенно сюрреалисты (А. Бретон, Л. Арагон) сделали немало, чтобы упразднить «обветшавшее» представление о главном прозаическом жанре. Был «отправлен на свалку» А. Франс, выдвинулся на авансцену М. Пруст. И позднее каждое новое поколение писателей бралось за революционную переделку романного мира. В 1938 г. Сартр осудил манеру Ф. Мориака, а в 1958 г. такой же разрушительной критике подверглись уже сами Сартр и Камю со стороны «нового романиста» А. Роб-Грийе.
В целом, однако, следует признать, что после Второй мировой войны во Франции не было такого расцвета романа, как в межвоенный период. Война развеяла многие иллюзии, связанные с возможностью противостояния индивида обществу, которое, как думается, составляет суть романного конфликта. Реакцией на эту ситуацию стал выход на авансцену французской литературы «нового романа» и «театра абсурда». Послевоенные авангардисты заявили о себе достаточно мощно. В течение шести лет, с 1953 по 1959 г., были опубликованы романы «Резинки», «Соглядатай», «Ревность», «В лабиринте», а также теоретические статьи (в том числе манифест «Путь для будущего романа», Une voie pour le roman futur, 1956) А. Роб-Грийе, романы «Мартеро» (Maitereau, 1953), «Тропизмы» (Tropismes, 1938, 1958), «Планетарий» Н. Саррот, романы «Миланский проезд» (Passage de Milan, 1954), «Распределение времени», «Изменение», статья «Роман как поиск» (Le Roman сотте recherche, 1955) М. Бюгора, роман «Ветер» К. Симона.
Большинство этих произведений вышли в свет по инициативе издателя Ж. Линдона в издательстве «Минюи» (фр. minuit — полночь), основанном в период Сопротивления для публикации подпольной литературы. Критики сразу заговорили о «романистах „Минюи“», о «школе взгляда» (Р. Барт), о «новом романе». «Новый роман» — удобное, хотя и расплывчатое, наименование, введенное для обозначения отказа от традиционных романных форм и смены их повествовательным дискурсом, который призван воплотить особую реальность. Однако каждый из новороманистов представлял ее себе по-своему. Некоторая общность теоретических установок Н. Саррот и А. Роб-Грийе не мешала этим писателям быть глубоко различными по своему почерку. Это же можно сказать о М. Бюторе и К. Симоне.
Тем не менее представителей этого поколения (отнюдь не школы!) объединяло общее стремление к обновлению жанра. Они ориентировались на новаторство Пруста, Джойса, Кафки, Фолкнера, Набокова, а также Бориса Виана. В автобиографических воспоминаниях «Вращающееся зеркало» (Le Miroirqui revient, 1985) Роб-Грийе признавался, что его приводили в восхищение «Посторонний» Камю и «Тошнота» Сартра.
В сборнике эссе «Эра подозрений» (L’Ere du soup con, 1956) Capрот утверждает, что модель романа XIX в. исчерпала себя. Интрига, персонажи («типы» или «характеры»), их перемещение в фиксированном времени и пространстве, драматическая последовательность эпизодов перестали, по ее мнению, интересовать романистов XX в. В свою очередь, Роб-Грийе заявляет о «смерти персонажа» и примате дискурса (в данном случае — прихотливости письма) над историей. Он требует, чтобы автор забыл о себе, исчез, отдав все поле изображаемому, перестал делать персонажей своей проекцией, продолжением своего социокультурного окружения. Дегуманизация романа, по Роб-Грийе, это гарантия свободы писателя, возможности «взглянуть на окружающий мир свободными глазами». Цель этого взгляда — развенчать «миф о глубине» бытия и заменить его скольжением по поверхности вещей: «Мир не значит ничего и не абсурден. Он крайне прост… Существуют вещи. Их поверхность гладка и чиста, девственна, она ни двузначна, ни прозрачна. Вещи есть просто вещи, а человек есть просто человек.
Литература
должна отказаться ощутить связь вещей через метафору и удовлетвориться спокойным описанием гладкой и ясной поверхности вещей, отрешившись от любой праздной интерпретации — социологической, фрейдистской, философской, взятой из эмоциональной сферы или из любой другой".
Освобождая вещи из плена стереотипного их восприятия, «десоциализируя» их, новороманисты и намеревались стать «новыми реалистами». «Реальность» в их понимании была связана с идеей не репрезентации, а письма, которое, обособляясь от автора, творит свое особое измерение. Отсюда отказ от представления о целостном персонаже. Его заменяют «вещи», в которых он отражается, — далекое от всякой статики пространство предметов, слов.
«Новый роман» переосмыслил отношения между читателем и текстом. Пассивное доверие, основанное на идентификации читателя и персонажа, должно было уступить место идентификации читателя с автором произведения. Читатель, таким образом, втягивался в процесс творчества и становился соавтором. Он вынужден был занять активную позицию, следовать за автором в его эксперименте: «Вместо того, чтобы идти на поводу у очевидного, к которому его приучила из-за его лени и спешки повседневная жизнь, он должен, чтобы различать и узнавать персонажи, как их различает сам автор, изнутри, по неявным признакам, которые можно распознать, лишь отказавшись от привычки к комфорту, погрузиться в них гак же глубоко, как автор, и обрести его видение» (Саррот). Роб-Грийе обосновывает эту мысль не менее настойчиво: «Отнюдь не пренебрегая своим читателем, автор провозглашает сегодня абсолютную необходимость активной, сознательной и творческой помощи читателя. От него требуется не принятие законченного образа мира, целостного, сосредоточенного на самом себе, а участие в процессе созидания вымысла… с целью научиться таким же образом созидать свою собственную жизнь».
«Развоплощение» персонажа усилиями новороманистов привело к тому, что взгляд наблюдателя заменяет действие. Мотивы поступков персонажей часто не названы, читатель может только догадываться о них. Здесь вступает в силу широко применяемый «новым романом» прием паралипса, который заключается в том, чтобы дать меньше информации, чем необходимо. Он часто используется в детективной литературе. Ж. Женетт предложил для него следующую формулу: «Опущение какого-либо поступка или важной мысли героя, о которых не могут не знать герой и рассказчик, но которые рассказчик предпочитает скрыть от читателя». По обмолвкам и обрывочным воспоминаниям читатель может, в принципе, восстановить некую «связную» картину событий.
Распространенный прием новороманистов — смещение временных и повествовательных планов (во французской структуралистской критике он назван приемом металепса). Знаменитый критик Ж. Женетт определяет его так: «В повествовании невозможно рационально отделить вымысел (или сон) от реальности, высказывание автора от высказывания персонажа, мир автора и читателя сливаются с миром персонажей» («Фигуры III», Figures III). Характерный пример использования металепса — рассказы X. Кортасара (в частности, новелла «Непрерывность парков»). По мере того как в сознании персонажа исчезает граница между реальностью и вымыслом, его мечты, воспоминания становятся «второй жизнью», а прошлое, настоящее и будущее получают новое прочтение. В читателе, таким образом, все время поддерживается сомнение в реальности изображаемого: оно в равной степени может быть фактом биографии героя, проектом будущего или же ложью, которую ее носитель разоблачит на следующей странице. Мы так и не узнаем, действительно ли Матиас из романа «Соглядатай» РобГрийе совершил убийство или лишь предавался мечтам о нем. Мы так и не узнаем, как и за что неизвестный убил свою возлюбленную в романе Маргерит Дюрас «Модерато кантабиле» (Moderate) cantabile, 1958).
Приемы, подобные металепсу, суггестируют представление о бытии как о чем-то иррациональном, прихотливом, всецело относительном: «Все происшествия и факты преходящи, как легкий бриз, как порыв ветра, и исчезают, оставляя лишь мимолетный след, неверно понятый, ускользающий из памяти. Мы так и не смогли ничего разгадать. Мы делаем вывод о непроницаемости существ, эволюционирующих в колеблющемся мире, о некоммуникабельности собеседников; следствие этого — злоупотребление монологом» (Ж. Кейроль). Перед читателем фактически «десептивная» модель романа (от фр. deception — обманутое ожидание): «Кажется, что повествование стремится к самой большой искренности. Но на самом деле рассказчик только расставляет читателю ловушки, он его все время обманывает, заставляет без конца искать, от кого исходит высказывание, и это не из доверия к нему, а чтобы, злоупотребив его доверием, запутать его… Рассказчик становится неуловимым, увлекая читателя вымыслом, в который прячется сам, становясь еще одним вымыслом. Ожидание полноты правды и, следовательно, ясного изложения обмануто» (П. Эмон). С подобными метаморфозами повествовательной логики тесно связаны метаморфозы художественного времени в романе. Оно «то сокращается (когда герой что-то забывает), то растягивается (когда он что-то выдумывает)» (Р. Барт).
Издательство «Галлимар» отказалось печатать первый роман Алена Роб-Грийе {Alain Robbe-Grillet, 1922—2008). Изображение города в романе «Резинки» {Les Gommes, 1953) — улиц, канала, домов — торжество очевидности, тогда как персонажи существуют лишь в виде силуэтов и теней, приводимых в движение непонятными нам мотивами. Поражает совершенная механика повествования, создающая повторением одних и тех же жестов и поступков особый масштаб, не совпадающий ни с личным переживанием времени, пи с временем астрономическим. Этот хронотоп, собственно, и приводит детективную интригу «Резинок» в действие. В «Соглядатае» (Le Voyeur, 1955), романе, восхищавшем В. Набокова, действие представляет собой череду жестов и поступков, обрамляющих убийство девушки коммивояжером. Если бы от нас не скрыли это событие и не заменили бы его временным пробелом, повествование бы распалось. Соответственно, роман посвящен усилиям убийцы затушевать некую лакуну во времени, вернуть миру, порядок которого нарушен преступлением, «ровную и гладкую» поверхность. Убийце для этого нужны вещи, предметы. Восстанавливая их «невозмутимость», он как бы стирает свое присутствие и перекладывает на мир свою вину. Не являясь в силу противоестественности преступления естественной частью универсума, убийца хочет ею стать, свести себя к «поверхности», т. е. набору жестов и поступков.
В «Ревности» (La Jalousie, 1957) Роб-Грийе обходится нс только без сюжета, но и без сколько-нибудь узнаваемых персонажей, и развертывает перед читателем мозаику то ли воображаемых, то ли реальных действий, накладывающихся друг на друга. В результате возникает фантом любовного треугольника на фоне некоей колониальной страны. Вместо того чтобы заполнить информационные пробелы, Роб-Грийе занимается описанием мест, пространственного расположения вещей, передвижения солнца и тени в разное время дня, постоянно возвращаясь к одним и гем же структурным ядрам (предметам, жестам, словам). Результат необычен: читателю кажется, что он находится в театре теней, которые ему следует материализовать на основании предложенных подсказок. Однако чем больше мы видим мир глазами ревнивого мужа, тем сильнее начинаем подозревать, что все в нем — игра болезненного воображения.
Мир, описываемый Роб-Грийе, был бы совершенно пуст и лишен значений, если бы человек, который введен в его границы, не пытался вступить с ним в сложные отношения. Они связаны как с желанием обжить его, сделать человечным, так и раствориться в нем. Воля к исчезновению, к растворению, согласно роману «В лабиринте» (Dans le labyrinthe, 1959), привычно для Роб-Грийе балансирующему на грани реального и ирреального, не менее субъективна, чем воля к созиданию. Фоном «бытия, небытия» становится в романе призрачный город. Но его заснеженным улицам, среди ничем не отличающихся друг от друга домов бродит солдат, который должен передать родственникам одного из своих погибших товарищей коробку с письмами и не имеющими особой ценности предметами. Фонари, двери подъездов, коридоры, лестницы — все это выступает в роли зловещих зеркал… В дальнейших своих произведениях Роб-Грийе (например, киносценарии для ленты А. Рене «Прошлым летом в Мариенбаде», 1961) меняет эстетику «шозизма» (от фр. chose — вещь) на прямо ей противоположную — эстетику «безбрежной субъективности», в основу которой положены навязчивые состояния психики, эротические фантазии.
В отличие от Роб-Грийе, который в 1950;е гг. принципиально ограничивает себя фиксацией всего «поверхностного», Натали Саррот {Nathalie Sanaute, наст, имя — Наталья Черняк, 1902— 1999) пытается через банальные детали повседневной жизни дать представление о незримой стороне человеческих отношений. Проникнуть за видимость вещей, показать силовые линии существования, рождающиеся как реакция на социальные и психические раздражители, — цель анализа Саррот. Прежде всего, он основан на подтексте (в данном случае это противоречащие словам жесты, умолчания). В «Планетарии» {Le Planetarium, 1959), пожалуй, самой яркой книге Саррот, «подводный» мир обретает особую рельефность. В нем идентифицируемы молодой глупец, претендующий на артистизм, его маниакальная тетка, развалившаяся семья, а также типаж знаменитой писательницы. Как это косвенно следует из названия романа, автора интересует не интрига, а движение персонажей-«планет» внутри некой космической системы. Свойство космических тел сближаться по особой траектории, притягиваться друг к другу, а затем отталкиваться лишь подчеркивает их изолированность. Образ закрытости сознания для внешнего мира переходит в другой роман Саррот, «Золотые плоды» (Les Fruits d’or, 1963): мы существуем только для самих себя; казавшиеся нам абсолютно верными наши суждения о предметах, произведениях искусства всецело относительны; слова, в целом, не вызывают доверия, хотя писатель и сопоставим с акробатом на трапеции.
От Роб-Грийе отличается и другой новороманист, Мишель Бютор (Michel Butor, р. 1926). Он не уверен, что романист должен стать «убийцей» движущегося времени. Время, по Бютору, важнейшая реальность творчества, но не столь сама собой разумеющаяся, как в классическом романе. Его необходимо завоевать, иначе оно окажется сметенным переживаемыми нами событиями: мы являем себя через время и время являет себя через нас. Бютор пытается выразить эту диалектическую связь в форме особой «хроники», через тщательный анализ мельчайших деталей. Нарратор в романе «Распределение времени» (L’Emploi du temps, 1956) — писатель. Он пытается занести на бумагу события семимесячной давности, связанные с его пребыванием в английском городе Блестоне. Для него это неприятное и трудное занятие. С одной стороны, настоящее вытекает из предшествующих событий. С другой — придает им принципиально иной смысл. Что же такое реальность в свете подобного диалога? По-видимому, это письмо, которое не имеет ни начала, ни конца, акт постоянно возобновляемого творчества. Обозначив проблематичность времени, роман Бютора неожиданно обрывается.
Эффектность романа «Изменение» (La Modification, премия Ренодо за 1957 г.) в том, что повествование в нем выполнено в форме вокатива (второе лицо множественного числа, используемое в формулах вежливости). Содержание же его достаточно традиционно. Речь идет о внутренней эволюции человека, отправляющегося в Рим, чтобы забрать оттуда свою возлюбленную; в конце концов, он решает оставить все так, как есть, и продолжать жить с женой и детьми, курсируя в качестве торгового агента между Парижем и Римом. Садясь в поезд, он находится во власти порыва начать новую жизнь. Но за время путешествия размышления и воспоминания, в которых смешались прошлое и настоящее, заставили его «модифицировать» свой проект. Использование обращения на «вы» позволило Бютору пересмотреть традиционные отношения романиста со своим произведением. Автор устанавливает дистанцию между собой и своим повествованием, выступая как свидетель и даже арбитр происходящего, избежав в то же время соблазна ложного объективизма и повествовательного всеведения. Действие романа «Мобиле» (Mobile, 1962) разворачивается на американском континенте. Его герой — пространство США как таковое, измеряемое то сменой часовых поясов (при перемещении с восточного побережья США на западное), то бесконечным повторением одного и того же спектакля человеческой жизни, которая становится олицетворением голого числа, надчеловеческой реальности.
Еще один крупный новороманист — Клод Симон (Claude Simon, 1913—2005). Дебютный роман Симона — «Обманщик» (Le Tricheur, 1945), центральный персонаж которого в чем-то напоминает героя Камю Мерсо. После десятилетия различных исканий (романы «Гулливер», Gulliver, 1952; «Весна Священная», Le Sacre du printemps, 1954) Симон, прошедший к этому времени увлечение У. Фолкнером, достигает зрелости в романах «Ветер» (Le Vent, 1957) и «Трава» (L'Herbe, 1958). В название романа «Трава» вынесен образ Б. Пастернака: «Никто не делает истории, ее не видно, как не видно, как растет трава». У Симона он означает безличность истории, роковую силу, враждебную человеку, а также сложность рассказать о чем-либо или реконструировать прошлое. Персонажи романа (умирающая старая женщина, ее племянница, изменяющая своему мужу) не имеют истории в том смысле, что их жизнь крайне заурядна. И тем не менее в передаче Симона эта обреченная на смерть и продуваемая насквозь ветром времени материя начинает «петь», получает артистическую «регенерацию».
В романе «Дороги Фландрии» (La Route des Flandres, 1960) сплетены между собой военная катастрофа (сам Симон воевал в кавалерийском полку), заключение в лагере для военнопленных и супружеская измена. Повествователь (Жорж) оказался свидетелем странной гибели своего командира. Ему кажется, что де Рейхак подставил себя под пулю снайпера. Жорж пытается понять причину этого поступка, связанного либо с военным поражением, либо с изменой жены Рейхака. После войны он находит Коринну и, желая разгадать загадку прошлого, сближается с ней, пытаясь поставить себя на место де Рейхака. Однако обладание Коринной (объектом его эротических фантазий) не проливает дополнительный свет на происшедшее в 1940 г. Попытка понять природу времени и установить хотя бы некую тождественность личности самой себе дублируется в романе переключением повествования с первого лица на третье, воспроизведением одного и того же события из прошлого (гибель Рейхака) посредством внутреннего монолога и прямого рассказа о нем. В результате возникает образ плотной, сумрачной ткани времени, полной различных зияний. Паутина памяти стремится затянуть их, но ее нити, которые несет с собой каждый человек-«паук», пересекаются лишь условно.
Роман «Отель» (Le Palace, 1962) воссоздает эпизод Гражданской войны в Испании. Речь в нем идет об убийстве республиканца недругами из своих же, республиканских рядов. Особое место в повествовании отведено описанию охваченной революцией Каталонии (Барселона) — калейдоскопу уличных зрелищ, красок, запахов. Роман со всей очевидностью рисует разочарование Симона в марксизме и желании переделать мир на путях насилия. Его симпатии на стороне жертв истории. Монументальный роман «Георгики» (Les Georgiques, 1981) — одно из самых значительных произведений Симона, где автор вновь обращается к теме столкновения человека со временем. В романе сплетены между собой три нарратива: будущего генерала наполеоновской империи (скрывающегося за инициалами Л. С. М.), кавалериста, участника Второй мировой войны, а также англичанина, бойца интербригад (О.). Любопытно, что все эти персонажи оставили после себя литературный след. Жизнь генерала реконструируется по его письмам и дневникам (в семье Симона хранился подобный архив); кавалерист пишет роман о Фландрии, где фигурирует Жорж; текст О. представляет собой книгу Дж. Оруэлла «Памяти Каталонии», «переписанную» Симоном. Проблематизируя очень сложные отношения между познанием, письмом и временем, Симон разрушительной стихии войн противопоставляет архетип земли, смены времен года (в конце концов генерал возвращается в родовое имение, чтобы в качестве гаранта преемственности поколений, «предка», наблюдать там за всходами винограда). На это намекает название, взятое у Вергилия. Через весь роман проходит и другой вергилиевский мотив (четвертая книга «Георгик») — миф об Орфее и Эвридике. Симоновская Эвридика — жена Л. С. М., которую он потерял при рождении сына. И без того непростая структура повествования усложнена отсылками к опере Глюка «Орфей и Эвридика» (1762).
В то время как новороманисты выясняли свои отношения с экзистенциализмом, постепенно набирала силу полемика между традиционным университетским литературоведением (придерживавшимся преимущественно социологического подхода к литературе) и критикой, которая объявила себя «новой», а все ранее практиковавшиеся методы анализа — «позитивистскими». Под знаменами «новой критики» условно объединились столь разные фигуры, как этнолог Клод Леви-Стросс (1908—2009) и психоаналитик Жак Лакан (1901 — 1981), философы Мишель Фуко (1926—1984) и Луи Альтюссер (1918—1990), семиотики Ролан Барт (1915—1980) и Жерар Женетт (р. 1930), теоретики литературы и коммуникации Цветан Тодоров (р. 1939) и Юлия Кристева (р. 1941) и многие другие гуманитарии, сосредоточившиеся на разработке культурологической проблематики и предложившие для этого особый понятийный инструментарий. Одним из главных органов этого движения, где причудливо сплелись между собой марксизм и формализм, психоанализ и структурная антропология, лингвистика и обновленная социология, научная методология и эссеизм, наследие Ф. де Соссюра, Московского и Пражского лингвистических кружков, М. Бахтина, Ж.-П. Сартра, стал журнал «Тель кель» (Tel quel, 1960—1982). Его идеологические установки не раз менялись по мере того, как «новая критика» проходила эволюцию от структурализма и нарратологии к постструктурализму и деконструктивизму. Под ее влиянием традиционное понятие художественного произведения уступило место внежанровому понятию текста как формы словесного творчества.
В определенной степени это подтверждал опыт самих гуманитариев новой волны. Этнограф К. Леви-Стросс, философ по образованию и теоретик структурализма, успешно применивший в этнологии лингвистические модели, стал автором оригинального автобиографического сочинения «Грустные тропики» (Tristes Tropiques, 1955). Сходное наблюдение позволяет сделать и позднее творчество Ролана Барта (Roland Barthes, 1915—1980). При исследовании новеллы О. де Бальзака «Сарразин» в книге «S/Z» (1970) он, описывая полифонию «чужих», звучащих сквозь ткань бальзаковского нарратива, голосов, превращается из аналитика в гистриона, актера. Эта тенденция еще более заметна в работе «Удовольствие от текста» (Le Plaisir du texte, 1973) и особенно в книгах «Ролан Барт о Ролане Барте» (Roland Barthes par Roland Barthes, 1975), «Фрагменты речи влюбленного» (Fragments d’un discours amoureux, 1977), «Светлая камера» (рус. пер. «Camera lucida»; La Chambre claire, 1980).
Указанная метаморфоза французской прозы в значительной мере связана с именем писателя и философа Мориса Бланшо (Maurice Blanchot, 1907—2003), который расширил границы романа до «пространства литературы» (L'Espace litteraire, 1955). Творчество для Бланшо — оборотная сторона «ничто», поскольку всякое письмо и речь связаны с дематериализацией мира, молчанием, смертью. Эта идея звучит в самих названиях его работ «Литература и право на смерть» (La Litterature et le droit a la mort, 1970), «Катастрофическое письмо» (L' Ecriture du desastre, 1980). Отношения писателя со своим произведением описываются Бланшо через миф об Орфее и Эвридике. Первые интерпретации этого мифа содержатся уже в его ранних романах («Темный Тома», Thomas TOhscur, 1941; «Аминадав», Aminadab, 1942).
Свое понимание литературы как преодоления существующей данности Бланшо возводит к идеям Малларме («Кризис стиха»), Ницше и Хайдеггера (видение реальности как отсутствия), создавая своего рода «негативную диалектику"'. «Если я говорю: эта женщина — нужно, чтобы я отнял у нее так или иначе ее реальное существо, чтобы она стала отсутствием и небытием. В слове мне дается бытие, но дается лишенным бытия. Слово — отсутствие, несуществование предмета, то, что остается от него после того, как он утратил свое бытие». Писатель не должен «что-то сказать», «создать» подобие мира. «Говорить», согласно Бланшо, значит «молчать», так как писателю «нечего сказать» и он может высказать лишь это «ничто». Образцовым писателем, через которого звучит «ничто», Бланшо считает Кафку. Реальность же, существующая вне вещей и независимо от писателя, живет по своим собственным законам и не может быть узнана («что-то говорит и говорит, словно говорящая пустота»). Как поэт пустоты, пугающего безмолвия, Бланшо в своих романах близок не только Кафке (блуждание героя по лабиринту комнат в романе «Замок»), но и экзистенциалистам.
Эволюция художественного творчества Бланшо шла по пути слияния романов с эссе: убывала сюжетность, а мир его книг делался все более зыбким, приобретая черты философскохудожественного дискурса. Повесть «Ожидание забвение» (L'Attente VOuhli, 1962) представляет собой фрагментарный диалог. В 1970—1980;е гг. его письмо окончательно становится фрагментарным («Шаг по ту сторону», Le Pas au-deld, 1973; «Катастрофическое письмо», L’Ecriture du desastre, 1980). Изменяется и атмосфера произведений Бланшо. Гнетущий образ всеразрушающей и одновременно творящей смерти уступает место тонкой интеллектуальной игре.
Литературно-философский опыт Барта и Бланшо показывает, насколько размытыми становятся границы жанров и специализаций. В 1981 г. (1980;й — год смерти Сартра и Барта, знаковых фигур французской литературы второй половины века) журнал «Лир» («Читать», Lire) опубликовал список наиболее влиятельных, по мнению редакции, современных писателей Франции. На первом месте оказался этнолог К. Леви-Стросс, за ним следовали философы Р. Арон, М. Фуко, теоретик психоанализа Ж. Лакан. Только пятое место было отдано «собственно» писателю — С. де Бовуар. М. Турнье занял восьмое место, С. Бекетт — двенадцатое, Л. Арагон — пятнадцатое.
Однако не следует считать, что 1960;е — середина 1970;х гг. во французской литературе прошли исключительно под знаком «нового романа» и тех политических акций (события мая 1968 г.), с которыми он себя как явление неоавангарда прямо или косвенно ассоциировал, а также смешения различных модусов письма. Так, продолжала публиковаться Маргерит Юрсенар (Marguerite Yourcenar, наст, имя — Marguerite de Crayencour, Маргерит де Крейянкур, 1903—1987), чей роман «Воспоминания Адриана» (Memoires d’Hadrien, 1951), воссоздающий атмосферу Рима II в., стал образцом жанра современного философско-исторического романа. Большое влияние на творческое становление Юрсенар оказала, по ее словам, проза Д. Мережковского. Успех имели также роман Юрсенар «Философский камень» (L’Cteuvre аи noir, 1968) и первые два тома ее автобиографической семейной саги «Лабиринты мира»: «Благочестивые воспоминания» (1974), «Северный архив» (1977). В последние годы жизни писательница, избранная в 1980 г. во Французскую Академию, продолжала работу над третьим томом «Что это? Вечность» (Quoi? L’etemite), опубликованным посмертно (1988).
Помимо Юрсенар, принадлежавшей к старшему поколению, к сравнительно традиционным по манере писателям относится, к примеру, Патрик Модьяно (Patrick Modiano, р. 1945), автор многочисленных романов (в частности, «Улица темных лавок», Rue des boutiques obscures, Гонкуровская премия за 1978 г.). Однако в его произведениях уже имеются приметы того, что вскоре назовут постмодерном, который многие из революционно настроенных французских «шестидесятников» восприняли как предательство идеалов свободы духа, неоконсерватизм.
К третьему послевоенному (или «постмодернистскому») поколению французских писателей принадлежат Ж.-М. Г. Ле Клезио, М. Турнье, Патрик Гренвиль («Огненные деревья», Les Flamboyants, Гонкуровская премия 1976 г.), Ив Навар («Ботанический сад», Le Jardin d’acclimatation, Гонкуровская премия 1980 г.), Ян Кеффлек («Варварские свадьбы», Les Noces barbares, Гонкуровская премия 1985 г.).
Жан-Мари Гюстав Ле Клезио (Jean-Marie Gustave Le Clezio, p. 1940), автор романов «Протокол» (Le Proces-verbal, премия Ренодо за 1963 г.), «Пустыня» (Le Desert, 1980), «Золотоискатель» (Le Chercheur d’or, 1985), «Опича» (Onitsha, 1991), «Диего и Фрида» (Diego et Frida, 1993), «Золотая рыбка» (Poisson d’or, 1996), «Африканец» (L'Africain, 2004), «Песенка голода» (Ritournelle de la faim, 2008) и др., не размышляет над формой романа: он просто говорит, быстро, задыхаясь, сознавая, что люди глухи, а время быстротечно. Предмет его тревоги — то, что составляет первичную реальность человечества: быть живым среди живых, подчиняясь великом}' вселенскому закону рождения и смерти. Истории персонажей Ле Клезио с их заботами, радостями детерминированы стихийными силами бытия, независимо от социальных форм их существования. С удивительным мастерством Ле Клезио манипулирует объективом воображаемой камеры, то уменьшая предметы, то увеличивая их до бесконечности. Природа безгранична и лишена центра. В космической перспективе человек — всего лишь букашка. С точки зрения букашки, он — всемогущий Бог, распоряжающийся жизнью и смертью. Независимо от того, растворяется ли человек в природе или принимает себя за центр мироздания, его страсти, приключения, смысл жизни банальны и предопределены. Подлинными, по Ле Клезио, являются лишь самые простые ощущения жизни: радость, боль, страх. Радость связана с пониманием и любовью, боль вызывает желание замкнуться в себе, а страх — бежать от него. Все остальные действия — препровождение времени, которое следовало бы употребить с большей пользой, учитывая случайность нашего рождения. Видение земной жизни Ле Клезио можно сравнить со взглядом жителя Сириуса, вдруг заинтересовавшегося далекими трепыханиями микроскопических существ. Ле Клезио, иными словами, намерен совершить прорыв там, где «новый роман», по его мнению, не покончил с антропоцентрической картиной мира, экспериментально упразднив традиционный сюжет, характер, но сохранив при этом определенные права за средой обитания человека — его вещными, социальными, вербальными коррелятами. Как писатель времени постмодерна — этот термин укоренился благодаря философу Ж.-Ф. Лиотару (Jean-Frangois Lyotard, 1924—1998) и его книге «Ситуация постмодерна. Доклад о знании» (La Condition postmodeme. Rapport sur le savoir, 1979), — поколения, пришедшего на смену новороманистам (в литературе) и структуралистам, а также иостструктуралистам (в философии), Ле Клезио намерен полностью отказаться от всякого представления о ценности, о структурности мира. В этом он, как и другие постмодернисты, опирается на новейшую физику (И. Пригожин, Ю. Климонтович) и ее концепцию динамического хаоса, хаоса как структуры высшего порядка.
«Экологический романтизм» и эскапизм Ле Клезио вновь привлекли к себе внимание в связи с присуждением писателю Нобелевской премии, но литературе в 2008 г. как «автору новых направлений, поэтических приключений и чувственного экстаза, исследователю природы человека за пределами господствующей цивилизации и внутри нее». Сын англичанина и француженки, подолгу живший в США, Японии, Нигерии, Мексике, Панаме, исследователь Старого и Нового Света, Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, автор более 40 книг, в числе которых романы, рассказы, эссе, повести, сказки, переводы индейской и африканской мифологии, Ле Клезио признается, что его единственная родина — французский язык, а самые счастливые годы жизни связаны с четырехлетним пребыванием в племени панамских индейцев Эмбера («Праздник заклятий», La Fete chantee, 1997).
Вместе с тем, увидев в своих предшественниках рационалистов, позитивистов, неискоренимых общественных реформаторов, писатели литературного постмодерна (как по-своему и символизм сто лет назад) решили — на сей раз уже на более последовательно неклассических, а также подчеркнуто нерелигиозных основаниях — восстановить права искусства, игры, фантазии, которые не создают все впервые, а существуют в лучах уже готового литературного знания (сюжеты, стили, образы, цитаты), на фоне «мировой библиотеки». В итоге критика заговорила о «новой классике» — реставрации драматического повествования, цельных персонажах. Однако воскрешение героя не означало апологии ценностного начала в литературе. В центре искусства постмодерна — искусство пародии (здесь и просматривается близость к классицизму, который эксплуатировал мифологические сюжеты ради своих собственных целей), специфических смеха и иронии, несколько ущербная, эротически приправленная барочная изысканность, смешивающая реальное и фантастическое, высокое и низкое, историю и ее игровую реконструкцию, мужское и женское начало, детализацию и абстракцию. Элементы пикарескного и готического романа, детектива, декадентской «страшной новеллы», латиноамериканского «магического реализма» — эти и другие обломки (стихийно перемещающиеся по космосу слов) реинтегрируются на достаточно крепкой сюжетной основе. Возникающая эмблема, ключ к которой утрачен или случаен, претендует на правдоподобие, которое вместе с тем абсолютно неправдоподобно, указывает на непродуктивность «монологического» взгляда на что-либо (от половой принадлежности до трактовки глобальных исторических фигур и событий). Олицетворением подобной тенденции во французском литературном постмодернизме стало творчество Турнье.
Мишель Турнье (Michel Toumier, р. 1924) по образованию философ. Он поздно обратился к литературе, но сразу же приобрел известность своим первым романом «Пятница, или Круги Тихого океана» (Vendredi ои les Limbes du Pacifique, 1967). Член Гонкуровской Академии, он является автором произведений, которые обыгрывают готовый материал — приключения Робинзона Крузо в «Пятнице», историю античных героев братьев-близнецов Диоскуров в романе «Метеоры» (Les Meteores, 1975), евангельский сюжет поклонения волхвов в романе «Гаспар, Мельхиор и Бальтазар» (Gaspard, Melchior et Balthazar, 1980). В 1985 г. вышел его роман «Золотая капля» (La Goutte d’or), в 1989;м — «Полночная любовь» (Le Medianoche атоигеих). Как писатель эпохи постмодерна, характеризующейся художественной эклектичностью, Турнье придерживается так называемой мягкой этики, которая позволяет ему преодолеть свойственную, в частности, экзистенциализму «пугающую тягу к бремени ценностей» (Ж. Делёз). Знакомые читателю образы способны стать у него незнакомыми, что соответствует тотальному ироническому настрою «пострелигиозной» культуры. Это отличает его и от структуралистов, выявлявших в мифе универсальную структуру мира.
Ткань повествования Турнье в меньшей степени эклектична, чем, например, у итальянца Умберто Эко (Umberto Есо, р. 1932), также использовавшего сюжет о Робинзоне (роман «Остров накануне», L’isola del giomo prima, 1994) в качестве архетипа бегства от цивилизации на природу. Но это не отменяет общей для этих писателей стилистики «интертекстуалыюсти» (термин Ю. Кристевой) — «вторичного» письма, имеющего прототип в виде «первичного» письма, но переписывающего его с противоположным знаком.
В центре одного из самых известных произведений Турнье, романа «Лесной царь» (Le Roi des aulnes, Гонкуровская премия за 1970 г.), судьба Абеля Тиффожа — некоего современного «невинного», пикарескного героя, «симплициссимуса», чистое око которого (скрытое за очками с толстыми стеклами) прозревает в окружающем мире то, что не способны увидеть другие. Часть романа представляет собой «Мрачные записки» Абеля, написанные от первого лица, часть — безличное повествование, куда включены выделенные курсивом фрагменты тех же записок. Поначалу обычный школьник, Тиффож открывает в себе магические способности: одного его желания достаточно, чтобы сгорел ненавистный ему коллеж. Позднее, когда ему грозит суд и тюрьма, начинается война и его спасает призыв в армию. Постепенно Тиффож начинает сознавать исключительность своей судьбы. Депортированный в Восточную Пруссию, он волей судьбы участвует в наборе мальчиков для школы юпгштурмовцев, которая расположена в старинном замке Кальтенбори, принадлежавшем когда-то рыцарскому ордену меченосцев. В прошлом хозяин гаража в Париже, он становится теперь «лесным царем» (или «ольховым царем», как в известной немецкой сказке), похищающим детей и наводящим ужас на всю округу. Германия представляется Абелю землей обетованной, магической «страной чистых сущностей», готовой открыть ему свои тайны (сам Турнье, студентом приехав в Германию на три недели, остался там на четыре года). Роман завершается сценой мученической смерти подростков, вступивших с советскими войсками в неравный бой. Сам же Абель погибает в болотах Мазурии с ребенком на плечах (тот спасен им из концлагеря), являясь олицетворением либо невинности, которая даже в условиях войны не знает врагов, к которой не пристает никакая грязь, либо поиска правды простых чувств и ощущений (ее фатально нс желает знать старческая цивилизация XX в.), возможностей инициации в высшее знание, либо контринициации — бессилия личности перед властными мифами.
Размышляя на эти темы, читатель не должен забывать, что их серьезность в рамках постмодернистского мультиверсума едва ли стоит переоценивать. Тиффож — не из каинова племени, но он и не подлинный Авель, не святой Христофор (взявшийся перенести ребенка через ручей и обнаруживший на своих плечах самого Христа). Ближе он к своим возможным литературным прототипам — вольтеровскому Кандиду, грассовскому Оскару Мацерату («Жестяной барабан») и даже набоковскому Гумберту, личности насколько неординарной (у Тиффожа необычайно тонкий слух), настолько же и шизофренической. Словом, «неоклассическая» реальность в романе — она же и абсолютное безумие, парадоксальный мир, где, как в повести Вольтера, «все к лучшему».
Подтверждая условность границы между прекрасным и безобразным, добром и злом, сам Турнье в книге «Ключи и замочные скважины» (Des Clefs et des semxres, 1983) замечает: «Все прекрасно, даже уродство; все священно, даже грязь». Если теоретики постмодернизма рассуждают о «недифференцированное™, гетерогенности знаков и кодов» (Н. Б. Маньковская), то Турнье склонен говорить о «коварной, злонесущей инверсии» (определяющей судьбу Тиффожа). Но какими бы «противоположными самим себе» ни были исповедь безумца в свою защиту и сам роман «Лесной царь», очевидно, что помимо безысходности, возведенной в нем в ранг сказки и высокого искусства, у Турнье дает о себе знать тоска, но идеалу, что сообщает его творчеству гуманистическое звучание.
Полем литературного эксперимента во Франции в самом конце XX в. стал, пожалуй, не роман, а некий текст-гибрид. Пример тому — публикации выдвинувшегося на авансцену сегодняшней литературной жизни Валера Новарина (Valere Novarina, р. 1947). Его тексты, начиная с 1970;х гг., синтезировали черты эссе, театрального манифеста, дневников. В итоге появился на свет «театр слов», или «театр для ушей». Такова театральная пьеса Новарина «Сад признания» (LeJardin de reconnaissance, 1997), воплотившая собой желание автора «создать что-то с изнанки» — вне времени, вне пространства, вне действия (принцип трех единств «от противного»). Тайну театра Новарина видит в акте рождения слова: «В театре надо попытаться по-новому услышать человеческий язык, как его слышат камыши, насекомые, птицы, неговорящие младенцы и погруженные в спячку животные. Я прихожу сюда, чтобы вновь услышать акт рождения».
Эти и другие заявления писателя говорят о том, что он, как и большинство других французских авторов конца XX в., претендуя на новые открытия, берется за «хорошо забытое старое», соединяя поэтику «театра молчания» М. Метерлинка с философией М. Бланшо («слышать язык без слов», «эхо молчания») и Ж. Делёза.
Поэтика новейшей французской литературы, несмотря на три знаменитых «возвращения» последних десятилетий XX — начала XXI в. (возвращение персонажа, повествования, реальности) несет на себе характерную печать экспериментального письма «нового романа». Признаки «нестрогого» постмодернистского художественного мышления свойственны творчеству одних авторов («новый морализм» «непрограммируемого» М. Уэльбека, «мистическое декадентство» П. Киньяра, иронический «минимализм» Ж. Эшноза, «постэкзотизм» как инвариант постэкзистенциализма А. Володина). Творчество других отличается стремлением уйти от децентрированного, дегероизированного мира постмодерна «назад к Канту» (П. Бергуныо, Ф. Бон) или в привычный мир классической литературы и искусства «как антисудьбы» (П. Мишон). Ситуация мультикультурализма современной Франции породила целый пласт франкофониой поэзии и прозы, связанной с поисками национальной идентичности и интеграции (Т. Бен Джеллун). Сравнительно недавней тенденцией можно считать «новую ангажированность» творчества молодых писателей Франции (М. Ндьяй).
Творчество Мишеля Уэльбека (Michel Houellebecq, наст, фамилия Thomas', р. 1956), которого называют самым читаемым французским автором в мире, лауреата многих литературных премий, в том числе и наиболее престижной, Гонкуровской, за роман «Карта и территория» (La carte et le territoire, 2010, рус. пер. 2011), касается самых болевых точек современной цивилизации, являясь одновременно трансгрессивным с точки зрения художественных и нравственных достижений западноевропейской культуры. Автор эссе «Г. Ф. Лавкрафт: Против человечества, против прогресса» (Я. Р. Lovecraft: Centre le monde, centre la vie, 1991, рус. nep. 2006), «Остаться в живых» (Rester vivant, 1991, рус. пер.
- 2004), «Мир как супермаркет» (Interventions, 1998, рус. пер. 2003), романов «Расширение пространства борьбы» (Extension du domaine de la lutte, 1994, pyc. nep. 2003), «Элементарные частицы» (Les Particules elementaires, 1998, pyc. nep. 2000), «Возможность острова» (La Possibilite d’une tie, 2005, pyc. nep. 2006) и др., а также сборников стихов «Погоня за счастьем» (La Poursuite du bonheur, 1992, рус. пер. 2005), «Смысл борьбы» (Le Sens du combat, 1996, рус. пер.
- 2005), «Возрождение» (Renaissance, 1999, рус. пер. 2005), Уэльбек неоднократно подвергался судебным преследованиям и разгромной критике. В этом смысле показательно, что в заглавиях его книг постоянно встречается слово «борьба», а выражение «остаться в живых» перестает быть метафорой: «Мертвый поэт больше не напишет. Отсюда заключение: остаться в живых».
Мир эпохи глобализации и компьютерных технологий, по мнению Уэльбека, не создан для счастья («Не бойтесь счастья; его не существует»). В своем первом романе «Расширение пространства борьбы» писатель обозначил основные темы, разработкой которых он занялся в дальнейшем. «Бодлер супермаркетов» (Д. Ногез), Уэльбек выносит суровый приговор обществу потребления: «Не нравится мне этот мир. Решительно не нравится. Общество, в котором я живу, мне противно; от рекламы меня тошнит; от информатики выворачивает наизнанку». В «Расширении пространства борьбы» Уэльбек ведет повествование от первого лица, наделяя героя собственной биографией: его зовут Мишель, он тоже инженер по информатике, занимается программным обеспечением в Министерстве сельского хозяйства (Уэльбек закончил Сельскохозяйственный институт, как и А. Роб-Грийе) и едет в Руан проводить образовательные курсы. При этом всюду он ощущает себя «посторонним»: «Некоторые обитатели были уже на ногах. Они как будто спрашивали себя, что я здесь делаю. Если бы они спросили меня, то мне было бы несколько затруднительно ответить. На самом деле ничто не оправдывало моего присутствия здесь. Ни здесь, ни где-либо еще, честно говоря». Меланхолично наблюдая за жизнью в провинции («Первым делом я замечаю, что люди ходят большими компаниями или маленькими группками от двух до шести человек. Затем я обращаю внимание на то, что все эти люди, по-видимому, вполне довольны собой и окружающим миром. Всех на этой площади объединяет уверенность, что они приятно проводят послеобеденное время, посвящая его в основном радостям потребления, и тем самым способствуют своему процветанию»), Мишель приходит к неутешительным выводам: «пространство борьбы» неуклонно расширяется, провоцируя несправедливость и «абсолютную пауперизацию».
Окрашенные «серым» юмором пассажи Уэльбека не достигают накала инвектив Селина, но порой вызывают в памяти его монологи: «Последующие страницы представляют собой роман; то есть некую цепь событий, героем которых являюсь я сам. Но я не ставил себе цель рассказать собственную биографию; просто у меня нет другого выхода. Писание не приносит большого облегчения. Оно придает очертания, оно выделяет смысл. Оно сообщает всему некое подобие связности, некие признаки вещественности. Вы все еще бредете в кровавом тумане, но уже различаете какие-то ориентиры. Хаос отодвигается от вас на несколько метров. Не слишком-то большой успех, но правде говоря».
Сюжет романа мрачен. В Руане Мишель етрадает от общества своего коллеги-неудачника Тиссерана, с которым ходит по ночным клубам, оказывается в больнице с сердечным приступом, впадает в депрессию. Критика отметила свежесть и остроту социологического анализа так называемого среднего класса, сближающего роман Уэльбека с культовыми произведениями эпохи 60-х гг. — эссе Р. Барта «Мифологии» (1957) и романом Ж. Перека «Вещи» (1965).
Вставленные в текст «диалоги животных» пародийно оттеняют основное повествование («Разговор таксы и пуделя», например, отсылает читателя к «Песням Мальдорора»). Наблюдая за стилем Уэльбека, его критик Д. Ногез замечает: «Стиль [Уэльбека] очень прост, почти скуп. Резкость речи не исключает литот, его любимых риторических фигур. Остроумные мысли сглаживаются сознательно плоскими концовками („В итоге вышел приятный вечер“, „Я не должен был этому верить“, „Все это чрезвычайно неприятно“, „Это и вправду судьба“, „Разумеется“). Своей особой манерой, расслабленной и спокойной, в которой эйфорию сменяет разочарование, а нежность — злоба, и приправленной острым небанальным юмором, он вводит новый тон в литературу и притягивает внимание к произведению поэта-моралиста».
Эклектичная этика постмодернизма отличается характерным «морализмом», пример которого мы находим в творчестве Уэльбека: «В воскресенье утром я вышел из дому, прогулялся, но нашему кварталу, купил булочку с изюмом. День был безветреный, но немного унылый, как часто бывает в Париже по воскресеньям, особенно если не веришь в Бога». В его произведениях воссоздан «мир как воля и как обои»: «На наших глазах мир обретает все большее единообразие; бурно развиваются телекоммуникационные средства; в жилых помещениях появляется новая аппаратура. А человеческие отношения постепенно становятся невозможными, что весьма способствует уменьшению количества историй и происшествий, которые в сумме составляют чыо-то жизнь. И мало-помалу перед нами возникает лик Смерти во всем ее великолепии. Третье тысячелетие обещает быть чудесным. Это постепенное ослабление связей между людьми представляет известные проблемы для романиста. В самом деле, как теперь рассказать о бурной страсти, растянувшейся на долгие годы, последствия которой ощущают порой несколько поколений? Мы далеко ушли от „Грозового перевала“, и это еще мягко сказано. Жанр романа не приспособлен для того, чтобы описывать безразличие или пустоту; надо бы изобрести какую-то другую модель, более ровную, более лаконичную, более унылую».
Уэльбек вносит свой тон в разработку темы «я» и «другой». Задача привнесения смысла в существование («я"-для-"другого») связывалась у экзистенциалистов, желавших преодолеть абсурд жизни, с осуществлением выбора как проявления свободной воли личности. Уэльбек же отрицает возможность преодоления пропасти, разделяющей «я» и «другого», а само наличие свободы выбора ставит под сомнение: «Я немного знаю этого парня; три года назад мы одновременно пришли сюда работать, сидели в одной комнате. Как-то раз мы с ним рассуждали о цивилизации. Он говорил — и в каком-то смысле действительно в это верил, — что увеличение информационного потока внутри общества само по себе благотворно. Что свобода — это и есть возможность установить разнообразные взаимосвязи между людьми, проектами, организациями, службами. По его мнению, максимум свободы выражается в максимуме выбора. Пользуясь метафорой, заимствованной из механики твердых тел, он называл эти варианты выбора степенями свободы. Если отношения между людьми мало-помалу становятся невозможными, то дело тут, конечно же, в множественности степеней свободы — явлении, восторженным провозвестником которого выступал Жан-И в Фрео. У него самого не было никаких связей, я уверен в этом; он обладал максимальной свободой. Я говорю это без всякой издевки. Как я уже сказал, это был счастливый человек; однако я не завидую его счастью». Иными словами, ирония Уэльбека-«моралиста», критика технократической цивилизации, не выходит за рамки постмодернистского видения алогичности и непознаваемости мира, человека.
Уэльбек также отказывается ставить вопрос об ответственности человека перед обществом: «Существуют теории, будто человек становится по-настоящему взрослым после смерти своих родителей; я в это не верю — но-настоящему взрослым он не становится никогда». Соответственно, человеческая деятельность лишена цели («Вся моя работа программиста состоит в том, чтобы накапливать ворох всяких отсылок, сопоставлений, критериев оптимального решения. В этом нет ни малейшего смысла. Если откровенно, то смысл получается даже отрицательный: лишняя нагрузка для нейронов»). Поэтому наилучшим выходом для человечества должна стать пассивность, так как окружающий мир не нуждается в его деяниях. Пассивность «твердых тел», к которой должен придти человек, означает отказ от сознательной жизни, смысл которой ускользает от сознания («Мощность изначального взрыва такова, что исход конфликта может долгие годы оставаться неясным; в электродинамике это называется переходным состоянием. Но мало-помалу колебания замедляются, превращаясь в длинные волны, меланхоличные и нежные; с этого момента все сказано и жизнь становится лишь приготовлением к смерти»). Полученный в молодости диплом эколога не помешал Уэльбеку выразить свое разочарование в природе, которая, но его мнению, выявляет со всей очевидностью все самое низкое в человеке, она — «зловещая правда мира».
В романе-антиутопии «Элементарные частицы» Уэльбек описывает «угасание» человечества, весть о котором люди восприняли «с облегчением». Герой романа ученый-биолог Мишель Джезински — один из виновников «метафизической мутации», подготовившей исчезновение человечества. Воссоздавая в ироническом ключе некоторые эпизоды французской истории XX в., Уэльбек подводит итог существования современного общества: «Впоследствии глобализация экономики положила начало конкуренции куда более жесткой, которая развеяла мечты об интеграции всей массы населения в средний класс, расширяющийся по мере постоянного увеличения покупательной способности; все более многочисленные социальные пласты обрушивались в пропасть нестабильности и безработицы. Ожесточенность соревнования в области секса от этого не уменьшилась, даже напротив». Наукообразный иронический дискурс «Элементарных частиц» изобилует интертекстуальными отсылками (например, к Камю: «Арабы были неприятны, держались агрессивно, солнце пекло слишком жарко»). Роман вызвал судебное преследование автора, который регулярно отваживается на громкие заявления (в частности, он назвал ислам «самой глупой религией в мире»), влекущие за собой новые судебные разбирательства.
Уэльбек часто выступает со сцены с чтением своих стихов в сопровождении рок-музыки, публикует статьи и эссе. Многие его произведения экранизированы (к примеру, роман «Возможность острова», 2005). Себя Уэльбек называет «новым реакционером», выступающим против войн и революций, а также «хеллоуинизации Франции» (в этом сказывается его антиамериканизм, нежелание отмечать «праздники» американского происхождения). Он любит повторять афоризм Шопенгауэра: «Первое — и по большому счету единственное условие наличия хорошего стиля — иметь, что сказать». Критики считают его литературным маргиналом, несмотря на его популярность.
К Уэльбеку по популярности приближается П. Киньяр, произведения которого переводятся на многие языки, хотя они не менее трансгрессивны, чем вещи Уэльбека. Паскаль Киньяр (Pascal Quignard, р. 1948), философ по образованию, знаток музыки и древних языков, в течение десяти лет руководил Международным фестивалем оперы и театра барокко в Версале. Действие в его произведениях относится, как правило, к одной из трех интересующих Киньяра эпох (античность, XVII в., XX в.). Произвольность повествовательной манеры этого писателя объясняется его стремлением придать некую фантастичность и таинственность своим романам, для чего Киньяр обращается к опыту кино, сновидений: «Это не эссе, как многим кажется, а сцены, которые следуют друг за другом в вольном порядке. Кино научило меня отказу от хронологической последовательности, такая структура во многом похожа на сон, где эпизоды связаны лишь эмоционально». Читатель Киньяра призван играть активную роль, как это было в «новом романе»: «Я знаю, что мои книги сложны для восприятия. Читателю приходится самому выстраивать связи между отдельными сценами, объединять их в единое целое». Киньяр обращается к прошлому, отыскивая в нем малоизвестные события, редкие факты и детали, нечто полувымышленное. Эту постмодернистскую «археологию» критики назвали «музеифицированием реальности».
Киньяр — автор большого числа произведений, среди которых роман «Кару с у или Тот, кто дорог своим друзьям» (Cams, 1979) — о кружке любителей искусства; стилизация дневника римской патрицианки «Записки па табличках Апронении Авиции»
(Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia, 1984), биография художника Жоржа де ла Тура, различные эссе о музыке. Роман «Салон в Вюртемберге» (Le Salon du Wurtemberg, 1986) рассказывает о затворнической жизни музыканта, играющего на виоле да гамба; роман «Лестницы Шамбора» (Les Escaliers de Chamhord, 1989) повествует об антикваре, любителе игрушек, а также замке Шамбор; роман «Альбуций» (Albucius, 1990) посвящен древнеримскому эротическому автору, тогда как «Все утра мира» (Tous les matins du monde, 1991, экранизация режиссера А. Корно, в гл. роли Ж. Депардье) — Марену Маре, французскому композитору и музыканту XVII в. Все эти персонажи, включая Маре, — плод воображения автора («Когда люди вспоминают прошлое, можно сколько угодно говорить правду, но она всегда будет звучать как ложь»). Киньяр наделяет своих героев чувствами и мыслями современного человека: «Все тонет в забвении. Моя жизнь, эти лица, эти короткие сценки — все безвозвратно тонет в забвении, если я не пишу. Я вытаскиваю на свет божий хоть какие-то краски, а иногда и их переливы». Эти слова принадлежат герою романа «Салон в Вюртемберге» Шарлю Шенону, пишущему воспоминания о своей жизни (став известным музыкантом, он купил дом, где прошло его детство).
Одно из последних произведений писателя — роман «Вилла Амалия» (Villa Amalia, 2006), повествующий о поисках себя и своего пути современной женщиной-композитором (экранизирован в 2009 г. Б. Жако, в гл. роли И. Юппер). Столкнувшись с изменой мужа, Анн Хидден решат полностью изменить свою жизнь. Она отказывается от своей профессии, своего имени, продает квартиру в Париже и уезжает в Танжер, где ее никто не знает. Там она наслаждается своей анонимностью, прекрасными пейзажами, морскими купаниями и покупает много лет пустовавшую виллу «Амалия», где продолжает жить, отказавшись от благ цивилизации в пользу солнца, ветра и моря. Постмодернистское мироощущение романа связано с неверием автора в возможность устройства жизни на гуманных основаниях, с усталостью от культуры, характерной для эпох декаданса.
Ироническая «минималистская» проза Жана Эшноза (Jean Echenoz, р. 1947) являет собой яркий образец «переписывания» модернистского письма, а также стилизации приключенческого, детективного, биографического жанра. Продолжая эксперименты «нового романа» (и в этом качестве его издает издательство «Минюи», которому он верен много лет), Эшноз черпает вдохновение не только в творчестве новороманистов, Ж. Перека и Р. Кено, но и в языке кино. В первом романе Эшноза «Гринвичский меридиан» (Le Mendien de Greenwich, 1979) пародируется «Таинственный остров» Ж. Верна, а также (посредством игры с мифом о Робинзоне) романы Турнье и Ле Клезио. В романе «Озеро, или Вращающееся зеркало» (Lac, 1989) — шпионская литература.
Для письма Эшноза характерно использование приемов паралипса и металепса, эффектно дающих ощутить (в «Гринвичском меридиане»), что «всеведующий» автор не знает всех деталей истории, о которой стремится поведать. Пародируя идею герметизма модернистского текста, Эшноз вводит карикатурные персонажи наивных и некомпетентных читателей. Так, в романе «Озеро» Родион Ратено, телохранитель секретного агента, читает «шпионские комиксы для взрослых», Каррье (в «Меридиане») с трудом пытается прочесть книгу по социологии. Особо отметим сюжетообразующую роль элементов мистики и фантастики у Эшноза. В романе «У рояля» (Аи piano, 2002) его главный герой, пианист Макс, становится жертвой несчастного случая, но продолжает жить после смерти, быть наблюдателем того, в чем хотел бы принять участие, останься он в живых. Обращается Эшноз и к жанру романизированной биографии, фантазируя на заинтересовавшие его темы «без особых угрызений совести» (романы «Равель», Ravel, 2006 — о последних десяти годах жизни композитора; «Молнии», Des eclairs, 2010 — посвящен гениальному физику и изобретателю Н. Тесла).
Биографический жанр во французской литературе последних двух десятилетий переживает расцвет. Если в романах Киньяра представлены, как правило, вымышленные биографии, то романы Эшноза, напротив, посвящены реальным лицам. В творчестве П. Мишона эти две тенденции совмещены. Пьер Мишон (Pierre Michon, р. 1945) обратился к литературе поздно. Свое первое произведение он написал в 37 лет (роман «Крошечные жизни», Vies minuscules, 1984, отмечен премией Франс Кюльтюр). Мишон, как многие постмодернисты, получил филологическое образование (магистерская работа об А. Арто). Однако по специальности не работал, а стал актером в небольшом театре. В «Крошечных жизнях» рассказаны восемь историй жизни земляков писателя, жителей сельской местности Крез. По выражению писателя и критика Оливье Ролена, «жизнь не уготовила им никакой славы, но автор хотел воздать им должное». Кто они, его герои — неудачники или святые? Вернее второе. Эту «агиографическую» линию своего творчества Мишон развивает в биографиях Ван Гога, Ватто, Пьеро делла Франческа, Гойи.
Особое место среди произведений Мишона занимает роман «Артюр Рембо сын» {Arthur Rimbaud le fils, 1991). Сын Витали Рембо и капитана артиллерии, поэт Артюр Рембо считал своими наставниками не родителей, а своих духовных отцов (Изамбара, Гюго, Банвилля, Верлена). Каков был вклад каждого из них в личность Рембо? Плотное и лаконичное письмо Мишона позволяет ему размышлять над современными историко-литературными мифами, а также над пустотой жизни, в том числе и литературной. Формула «Говорят» {"On dit que…") позволяет писателю обыгрывать в романе любые сведения, свидетельства, слухи, подозрения, касающиеся личности Рембо. Был ли он действительно гением? Или это всего лишь страница истории литературы? Ставя подобные вопросы, но не давая на них окончательных ответов, Мишон пытается понять, что заставляет человека творить. Эта тема вновь прозвучала в романе «Одиннадцать» {Les Onze, 2009, премия Французской академии) о художнике Корантена и его картине, созданной во время Французской революции и представляющей собой портрет одиннадцати членов Комитета общественного спасения (Робеспьер, Сен-Жюст и др.).
Биографии, где смешаны между собой факты и вымысел, получили во Франции определение «вторичное письмо». В рамках этого жанра помимо Мишона получил известность Пьер Бергунью {Pierre Bergounioux, р. 1949), защитивший диссертацию по социологии под руководством Р. Барта. Он автор книг «Слепота Гомера» {La Cecite d’Homere. Cinq leqons de poetique, 1995), «К Фолкнеру» (Jusqu'a Faulkner, 2002).
Важной особенностью французской литературы последних десятилетий является расширение литературного поля в связи с интеграцией в него культур стран «третьего мира» (в основном это бывшие французские колонии). Успешной попыткой культурной интеграции в рамках французского мультикультурализма является творчество марокканского писателя Тахара Бен Джеллуна {Tahar Ben Jelloun, р. 1944). Студент-философ, в 1965 г. он был задержан как участник студенческих волнений и провел в заключении полтора года. Освободившись, он опубликовал свои первые стихи. Когда в январе 1971 г. Министерство образования Марокко объявило, что с нового учебного года преподавание философии переводится на арабский язык, Тахар решил переехать во Францию. В Париже Бен Джеллун начал печатать свои статьи о положении в Марокко и странах Магриба в газете «Монд», что позволило ему войти во французскую интеллектуальную элиту. С тех пор Бен Джеллун издал около двадцати книг прозы, а также несколько книг стихов в престижных французских издательствах, стал лауреатом Гонкуровской премии 1987 г. (за роман «Священная ночь», La nuitsacree), получив первым из африканских писателей эту награду. Сейчас он входит в число самых читаемых в мире франкоязычных авторов.
Одно из лучших произведений Бен Джеллуна — роман «Песчаное дитя» (L'Enfant de sable, 1985), повествующий о полночных тайнах арабского мира. История главного героя Ахмета вплетена в «дневной», «солнечный» быт Магриба, но таит в себе и подпольное измерение. Оказывается, Ахмет — несчастная девушка, которую отец, мечтавший о наследнике и рисковавший потерять дом и наследство своих родителей, назвал мужским именем и воспитал мужчиной. Героиня не знает своей природы. Повествователь-сказитель романа, обыгрывающего различные фольклорные и религиозно-мистические мотивы, возможно, знает развязку ее истории, но не сообщает о ней своим слушателям.
Важный эпизод в жизни Бен Джеллуна связан со знакомством и дружбой с Ж. Жене, которому писатель посвятил два эссе («Бекетт и Жене, чай в Танжере», Beckett et Genet, un the a Tanger, 2010; «Жан Жене, высокий лжец», Jean Genet, menteur sublime, 2010). В середине 1970;х Жене откликнулся на его первые публикации во Франции большой статьей в газете французской компартии «Юманите». Взволнованный этим Бен Джеллун написал Жене письмо, тот ответил. Однако совместная борьба против расизма и буржуазного лицемерия не создала прочной основы для товарищеских отношений. Жене выступал против всякой собственности, не имел своего угла и жил, как вечный странник. Сознательная идеологическая маргинальность Жене, его социальные эскапады оказались чужды молодому марокканскому писателю.
Бен Джеллуна можно назвать ангажированным писателем, служащим делу интеграции культуры Магриба в культуру Франции. Речь идет не столько о политических убеждениях, сколько о желании авторов иметь гражданскую позицию, отстаивать общественные идеалы справедливости. В этом контексте важно упомянуть писательницу Мари Ндьяй (Marie NDiaye, р. 1967) — прозаика, драматурга, сценариста, лауреата Гонкуровской премии (за роман «Три сильных женщины», Trois femmes Puissantes, 2009) и премии «Фомина» (за роман «Рози Карп», Rosie Сагре, 2001). Героини ее романов — слабые женщины, которые пытаются сохранить свое человеческое достоинство в сложных жизненных испытаниях. Такова, к примеру, молодая француженка Нора из «Трех сильных женщин». Она отправляется в Сенегал, чтобы увидеть своего отца (история самой Мари Ндьяй, отец которой, сенегалец, вернулся на родину, когда Мари был всего год). Проза Ндьяй, несмотря на свою плавность, способна выразить сильные чувства. Высокая оценка ее творчества не случайна. Выросшая без отца, она опубликовала свой первый роман в семнадцать лет (в издательстве «Минюи» у Ж. Линдона). С тех пор она стала популярной писательницей, сценаристкой (ею написан сценарий к фильму Клер Дени «Белый материал», 2009) и является единственным из ныне живущих драматургов, чьи пьесы ставятся в Комеди Франсез. Ндьяй не считает себя африканкой, она родилась и выросла в парижском пригороде: «Мои африканские корни не так уж много значат, люди просто знают о них по цвету моей кожи и имени». Ее гражданская позиция определяется не гендерными или расовыми основаниями, но общечеловеческими: она отстаивает право на достоинство каждого человека, вне его национальной или гендерной принадлежности. В романе «Ладивип» {Ladivine, 2013) она продолжает рассказывать о женских судьбах: теперь это история трех поколений женщин одной семьи. В связи с выходом этой книги она еще раз подчеркнула, что выражает в ней интересы всего человеческого сообщества: «Я пишу не как женщина и не как чернокожая женщина. Я пишу как просто человек».
«Новая ангажированность» проявляется и в выборе социально значимых тем, и в характере их трактовки. Тема войны стала в XXI в. пробным камнем для определения направленности творчества того или иного писателя. Для французов это прежде всего колониальные войны в Алжире и Индокитае. Так, всеобщее внимание привлек роман Алексиса Женни {AlexisJenni, р. 1963) «Французское искусство войны» {L'Art frangais de la guerre, 2011), вызвавший неоднозначную реакцию, несмотря на присуждение ему Гонкуровской премии. В 2009 г. увидели свет сразу два романа о войне в Алжире — роман «Мужчины» (Des hommes) Лорана Мовинье {Laurent Mauvignier, р. 1967) и роман «Похищение» {Le Rapt) Ануара Бенмалека {Anouar Benmalek, р. 1956). В 2010 г. к ним добавился роман Жерома Феррари (Jerome Ferrari, р. 1968) «Там я оставил душу» {Ouj'ai laisse топ ате).
В основе сюжета Феррари — противостояние двух французских офицеров. После нескольких дней боев за Аажир арестован глава алжирских повстанцев, его пытают, маскируя затем его убийство под самоубийство. Один из офицеров отказывается принимать участие в пытках — под влиянием личности арестованного он перестает понимать, кем является сам, если способен на убийство. В следующем романе Феррари «Проповедь о падении Рима» (Le Sennon sur la chute de Rome, 2012), отмеченном Гонкуровской премией, также идет речь о трагедии непонимания целей жизни. В достаточно банальную историю двух молодых предпринимателей с Корсики Ферарри вплетает проповедь Блаженного Августина, произнесенную в 411 г. в Гиппоне. Слова святого («С каких пор ты веришь, что люди могут строить вечные вещи? Человек строит на песке. Если ты захочешь обнять то, что он построил, ты обнимешь ветер. Твои руки пусты, и твое сердце страдает. И если ты любишь мир, ты погибнешь вместе с ним») подчеркивают тщетность не только суеты сует современного бизнеса, но и строительства великих империй.
Расцвет жанра романа («Роман жив, как никогда», — утверждает авторитетный литературовед Жан-Пьер Сальга) во Франции в начале XXI в. отражает потребность общества в новом обретении нравственных ориентиров, размытых в предшествующие годы не только постмодернистским философствованием, но и засилием массовой культуры.
Зонта, Л. Троны времени: Заметки об исканиях французских романистов (60−70-е гг.) — М" 1984.
Маньковская, Н. Б. Художник и общество. Критический анализ концепций в современной французской эстетике. — М., 1985.
Кирнозе, 3. Предисловие // Турнье, М. Каспар, Мельхиор и Бальтазар: пер. с фр. — М" 1993.
Ариас, М. А. Лазарь среди нас (о творчестве Ж. Ксйроля). — М., 1994.
Бреннер, Ж. Моя история современной французской литературы: пер. с фр. — М" 1994.
Миссима, Ю. О Жане Жене// Жене, Ж. Кэрель: пер. с фр. — СПб., 1995.
Французская литература. 1945—1990. — М., 1995.
Сартр, Ж.-П. Ситуации: пер. с фр. — М., 1997.
Зенкин, С. Преодоленное головокружение: Жерар Женетт и судьба структурализма // Женетт, Ж. Фигуры: в 2 т.: пер. с фр. — М., 1998. — Т. 1.
Косиков, Г. К. От структурализма к постструктурализму. — М., 1998.
Делёз, Ж. Мишель Турнье и мир без Другого // Турнье, М. Пятница, или Тихоокеанский лимб: пер. с фр. — СПб., 1999.
Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма. — СПб., 2000.
Волков, А. «Дороги свободы» Сартра // Сартр, Ж.-П. Дороги свободы: пер. с фр. — М" 1999.
Гальцова, Е.Д. Недоразумения (Первая канонизация Сартра в СССР) // Литературный пантеон. — М., 1999.
Кондратович В. Предисловие // Селин, Л.-Ф. Из замка в замок: пер. с фр. — М" 1999.
Фокин, С. Л. Альбср Камю. Роман. Философия. Жизнь. — СПб., 1999.
Исаев, С. А. Нежный // Жене, Ж. Строгий надзор: пер. с фр. — М., 2000.
Косиков, Г. К. «Структура» и/или «текст» (стратегия современной семиотики) // От структурализма к постструктурализму: Французская семиотика: пер. с фр. — М., 2000.
Лапицкий, В. Подобное подобным // Бланшо, М. Ожидание забвение: пер. с фр. — СПб., 2000.
Дмитриева, Е. Е. Человек-Ватер, или Voie negative // Новарина, В. Сад признания: пер. с фр. — М" 2001.
Долина, Л. Театр как достижение абсолютной свободы // Театр Жана Жене: пер. с фр. — СПб., 2001.
Балашова, Т. В. Бунтующий язык: речь персонажей и рассказчика в романах Селина // Вопросы литературы. — М., 2002. — № 4.
Ногез, Д. Уэльбек как он есть: пер. с фр. — Екатеринбург, 2006.
Вишняков, А. Г. Поэтика французского Нового Романа. — М., 2007.
Barthes, R. Essais critiques. — Р., 1964.
Jeanson, F. Le Probleme moral et la pensee dc Sartre. — P., 1966.
Pollmann, E. Sartre und Camus? Literatur der Existenz. — Stuttgart, 1971.
Tisson-Braun, M. Nathalie Sarraute ou La Recherche de l’authenticite. — P., 1971.
Nouveau roman: hier, aujourd’hui: T. 1—2. — P., 1972.
WaeltiWalters, J. Icare ou Invasion impossible: etude psycho-mythique de l’oeuvre de J.-M.-G. Le Clezio. — P., 1981.
Culler, J. Barthes. — L" 1983.
Cohen-Solal, A. Sartre. — P., 1985.
Valette, B. Esthetique du roman modernc. — P., 1985.
Roger, Ph. Roland Barthes, roman. — P., 1986.
Raffy, S. Sarraute romanciere. — N. Y., 1988.
Compagnon, A. Les cinq paradoxes de la modernite. — P" 1990.
Savigneau, J. Marguerite Yourcenar. L’invention d’une vie. — P., 1990.
Nadeau, M. Le Roman francais depths la guerre. — Nantes, 1992.
Vercier, B. La Litterature en France depuis 1968 / B. Vercier. f. Lecarme. — P" 1992.
Almeras, Ph. Celine. Entre haine et passion. — P., 1994.
The Cambridge Companion to the French Novel: From 1800 to the Present / ed. by T. Unwin. — Cambridge, 1997.
Saigas, J. P. Roman francais contcmporain / J. P. Saigas, A. Nadaud, J. Schmidt. — P" 1997.
Winoc.k, M. Le Siecle des intcllectuelles. — P., 1997.
Les Ecrivains face a l’histoire (France, 1920—1996) / A. de Baecque (dir.). — P" 1998.
Loubet delBayle, J.-L. L’lllusion politique au XX siecle. Des ecrivains temoins de leur temps. — P., 1999.
Benoit, D. Litterature et engagement (de Pascal a Sartre). — P" 2000.
Blanckeman, B. Les recits indecidables: Jean Echenoz, Herve Guibert, Pascal Quignard. — Lille, 2000.
Gutting, G. French Philosophy in the Twentieth Century. — Cambridge, 2001.
Braudeau, M. Le Roman francais contcmporain / M. Braudcau, L. Poguidis, J. P. Saigas, D. Viart. — P" 2002.
BerthierP. Histoire de la France litteraire / P. Bcrthier, M. Jarrety. — P., 2006.
Viart, D. La Littcrature frangaise au present / D. Viart, B. Vercicr. — P., 2008. Roussel-Gillet, I. J.-M. G. Le Clezio, ecrivain de l’incertitude. — P., 2011.
Вопросы и задания для самоконтроля
- 1. Выделите основные этапы литературного процесса во Франции второй половины XX — начала XXI в.
- 2. Какие задачи ставили перед собой писатели-экзистенциалисты? Какую роль в их творчестве играл театр? Что означает высказывание «ад — это другие»?
- 3. Какова роль мифа в творчестве экзистенциалистов? Почему Сизиф должен чувствовать себя счастливым?
- 4. Назовите наиболее значительные из теоретических работ новороман истов.
- 5. Почему А. Мальро назвал искусство «антисудьбой»? Каково значение образа Ф. Ницше в романе «Орешники Альтенбурга»?
- 6. Отчего преступники в произведениях Ж. Жене носят имена Богоматерь цветов, Божественная, Первое причастие, Мимоза и т. п.
- 7. В каком смысле Лс Клсзио называют «последним романтиком»?
- 8. Объясните назначение мифа в творчестве М. Турнье.
- 9. Почему критика называет М. Уэльбека «новым моралистом»?
- 10. Что представляет собой ироническая проза Ж. Эшноза?
- 11. В чем своеобразие жанра биографии у П. Мишона?
- 12. Каково значение творчества Бен Джеллуна в ситуации мультикультурализма?