Шпенглер: история как самоисповедание культуры
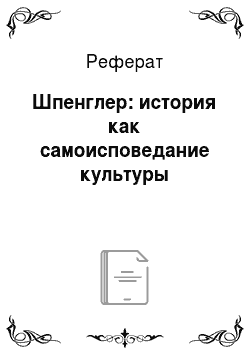
Убеждение в том, что «все существующее есть равным образом ставшее, что в основе всего естественного и познаваемого лежит историческое, что мир-как-действительность препостулируется я-каквозможностью, нашедшей в нем свое осуществление; осознание того, что не только в „что“, но в „когда“ и „как давно“ покоится глубокая тайна», позволяет, по мнению Шпенглера, говорить о возможности философии… Читать ещё >
Шпенглер: история как самоисповедание культуры (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
К идее «заката Европы» немецкий философ Освальд Шпенглер (1880—1936) пришел в результате осмысления тех социально-политических событий, которые привели к Первой мировой войне, засвидетельствовавшей, по его мнению, что европейская цивилизация утратила глубинные источники своей жизненности и вступает в период «великого кризиса». Черты этого кризиса угадываются в самых разнообразных явлениях действительности: в упадке искусства и растущем сомнении в ценности науки, в возросшей бездетности семей и в бегстве крестьян из деревни в город, в кризисе материализма, социализма и парламентаризма, в изменившихся отношениях человека и государства и во многом другом. Возможно ли в этой констелляции казалось бы случайных тенденций, настроений, фактов увидеть необходимые черты наступающей исторической эпохи, занимающей определенное место в ходе столетий? Решить эту задачу, считает Шпенглер, можно, лишь ответив на ряд общих вопросов: существует ли вообще логика истории? возможно ли в самой жизни отыскать ступени, которые должны быть пройдены всем человечеством?
Ответы, которые дает на эти вопросы сложившаяся в последние два столетия западноевропейская философия, представляются Шпенглеру неудовлетворительными. Причина в том, что философия старого стиля, заимствуя методы познания из физики, где они достигли «строгой разработки», рассматривает «мир-как-природу», «мир-как-механизм», подчиненный каузальным законам и математическому «счислению». В данном контексте речь идет не о природе как некой объективной реальности, но о способе «упорядочения окружающей действительности в картину мира». Все познанное, понятое, «засвидетельствованное числом», механически ограниченное, расчлененное и проанализированное рассудком, зафиксированное в понятиях, формулах и системах есть, по мнению Шпенглера, ставшее, свершившееся, «оцепеневшее», законченное, протяженное (пространственное), постоянно возможное и как вневременное, нечувствительное к изменениям. Поэтому распространенная в рамках старой философии прагматическая трактовка истории с ее стремлением упорядочить поверхностно наблюдаемые события сообразно причинам и следствиям, проследить их внешнюю «рассудочно-доходчивую тенденцию» есть не что иное как «дубликат замаскированного естествознания». Философия старого стиля убежденная в том, что мышление обладает «вечным и неизменным предметом, что великие вопросы во все времена суть одни и те же и что когда-нибудь можно было бы дать на них окончательный ответ», оказывается неисторичной.
Новая философия, «философия будущего», которую Шпенглер расценивает как заключительное учение европейской мысли, рассматривает «мир-как-организм», «мир-как-историю», охватывающий «все лики и движения мира в их глубочайшем и последнем значении» в картине становления. В отличие от природы, упорядоченной пространственными отношениями, в истории действует логика времени — идея «органически необходимой судьбы». В истории все изменчиво, случайно, однократно, неповторимо, необратимо, напряженно, преходяще. История — это гештальт, т. е. подвижный, становящийся, преходящий образ мира, из которого фантазия человека стремится «постичь живое бытие мира по отношению к собственной жизни и тем самым интенсифицировать ее действительность». Следовательно, «мир-как-история» не противостоит человеку, который оказывается включенным внутрь него, действующим в рамках конкретно-исторического целого. Поэтому для человека важны не конкретные факты истории, взятые сами по себе, а то, что они «означают и обозначают своим явлением». Отсюда исторически относительный характер любых выводов, которые всегда есть выражения «одного-единственного, и только этого одного существования». Новая философия требует понимания языка форм истории как живого мира, где нет ничего постоянного и всеобщего, нет непреложных истин и вечных достижений, нет никаких всемирно-исторических ценностей, ибо «общеобязательность есть всегда лишь ложное заключение от себя к другим». Стремление найти единственно верное решение того или иного вопроса сомнительно. Следует уяснить, что «количество вопрошающих определяет количество ответов, что всякий философский вопрос есть лишь скрытое желание получить определенный ответ, содержащийся уже в самом вопросе». Непреходящесть мыслей — иллюзия, поскольку «каждая философия есть выражение своего, и только своего, времени, и нет двух таких эпох, которые бы имели одинаковые философские интенции».
Однако новая философия Шпенглера не отбрасывает предшествующие учения, поскольку между природой и историей, как двумя способами мировосприятия нет точной границы: становящееся и ставшее, время и пространство присутствуют в акте понимания действительности. Но в отличие от природы, история есть «изначальная форма мира», так как основой самого мира является жизнь, «чистое становление», не имеющее границ, находящееся «по ту сторону сферы причины и следствия, закона и меры». Протекающая во времени жизнь по мере своего завершения, преобразуется в пространство, «растягивающееся в даль и глубину». Это необратимое движение вперед есть «опространствование» времени, которое, застывая, образует упорядоченную картину мира «с таинственно вырисовывающейся в ней подвижностью», т. е. временем. Таким образом пространство не противостоит времени как математическая длительность, но обладает глубиной, которая есть застывшее время.
Поскольку все живое, считает Шпенглер, характеризуется «направлением, порывом, волнением, некоторой глубочайше родственной тоскующему вожделению подвижностью», оно может быть только «пережито и прочувствовано с глубоким бессловесным пониманием» путем проникновения взора в «глубину чужих душ». Иными словами, иррациональный характер жизни допускает интуитивные способы ее постижения — озарение, наитие, художественное созерцание, которые находят свое выражение в символах и образах, ибо «все преходящее есть подобие». По мере того, как время застывает в пространственных формах, оно становится доступно рассудочному познанию.
Таким образом, природа и история — не две разных сферы бытия, а две возможности миротворчества присущих человеку, два порядка, охватывающих «каждый для себя весь мир. Различен лишь глаз, в котором и через который осуществляется этот мир». Природа и история соотносятся как ставшее и становящееся, точнее, как ставшее, являющееся результатом становящегося, как оцепеневшее становящееся. Они не противостоят друг другу, так как «созерцаемая история не есть чистое становление», а некая картина, которая не может сложиться без примеси рассудочного и каузального. Вся разница в степени присутствия в этой картине мира «мертвого и застывшего» как продуманного, «промысленного», поскольку в конечном счете «все существующее, чем бы оно ни было, должно быть выражением чего-то живого». Эти оба мира, поясняет Шпенглер, «мир наблюдения и мир самоотдачи, переплетаются, подобно тому, как в брабантском стенном ковре основа и уток ткут картину. Каждый закон, дабы существовать вообще для разумения, должен однажды велением судьбы быть открытым, т. е. пережитъш в рамках духовной истории; каждая судьба предстает в чувственном обличье — персоны, деяния, сцены, жеста, — в каковом действуют естественные законы»[1].
Убеждение в том, что «все существующее есть равным образом ставшее, что в основе всего естественного и познаваемого лежит историческое, что мир-как-действительность препостулируется я-каквозможностью, нашедшей в нем свое осуществление; осознание того, что не только в „что“, но в „когда“ и „как давно“ покоится глубокая тайна», позволяет, по мнению Шпенглера, говорить о возможности философии истории, направленной на постижение мировой истории. Философия истории, будучи скорее искусством, чем наукой, должна «в искрящемся в тысяче красок и свечений хаосе словно бы ничем не стесняемых случайностей» увидеть, прочувствовать «последние элементы мира исторических форм», этих внутренних органических единств, через которые совершается мировая история, вскрыть их внутреннее строение и смысл, проследить их развитие как подчиненное внутренней необходимости, позволяющей осмыслить прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее. Эти чистые формы, облаченные живой плотью самых разнообразных явлений, представляют собой культуры, выступающие первофеноменами всякой прошлой и будущей мировой истории. Наличие общего опыта органического существования позволяет, по мнению Шпенглера, установить, что все известные культуры обладают одинаковым строением и единообразием развития. Поэтому наиболее плодотворным методом исторического исследования является сравнительное рассмотрение их морфологии и логики развития, позволяющее приобретать знание как о будущем, так и о прошлом. Судьбы культур, сменяющих друг друга, вырастающих друг возле друга, соприкасающихся, оттесняющих и подавляющих друг друга, исчерпывают содержание мировой истории. Таким образом всемирная история суть «общая биография» культур как культурных организмов.
Господство «механистического мышления» в западной философии, считает Шпенглер, привело к утверждению «невероятно скудной и бессмысленной схемы» мировой истории: «Древний мир — Средние века — Новое время», в которой не находят своего органического места Египет, Китай, Мексика и другие культуры. Ландшафт Западной Европы принимается за «естественное средоточие некой исторической системы», «полюс, вокруг которого скромнейшим образом вращаются тысячелетия мощнейших историй и далеко отстоящие культуры». Тщеславие западноевропейского человека, в уме которого развертывается «фантом всемирной истории, приводит к „чудовищному оптическому обману“, силой которого история тысячелетий, скажем, египетская или китайская, „сморщиваются на расстоянии до эпизодических случаев“. Таким образом дух Запада, каким он отражался в голове отдельного человека, был отождествлен со смыслом мира. Однако нет более шаткого метода толкования всемирной истории, чем приложить к ней в качестве „абсолютного масштаба“ свои собственные убеждения и ценности. Отсюда „необузданный и пренебрегающий всем историческим оптимизм“, питающий веру в дальнейшее линеарное развитие. Такая линеарная концепция истории, предполагающая, что восхождение культуры обусловлено какой-либо неизменной тенденцией, приводит к мысли, что эти культуры „не сумели понять или достичь единственно нужного“, и не учитывает, что они стремились к чему-то другому. Поэтому необходим „коперниканского переворот“ в истории, суть которого в том, чтобы заменить привычную „птолемеевскую“ систему, где развитые культуры вращаются вокруг западноевропейской как „мнимого центра всего мирового свершения“, „коперниканской“, где наряду с Античностью и Западом другие культурные миры, имеющие одинаковое значение и даже превосходящие античный и западный, займут соответствующее и нисколько не привилегированное положение».
Отказ от европоцентризма и утверждение равноценности всех существовавших и существующих культур связан у Шпенглера с отрицанием идеи единства человечества и единства пути его развития. У человечества нет никакой цели, никакой идеи, никакого плана, так как человечество либо «зоологическое понятие», либо пустое слово. Достаточно устранить этот фантом, как перед нами предстанет поразительное многообразие действительных исторических форм. Вместо «безрадостной картины линеарной всемирной истории», подобной «ленточному глисту, неустанно откладывающего эпоху за эпохой», Шпенглер рисует картину «вечного образования и преобразования, чудесного становления и прехождения органических форм». «Я вижу, — пишет он, — настоящий спектакль множества мощных культур, с первозданной силой расцветающих из материнского ландшафта, к которому каждая из них строго привязана всем ходом своего существования, чеканящих каждая на своем материале — человечестве — собственную форму и имеющих каждая собственную идею, собственные страсти, собственную жизнь, воления, чувствования, собственную смерть»1.
Каким образом возможно такое разнообразие культур? Обращаясь к проблеме начала истории, Шпенглер исходит из того, что жизнь — явление космическое, она бесконечна в пространстве и времени. Но человеческий опыт позволяет судить лишь о жизни на Земле, где она осуществляется в растительном, животном мире, но только в человеке становится историей. Из всех живых существ только человек «дивится своей жизни и вопрошает», только он понимает, что жизнь — «короткий промежуток между рождением и смертью». Именно страх смерти, являющий миру судьбоносные и глубинные вопросы любви, вины, наказания, расплаты, спасения, и познание смерти как попытка ответить на эти вопросы дают человеку то, что отличает его от животного, — мировоззрение. Эмансипация понимания от ощущения, мышления от жизни, пространства от времени означает начало человеческой истории, являющей себя в различных феноменах культуры. Этот переход от природы к истории, к культуре осуществляется внезапно в результате «космических перемен» и недоступен для нашего понимания. «Примитивные культуры» — это «нечто мощное и цельное, нечто в высшей степени живое и действенное», ибо в них космическое «оно» «принимается за дело так энергично, что все микроскопические проявления в мифе, обычае, технике и орнаменте повинуются его ежесекундному напору». Перед нами хаотическое соединение отдельных стороны и черт первобытной культуры, «агрегат форм выражения примитивных союзов», лишенный судьбы, т. е. глубокого внутреннего значения. Поэтому примитивные культуры еще не являются историческими в полном смысле этого слова, они скорее «пред-культуры».
Столь же внезапно и случайно около 3000 г. до Рождества Христова происходит переворот, в результате которого в бассейне Нила и Евфрата появляются высокие культуры, где человек предстает как полностью сформировавшийся тип, имеющий обычаи, мифы, искусство, украшения, технику и т. п. На место космического «оно», считает Шпенглер, приходит мощная и единая тенденция, в результате чего культура предстает как «бодрствование одного-единственного гигантского организма, делающего носителями единообразного языка форм с единообразной историей не только обычай, миф, технику и искусство, но также и воплотившиеся в него народы и сословия»1. Мировая история, по Шпенглеру, насчитывает восемь высоких культур: египетскую, вавилонскую, китайскую, индийскую, мексиканскую, античную, арабскую и западноевропейскую.
Каждая культура уникальна: у нее есть свои новые, никогда не повторяющиеся возможности, которые выражаются в совершенно отличных друг от друга явлениях — пластике и живописи, математике и физике и т. п. Так, например, русскому мышлению, поясняет Шпенглер, столь же чужды категории западного мышления, как последнему — категории китайского или греческого. В самом деле, что может быть общего у Толстого, из глубины своей человечности отвергающего весь идейный мир Запада как нечто чуждое и далекое, со Средними веками, с Данте, с Лютером? Что общего у какого-нибудь японца с Парсифалем и Заратустрой, у какого-нибудь индуса с Софоклом? «Феномен других культур говорит на другом языке, — пишет Шпенглер. — Для других людей существуют другие истины. Для мыслителя имеют силу все они или ни одна из них»1. Уникальность каждой культуры объясняется только ей присущей душой, охватывающей всю совокупность жизненных выражений, которые оказываются «формами духовной коммуникации, типом соответствующих чаяний, административных систем, способов общения и поведенческих норм». Душа культуры — это ее идея, идея существования, формообразующая сила, совокупность ее внутренних возможностей, а плоть — ее чувственное проявление в картине культуры как достигнутое осуществление. Благодаря присутствию души каждая культура ставит свои вопросы и дает на них свои собственные ответы, ибо у каждой культуры свое впечатление жизни и каждая живет по-своему.
Душа культуры раскрывается через душу человека, причастного к этой культуре. Когда человек начинает ощущать культуру как внешний мир, противоположный его собственному внутреннему миру, у него возникает «прачувство тоски» по цели становления, завершения и осуществления своих внутренних возможностей, «по раскрытию идеи собственного существования». Это «тоскующее вожделение» неумолимо и необратимо влечет человека к творчеству культурных форм, в которых он «заклинает» жизнь, освидетельствует ее в слове, останавливает в мгновении, превращает будущее в прошлое. Тоска по цели оборачивается мировым страхом перед ставшим, непререкаемым, достигнутым, завершенным, бренным. Но именно этому чувству мы обязаны, считает Шпенглер, появлением наиболее значительных явлений культуры, которые в своей глубине сохраняют не поддающуюся силе разумения тоску, свидетельствующую о первичности становления, жизни, времени. Поскольку история, которую делают и созерцают, есть осуществление некой души, над ней господствует один и тот же стиль. Свой неповторимый стиль душа культуры приобретает благодаря раскрытию присущего ей от рождения прасимвола, из которого можно вывести весь язык форм ее действительности, отличающийся от всякой другой.
Так, например, поскольку прасимволом «античной души» является отдельное материальное тело, для грека имеет значение все «материальное, зримо ограниченное, осязаемое, непосредственно наличное». Космос, или Вселенная, предстает как хорошо упорядоченное множество всех близких и вполне обозримых телесных вещей, замыкающееся телесным небосводом. Стремясь к художественному выражению своего чувства формы, античный человек силится придать человеческому телу в танце, борьбе, в мраморе и бронзе именно ту «осанку», при которой поверхности и контуры приобретают максимум меры и смысл. Античная статуя во всей своей «роскошной телесности» предстает как «сплошная структура и выразительная плоскость». Телесность господствует в философии, математике, физике, религии, даже государство есть «тело, являющееся совокупностью всех тел граждан», а право знает только «телесные лица и телесные поступки». Античный человек, органически связанный с полисом, ощущает родину как-то, что он может обозреть с крепостных стен своего родного города. За этой границей для него находится чужое, вражеское, отечество других.
Господство принципов материи и формы в античной культуре влекут за собой нечувствительность к глубине пространства — ко времени. Сознание эллина неисторично: все пережитое, прошлое оно превращает в «безвременно неподвижную мифически оформленную подоплеку ежемгновенно протекающего настоящего». Это — чистое настоящее, величайшим символом которого выступает дорическая колонна, представляет собой отрицание времени. То, что грек называл космосом, было картиной мира сущего, а не становящегося, да и сам грек никогда не становился, а всегда был. Лишенный внутреннего развития, античный человек не знал истории ни внешней, ни внутренней. Он лицезрел только себя, свою участь в виде «покоящейся близи». Античная трагедия, возникшая из чувства алогичности, слепой случайности момента, — это трагедия мгновения.
«Мировая пещера», светлая арка — прасимвол магической (арабской) души, ощущающей все происходящее как выражение загадочных духовных сил, пронизывающих весь мир. В резных арках архитектурных ансамблей, в их красочно пресыщенных сводах осуществляется идея освобождения от земной тяжести, сплачивающая вместе с тем пространство. Свободно парящий над землей купол — этот магический мотив сверхмощной экспрессивности — нашел свое завершение в рококо мавританских мечетей и замков. Магический человек видел в истории «великую мировую драму, разыгрывающуюся между творением и гибелью, борьбу между душой и духом, добром и злом, Богом и дьяволом.
Прасимволом египетской души, странствующей по узкой и неумолимо предначертанной жизненной тропе, является Путь. Ее характерный язык — язык камня, великий символ вневремённо ставшего, связавшего воедино пространство и смерть. Египетская архитектура подчиняет себе ландшафт: мощные стены, колонны, рельефы, господство вертикали, горизонтали, прямого угла, плоскости символизируют переживание пути как предначертанного с железной необходимостью пути к гробу. Ряды сфинксов и статуй, пещерные и террасовые храмы неизменно усиливают тенденцию к единственной дали, известной египтянину, — к смерти. Египетская душа была наделена предрасположенностью к истории. Она страстно влеклась к бесконечному, ощущала прошлое и будущее как весь свой мир, где настоящее — лишь узкая граница между «двумя неизмеримыми далями». Египетская культура — это воплощение заботы о будущем, что находило свое выражение в выборе гранита и базальта в качестве художественного материала, в тщательной продуманности системы управления, в сети оросительных устройств, а также в неизбежно связанной с этим заботе о прошедшем.
Отрицая бренность, голое настоящее, египтянин стремился к вечности. «Леденящим символом этой воли к долговечности» лежат в музеях мумии великих фараонов, сохранившие заметные черты своего облика.
Прасимволом русской души, которая еще не нашла своего законченного воплощения в религиозном и архитектоническом выражении, является бесконечная равнина. Холмообразная церковная крыша почти не выделяется на фоне ландшафта, не возносится вверх. Это еще не стиль, но обещание стиля, пробуждающегося с начальными манифестациями русской религии. Русская безвольная душа, самоотверженная и анонимная, осуждающая индивидуалистическое «я» как нечто греховное и признающая правду в качестве безымянного согласия, еще затеряна в горизонтальном братском мире. Помышлять о ближнем, отталкиваясь от себя, нравственно возвышать себя любовью к ближнему, каяться ради себя, — все это выглядит для нее знаком западного тщеславия и кощунством.
«Прасимвол западной души — чистое, бесконечное пространство, где господствуют принципы устремленного движения — сила и масса. В западной картине мира ощущается еле сдерживаемое напряжение, динамика, стремление к преодолению тяжести. Безграничность пространства, его неопределенность рождает в человеке чувство одиночества. Зигфрид, Парцифаль, Тристан, Гамлет, Фауст — самые одинокие герои всех культур, в чьих душах пробуждение внутренней жизни проявляется в тоске, загадочной жалости и несказанной заброшенности. Наиболее полное выражение западное мирочувствование достигает в инструментальной музыке, мир форм которой „внутренне родственен вйдению чистого пространства“. Настоящий художник Запада закрывает глаза и замирает в области бестелесной музыки, где гармония и полифония ведут к созданию высочайшей потусторонности. В изобразительном искусстве всякое тело важно не само по себе, а как носитель света и тени. В живописи обнаруживается горизонт как великий символ безграничного мирового пространства, заключающего в себе случайно попавшие в поле зрения отдельные вещи. Горизонт — это линия, в призрачной дымке которой расплываются небо и земля, это воплощение и сильнейший символ дали. На Западе чувство родины сродни загадочной ностальгии северянина, несущей в себе что-то музыкальное, парящее и неземное. Для западного человека родина предстает как неосязаемое единство природы, языка, климата, обычаев, истории, как страна, где властвует не „точечное настоящее“, а историческое прошлое и будущее, где господствует не единство людей, богов и домов, а некоторая идея, уживающаяся со странничеством и глубочайшим одиночеством».
Западную душу Шпенглер называет фаустовской, ибо она, как и гетевский герой, воплощает «деятельное, борющееся, превозмогающее бытие». Взору фаустовского человека весь мир предстает как совокупное движение к цели. Жить — значит бороться, преодолевать, добиваться. Западная трагедия, возникшая из чувства «неумолимой логики становления», есть трагедия стадий развития жизненного пути человека. Борьба за существование как идеальная форма существования восходит еще ко временам готики и лежит в основе ее архитектуры. XIX в. лишь придал ей механистически-утилитарную формулировку. Фаустовский инстинкт, деятельный, волевой, наделенный вертикальной тенденцией готических соборов, устремленный в дали и в будущее, требует пространства только для собственной активности. Фаустовский человек, постоянно наблюдающий себя, рефлексивен, как рефлексивна, личностна вся западная культура. В истории он видит напряженное развитие, ориентированное на некую цель. Неслучайно символом западной культуры являются часы: «над нашим ландшафтом с тысяч и тысяч башен денно и нощно раздается бой часов, постоянно связующий будущее с прошедшим и растворяющий мимолетный момент античного настоящего в каких-то чудовищных соотношениях». Эпоха барокко интенсифицировала готический символ башенных часов, доведя их до гротескного символа карманных часов, постоянно сопровождающих отдельного человека. Западный человек немыслим без тщательнейшего измерения времени, и это стремление к хронологии происходящего вполне отвечает его неслыханной потребности в археологии, т. е. в сохранении, раскапывании, коллекционировании всего происшедшего.
Душа культуры, считает Шпенглер, обусловливает ее морфологическое сродство, внутренне связующее язык всех культурных форм — политику и математические идеи, искусство, его художественную технику и выбор материала, архитектурные и философские формы. Поэтому существует глубокая взаимосвязь форм между дифференциальным исчислением и династическим принципом государства эпохи Людовика XIV, между античной государственной формой полиса и евклидовой геометрией, между пространственной перспективой западной масляной живописи и преодолением пространства посредством железных дорог, телефонов и дальнобойных орудий, между контрапунктической инструментальной музыкой и хозяйственной системой кредита. Все явления равным образом воспринимаются как символы культуры — египетская административная система, античное монетное дело, аналитическая геометрия, чек, Суэцкий канал, китайское книгопечатание, прусская армия и римская техника дорожного строительства. Как разнообразные проявления души культуры, все эти феномены и их мельчайшие детали равно необходимы, так как воплощают «всю сумму глубочайших тенденций».
И, наконец, каждая культура сообразно своей душе имеет определенную продолжительность жизни, определенный темп развития, где каждый ее спад, каждый подъем также имеют строго определенную длительность. Эта направленность культуры во времени, которое необратимо, невыразимо, поскольку представляет собой акт творчества, есть судьба культуры. Настоящая история, утверждает Шпенглер, «отягощена судьбой, но лишена законов». Время противостоит пространству как становящееся ставшему, как живое мертвому, как пережитое продуманному, но поскольку основа всего есть жизнь, время лежит в основании пространства как нечто глубокое и таинственное. Коль скоро каждая культура есть осуществление одной-единственной души, она обладает своей собственной, неповторимой судьбой. Таким образом время, судьба, история суть, по Шпенглеру, «слова-векселя».
Уникальность культуры, неповторимость ее судьбы, непередаваемость смыслов означает, что ничто не может быть воспринято от другой культуры в неизменном виде. Если молодые культуры вступают в контакт с более старыми, они «совершенно игнорируют» первоначальное значение того, что приобретают. Любые инокультурные формы, лишь будучи одушевлены тем или иным культурным организмом на основе собственного существования, становятся «его внутренней собственностью, его делом и частью его самого».
Постижение души культуры дело трудное и до конца невозможное. Дело не только в том, что каждой культуре присущ свой индивидуальный способ мировйдения, но и в том, что даже в рамках одной культуры каждый отдельный человек имеет свой тип истории, «в картине и стиле которой он непосредственно созерцает, чувствует и переживает общее и личное, внутреннее и внешнее, всемирно-историческое и биографическое становление». Кроме того, неосуществимость до конца прасимвола души культуры, из которого выводится весь язык ее форм, невыразимость самой жизни понятийными средствами позволяют прочувствовать культуру как совокупность символов, обращенных к внутреннему чувству. «Лишь на большем или меньшем сродстве отдельных миров, — пишет Шпенглер, — поскольку они переживаются людьми одной культуры или одного душевного склада, покоится большая или меньшая возможность сообщения увиденного, прочувствованного, познанного, т. е. оформленного в стиле собственного бытия при помощи выразительных средств языка, искусства и религии, при помощи слов, формул, знаков, которые и сами, в свою очередь, символы»1. Здесь как раз и лежит предел «действительной сообщаемости чего-либо другим существам или действительного понимания их жизненных явлений». Когда мы пытаемся понять чужую культуру, наше знание о ней всегда условно и относительно, поскольку «с помощью привычных нам оборотов вкладываем в выражение чужой души собственное мирочувствование, из которого и проистекает значение наших слов».
Однако установление «гомологии исторических явлений» т. е. их морфологической эквивалентности, позволяет, по мнению Шпенглера, выработать тот строгий метод, который в «разнузданной полноте случайного» может определить типическое и необходимое в культурах. При всей уникальности содержания и судеб культур они обладают периодической структурой и органической логикой, свидетельствующей о прохождении каждой культурой периодов юности, восхождения, расцвета, упадка. Культура рождается в тот миг, когда «пробуждается и отслаивается великая душа, некий лик, из пучины безликого, нечто ограниченное и преходящее из безграничного и пребывающего». Культура расцветает в процессе осуществления ее душой своих возможностей в виде народов, языков, вероучений, искусств, государств, наук. Но как только вся полнота внутренних возможностей завершена и осуществлена вовне, культура «внезапно коченеет, отмирает, ее кровь свертывается, силы надламываются — она становится цивилизацией». Наступает закат культуры, предвещающий ее неизбежную смерть. Эти фазы культуры, по убеждению Шпенглера, «объективные характеристики органических состояний», а не выражение субъективных оценок морального или эстетического порядка. Поэтому все исторические периоды находятся в строгой и необходимой органической последовательности. Все происходило и произойдет с «неотвратимой неизбежностью судьбы» и не зависит от наших надежд и пожеланий. Если уж воспользоваться рискованным словом свобода, то, считает Шпенглер, «мы вольны осуществлять не то или иное, но только необходимое или ничто».
Судьба культуры, ее неумолимая логика находится под покровом непредвиденного и случайного. В самом деле, никто при появлении Мухаммеда, отмечает Шпенглер, не предвидел «бурю ислама», не знал, что падение Робеспьера приведет к возвышению Наполеона. Поскольку все исполнено глубочайшей необходимости, нет смысла задавать вопрос, почему тот или иной элемент «в вихрях становления» лишь претерпел судьбу и безвозвратно исчез в «прибое исторической поверхности», а другой элемент сам стал судьбой, сотворил историю. «В каждой эпохе наличествует неограниченная полнота неожиданных и никогда не предусматриваемых возможностей, — пишет Шпенглер, — самоосуществляющихся в отдельных фактах, но сама эпоха необходима, так как в ней налицо жизненно важное единство. То, что внутренняя форма ее такова, в этом ее назначение»1. Любое историческое событие случайно и на его месте может появиться любое другое, но их связь с судьбой предопределена. Так, например, можно предположить, что французская революция не произошла, но она была бы с необходимостью замещена революцией в ином месте, скажем, в Англии или Германии. Какие бы усилия ни прилагал Наполеон для увековечения мощи и величия Франции, в его победах и поражениях «непреложно таилась победа Англии, победа цивилизации над культурой».
Поскольку во всех культурах ее «великие творения и формы» возникают, завершаются и угасают одновременно, внутренняя структура одной культуры строго соответствует другой. Из этого следует, что в исторической картине любой культуры нет ни одного значительного явления или факта, которому нельзя было бы подыскать эквивалент во всех других, притом «в строго знаменательной форме и на вполне определенном месте». В этом смысле одновременно протекает возникновение ионического стиля в античном искусстве и барокко в европейском, современниками можно считать Пифагора и Декарта, Поликлета и Баха, Александра Макдонского и Наполеона. Одновременность западноевропейско-американской ситуации между 1800 и 2000 гг. с ее кульминацией — мировой войной — можно сравнить с переходом эллинистического периода в римскую эпоху. «Римский стиль, исполненный строжайшего фактического смысла, не гениальный, варварский, дисциплинированный, практичный, протестантский, прусский, всегда будет предлагать нам, рассчитывающим на сравнения, ключ к пониманию собственного будущего»1. Данные сравнения могут иметь силу при условии признания «тождества во внутреннем порыве, влекущем великий организм к завершению», но отличия «каждой подробности поверхностной стороны».
Такой гомологический подход, считает Шпенглер, позволяет прийти к выводу о том, что современная европейская культура вступила в заключительную фазу своего существования — цивилизацию. Цивилизация есть неизбежная судьба любой культуры, ее самое крайнее и искусственное состояние. Цивилизации следуют за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение, за деревней и душевным детством как умственная старость и каменный, окаменяющий мировой город, все они — «конец без права обжалования». Для всякой цивилизации характерно экспансивное развитие: «количество заменяет качество, углубление заменяется распространением». Культура и цивилизация различаются как греческая душа и римский интеллект. Человек культуры живет внутренней, бессознательной жизнью во времени, цивилизованный — внешней, сознательной, в пространстве, «среди тел и фактов». В цивилизации «воцаряется мозг, так как душа вышла в отставку». Живая внутренняя религиозность угасает и уступает место иррелигиозности, доходящей до атеизма. В любой цивилизации господствует «тип крепких умом», «мозговых», но совершенно «неметафизических людей», которые провели в жизнь вавилонский, египетский, индийский, китайский, римский «империализм». Под империализмом Шпенглер подразумевает чистую, «созревшую» цивилизацию, недалекую будущность западного мира, с наступлением которой окончательно завершится история западноевропейского человека.
Символом цивилизации является появление «мирового города», который, в отличие от города, «всасывает» в себя все содержание истории, подчиняя себе совокупный ландшафт культуры, питающий его «остатками своей высшей человечности». Обитатель мирового города — «новый кочевник», «паразит», космополит, оторванный от традиций, иррелигиозный, бесплодный, исполненный глубокой антипатии к крестьянству. Дух денег проникает во все исторические формы жизни народов; искусство, философия предназначены для «столичных мозгляков», интеллигентов и ненавистны и непонятны народу и провинциалам.
Неизбежность гибели любой цивилизации означает, приходит к выводу Шпенглер, что будущее Запада не «безбрежный поток, стремящийся вверх и вперед по курсу наших сиюминутных идеалов с фантастическим запасом времени», а строго ограниченный несколькими столетиями отрезок истории. Можно сожалеть об этом, можно это порицать, можно считать наступающий период роковым и жизневраждебным, но изменить ничего нельзя. Цивилизованным людям лучше всего считаться с «суровыми и холодными фактами закатывающейся жизни», принять неизбежность как благо и исходить из внутренних возможностей эпохи. «Кто не понимает, что ничего уже не изменит этой развязки, что нужно желать этого либо вообще ничего не желать, что нужно любить эту судьбу либо отчаяться в будущем и в самой жизни, кто не чувствует величия, присущего этой активности властных умов, этой энергии и дисциплине твердых, как металл, натур, этой борьбе, ведущейся ледяными и абстрактнейшими средствами. Кто морочит голову своим провинциальным идеализмом и тоскует по стилю жизни былых времен, — тот должен отказаться от того, чтобы понимать историю, переживать историю, делать историю»1.
Однако именно «старческая мудрость фаустовской культуры» позволяет сделать то, что было не дано другим цивилизациям. А именно: проникнуть в мирочувствование не только собственной, но всех когдалибо существовавших душ и осмыслить морфологию становления всего человечества. В этом не превосходство западной цивилизации, считает Шпенглер, а ее судьба, ибо в отличие от всех существовавших доселе культур историческим чувством времени обладают лишь люди западноевропейской культуры. Поэтому, будучи «выражением и отображением лишь западной души в ее нынешнем цивилизованном состоянии, всемирная история оказывается нашей картиной мира, а не картиной человечества».
Людям «первых заморозков» западной цивилизации открывается не только прошлое и настоящее, но и будущее в его неизбежности. Как и Древний Рим, Европа, прежде чем погибнуть, окажется под властью сильной личности и вступит в полосу кровавых войн. Но поскольку все ставшее преходяще, вполне вероятно, что через несколько столетий не будет уже «никакой западноевропейской культуры, никаких немцев, англичан, французов, как во времена Юстиниана уже не было никаких римлян». Более того, придет время, когда угаснет и сам первофеномен великих культур, а с ним и «вся драма мировой истории», исчезнет человек, за ним феномен растительной и животной жизни на земной поверхности, а дальше земля, солнце и вся солнечная система.
Нетрудно увидеть, что концепция мировой истории Шпенглера развивает некоторые идеи философии культуры И. Г. Гердера и Н. Я. Данилевского, привнося при этом новые моменты и новые акценты. Свое критическое отношение к предшествующим философским школам Шпенглер объясняет не их ошибочностью, а отсталостью от запросов времени и, как следствие, неспособностью понять суть новых исторических тенденций и поставить диагноз болезням европейской цивилизации. Исключение представляет И. В. Гете, чей пантеистический взгляд на мир близок Шпенглеру. Выступая от имени «людей первых заморозков полной цивилизации», Шпенглер преисполнен пафоса стоического отношения к грядущему закату Европы, не оставляющему никаких надежд на грядущее возрождение. Его философия истории — это философия итогов, подводящая черту не только под тысячелетним развитием уникальной и неповторимой «фаустовской культуры», но и всех доселе существовавших культур. Именно европейская культура, наделенная обостренным чувством времени и достигшая своего пика развития в цивилизации, дает возможность выработать строгий метод, который позволяет, по мнению Шпенглера, сконструировать философию мировой истории. Таким образом всемирная история не объективный, независимый от нас процесс, а конструкция, создаваемая представителем угасающей западноевропейско-американской цивилизации на основе эмпирических наблюдений и сравнения развития различных культур. Только осознание человеком конечности своего бытия позволяет понять, что такое жизнь, время, а значит, и история. Жить — значит осуществлять себя в культуре, творить ее в бесчисленных и разнообразных формах, а исчерпав жизненные возможности — принять смерть как неизбежность.
В отличие от неокантианцев Шпенглер не противопоставляет метод изучения природы и метод изучения истории, как и не противопоставляет природу и историю. Природа как метод, т. е. естественнонаучный метод, является результатом рационального мышления, которое возникает тогда, когда сама жизнь застывает в доступных разуму формах. Поэтому этот метод появляется позже исторического, способного схватить становящуюся жизнь посредством интуиции, эмоционально-образного переживания. Однако исторический метод не замещается естественнонаучным, но всегда лежит в его основе, ибо в угасании, омертвлении культуры сохраняется движение жизни, которое прекращается лишь с наступлением смерти. Кроме того, сама природа столь же исторична, как и все культурные явления. Выступая объектом осмысления в каждой культуре, она неминуемо приобретает соответствующий ей образ, непохожий на другие.
Сравнительный подход Шпенглера претендует лишь на выявление структурного сходства культур и общности логики их развития, не затрагивая уникальности их содержания и неповторимости судеб, которые могут варьироваться до бесконечности. Жесткость схемы Шпенглера связана с построением модели культурного развития по аналогии с процессами, происходящими в живых организмах, включая человека, где жизнь — это отрезок между двумя точками — рождением и смертью. Отсюда глубоко фаталистический взгляд на мировой исторический процесс, в котором «не выплывает наружу ни одна мельчайшая деталь без того, чтобы в ней не была воплощена вся сумма глубочайших тенденций». Если плюрализм культурных форм у Гердера и Данилевского связан с признанием их равноценности в жизни, то для Шпенглера все культуры равны перед смертью, то есть ни одна не обладает преимуществом стать бессмертной по сравнению с другими.
Исторический прогресс Шпенглер не принимает категорически ни в какой форме — ни в линейной, ни в кумулятивной. Отсюда акцентуация уникальности культур, утверждение их взаимонепроницаемости: культуры ничего друг другу не передают в первозданном виде и в силу этого ничего не накапливается в мировой истории. Как нет единого человечества, так нет и единой линии исторического развития. Тем самым вопрос о преимуществах той или иной культуры, о возможности ее усовершенствования на основе усвоения опыта других культур полностью снимается. Абсолютная равноценность культур достигается путем отказа от признания того, что их становление и развитие связано не только с внутренними факторами, но и внешними, в чем проявляется верность Шпенглера своим методологическим принципам. Он не отрицает факты взаимовлияния культур, находившихся, за исключением египетской, мексиканской и китайской, «под опекой более древних культурных впечатлений». Так, например, западноевропейская готика несет на себе воздействие арабской культуры, «опутывающей» фасады кафедральных соборов Бургундии и Прованса. Однако культурное влияние не носит характер преемственности, поэтому из стиля пирамид ничего не перешло в дорический стиль, ничто не связывает античные храмы с восточными базиликами. Не может быть и речи о «возрождении хотя бы одного значительного искусства», процветавшего когда-то, например, в период Античности.
С одной стороны, позиция Шпенглера стимулирует дальнейшее развитие герменевтического подхода к осмыслению истории: всякое явление культуры включается в арсенал другой исключительно в переработанном, переосмысленном виде. Из этого следует вывод, имеющий практическое значение: никакие чуждые элементы не могут быть внедрены в культуру, нарушить ее самобытность, ибо она или отвергает то, что не соответствует ее душе, или перерабатывает существенным образом. Но с другой стороны, самобытность культуры требует безусловного основания, которое не может не приобрести субстанциальный характер. Так появляется у Шпенглера самодостаточная душа культуры с врожденным «прафеноменом», определяющим специфику и судьбу культуры. Благодаря присутствию души, всякая культура представляет собой организм, все части которого необходимым образом связаны, взаимозависимы и подчинены только ему присущей судьбе. Эта целостность имеет закрытый, самодостаточный характер, не допускающий отклонений от предначертанного и непрерывного пути. Таким образом, мировая история — это кругооборот самобытных и самодостаточных культур, совершенно не нуждающихся друг в друге, не зависящих друг от друга, смотрящих друг на друга исключительно через призму своих собственных представлений. Иными словами, мировая история дисконтинуальна, поскольку каждая культура начинает со своего «ноля», но ее внутреннее развитие непрерывно и непреложно. Внезапность возникновения культур, обусловленная действием космических сил, столь же внезапно может привести не только к их гибели, но и к гибели жизни на Земле, гибели самой Земли, возникшей столь же случайно в глубинах космоса.
- [1] Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2 т. Т. 1. М. :Мысль, 1998. С. 320—321.