Система мабильона.
История письма в средние века
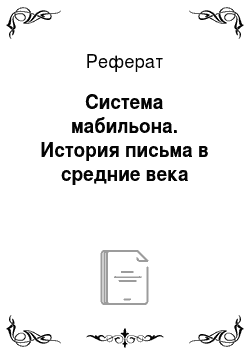
Лет Мабильон вступил в реформированный Орден бенедиктинцев, конгрегации св. Мавра, а в 1654 г. мы видим его членом обители Saint-Germain-des-Pres. В этом древнем аббатстве он нашел то, чего искал: редкую, великолепную библиотеку средневековых рукописей, самоотверженных товарищей, прекрасную рабочую дисциплину, направляемую твердой рукою Люка д’Ашери, и целую группу опытных ученых руководителей… Читать ещё >
Система мабильона. История письма в средние века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Ее система создана была впервые гением Мабильона.
В истории рукописной традиции совершенно исключительным было время, в какое он жил и действовал. В Европе только начинали утихать бури, вызванные движением религиозной реформации и теми политическими и социальными катаклизмами, какие были с ней связаны. В эту эпоху новое общество, борясь за власть и достояние с силами и учреждениями Средневековья, предъявило им не только притязания нового идеального права и силу меча, но также иск об их положительных правах. Оно потребовало от них оправдательных документов и поставило вопрос об аутентичности их архивов. «На чем основана мирская власть и финансовые притязания римской курии? Какие права имеют епископы на территории городов? Что такое Германская империя и ее прерогативы? Что такое власть сеньеров?» «Никогда дипломы и хартии не были предметом таких многочисленных и страстных споров… С хартиями в руках разрешаются между юрисконсультами, феодистами, генеалогами и государственными людьми вопросы права, привилегии, прерогативы, территориальные и иные притязания. Архивы становятся арсеналами, где адвокаты короны ищут необходимого оружия, чтобы защищать во всем королевстве права короля. Юрисконсульты выкапывают в них доводы, чтобы защищать или оспаривать «свободный аллод»; сеньоры переворачивают их, чтобы найти доказательства древности своих феодов, дипломаты опираются на них в своих спорах, и юристы ищут в них элементов для своих постановлений[1].
Этому времени дали имя периода «дипломатических войн» — bella diplomatica.
Идея названия принадлежит некоему Людевигу, ученому архвисту, пожелавшему на склоне лет вспомнить «минувшие дни и битвы». Сочинение, посвященное этому вопросу, называется «Об употреблении и значении дипломов и дипломатического искусства; далее — о дипломатических войнах, разыгравшихся во Франции, в Италии, а также в Верховных трибуналах Германской империи«[2]. В период бури и натиска архивный материал и ученость его хранителей должны были прежде всего ответить на острую практическую нужду. Усилия сосредоточились на этой задаче с небывалой энергией. В пылу битвы хватались за любое оружие, но так как им во всяком случае было знание и мысль, а они имеют свои законы, то вскоре возник вопрос о ценности самого оружия, об общем основании цитируемых знаний и мыслей. Он постепенно стал определяться, как главный. Начав со сражений за права на власть и достояние, бойцы кончили бескровными битвами за мысли и за научные тезисы, которые увлекают их ради них самих. В дипломатической войне постепенно ничинает определяться строгий образ науки дипломатики.
Незаметно для их участников проникало влияние той философии скептицизма, расцвет которой совпал с разгаром bella diplomatica. Они в своей бескорыстной основе «были отчасти продолжением волн, которые подняла эта философия»; вместе с тем они же питали ее. «Со времени Монтеня не замирало движение против традиции и авторитета… Оба великих метафизика, Декарт и Мальбранш, получившие стимулы своего научного мышления и своей методики в историко-критических трудах великих юристов и филологов XVI в., несомненно, оказали самое решительное влияние на научный склад тех, о ком будет речь ниже: ораторианцев и мавристов»[3].
Во Франции коллизия между католичеством и реформой была исчерпана раньше и безболезненнее, чем в других странах. Осторожная политика Генриха IV и Ришелье успокоила страну, смягчила острие горечи и обиды политических и религиозных споров, а за ними — и дипломатических войн. Враждующие группы, подчиняясь их примирительному посредничеству, протянули друг другу руку для мирного сотрудничества. Более широким духом беспристрастия будет веять от исторических трудов этой поры. Вместе с тем, вынув жало у протестантской оппозиции, королевская политика лишила ее многих стимулов работы. На первый план в этой работе выступят элементы консервативные, зачастую прямо официальные. Это соотношение сил будет характерно во Франции для всего XVII и для первой половины XVIII в[4].
Ученые работают при материальной поддержке и под покровительством королевской власти. Они верные ее слуги и почти все несут официальные функции. Среди них выделяются Anere Duchesne, издатель богатейшего собрания нормандских летописцев, Etienne Baluze, вечный холостяк, приверженец галликанских идей, яркий независимый ум, хотя и библиотекарь королевского книгохранилища. Как ученый исследователь, он больше всего интересовался актами законодательного характера, обработал издание капитуляриев франкских королей[5] и один том актов церковных соборов. Как библиотекарь, он собрал громадные богатства рукописных оригиналов, а также ранних и поздних копий с них, многие из которых сделаны его рукою. Эти копии и собственноручно написанные им каталоги — красные сафьяновые тетрадки, исписанные его характерным почерком, — ныне вошли в качестве fonds Baluze в Национальную библиотеку. В нем мы находим копии многих пропавших памятников. К тому же кругу принадлежали «братья Саммартаны» — Scevoie et Louis de Sainte Marthe, «королевские историографы», которые положили начало и осуществили два тома одного из интереснейших изданий французской эрудиции Gallia Christiana[6], только ныне приближающегося к концу. Оно влилось в работы конгрегации св. Мавра и вместе с ними впоследствии перешло в ведение Французского института. Далее мы должны отметить того, кто носил имя Charles du Fresne, sieur Du Cange, казначея города Амьена. Скромный, сдержанный, молчаливый, полная противоположность Балюзу, отец семерых сыновей, которые, по его горькому замечанию, «проявляли таланты ко всему, кроме ученья», он сам с ранних лет получил вкус «к приятному и честному времяпрепровождению, passetemps agreable et honnete, которое заключалось в чтении с пером в руках средневековых текстов. В 45 лет он еще ничего не напечатал, но его ящики полны были папок, в которых каждая отдельная карточка классифицировалась одновременно по алфавитному принципу и по принципу содержания {histoire, jurisprudence, inscriptions, monnaie). В его способе работать чувствовалась, одновременно какая-то наивная свежесть и глубина настоящего исследователя. Он очутился перед совершенно невспаханным чполем: перед массой неизданного материала. Он мечтал о грандиозной систематической работе по истории французских учреждений. У него получился «Словарь средней и низкой латыни», Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, где под соответствующими словами собраны ценные исторические комментарии и в большой полноте соответствующие тексты[7].
Именами Дюшена, Балюза, Саммартанов и Дюканжа не исчерпывается список замечательных эрудитов XVII в. Полная история этой эрудиции еще не написана, и ее приходится искать по частям в различных монографиях из области историографии и в истории литературы. Не светские, во всяком случае, ученые были той славой, которой в этом смысле гордится XVII век. Умиротворение и объединение католической церкви, наступившее после Тридентского Собора, благоприятно отразилось на научных предприятиях духовенства. Вступая целыми конгрегациями в научную работу, оно внесло в них столь характерные для него качества: «Терпение, методичность, уважение к традиции, которая обусловила и сделала возможными обширные и длительные предприятия, систематичность и осторожность в труде и, наконец, любовь и понимание Средних веков, великой поры в жизни церкви» [8].
Мы здесь в интересах главной нашей задачи только упоминаем о предприятиях второстепенных духовных компаний, как янсенисты и ораторианцы, и даже о таком первоклассном, но не имевшем прямого влияния на развитие палеографии, как издание житий святых болландистами. Мы остановимся на том, которое имеет ближайшее к нам отношение, «перед чьей славою все бледнеет», — ученого предприятия, которое организовано было в 1627 г. под знаменем св. Мавра и нашло свой центр в древнем аббатстве св. Германа в Лугах.
Бенедиктинцы конгрегации св. Мавра в новой программе своей деятельности примкнули к давним традициям ордена св. Бенедикта, старейшего из всех западных орденов. Основанный в VI в. св. Бенедиктом Нурсийским, испытавший сильное влияние деятельности Кассиодора, под воздействием которого книжное дело стало одним из главных послушаний братии (Монтекассино близ Неаполя и Субъяко вблизи Рима были первыми его центрами), реформированный в X веке св. Бенедиктом Анианским, он в XI в. вынес на себе Клюнийскую реформу. В XII и XIII вв. его значение падает перед новыми орденами. Конец Средних веков застал его, по-видимому, в полном разложении в смысле организации и нравов его братии. Но после Тридентского собора, он, по крайней мере в отдельных частях своих, находит в себе новую энергию, чтобы реформироваться. Создаются отдельные большие преобразованные его конгрегации — св. Ванна и св. Мавра, которые, как в далекие времена св. Бенедикта Нурсийского, поставят рукописное и книжное ремесло главной своей задачей.
Дом Тарисс и его ближайший сотрудник, библиотекарь Дом Люк д’Ашери, были первыми руководителями конгрегации, которые выработали для деятельности своих членов определенный план. Он потом служил руководящим в течение двух веков. С уничтожением конгрегации он достался в наследство Французскому институту, и его кадры в настоящее время заполнены множеством ценных и солидных изданий. Согласно этому плану работа конгрегации должна была сосредоточиться на разыскании и издании памятников[9], подходящих под следующие рубрики:
- • издания отцов церкви;
- • памятники, относящиеся к истории церкви;
- • памятники, относящиеся к истории Бенедиктинского ордена:
- • труды, относящиеся к вспомогательным наукам истории;
- • труды, относящиеся к церковной истории Франции;
- • труды, относящиеся к общей политической истории Франции;
- • труды, относящиеся к литературной истории Франции;
- • труды, относящиеся к местной и провинциальной истории Франции;
- • извлечения из рукописей и заметки;
- • другие предприятия[10].
- 20 мая 1648 г. в Вандоме собрался генеральный капитул ордена, которому представлен был этот план. Здесь он был утвержден и положен в руководство членам. Здесь же выработаны были правила хранения mss. и пользования библиотекой. Конгрегация обратилась к целому ряду частных лиц и учреждений, а также через епископов ко всем священникам французских и иных диоцезов с предложением присылать рукописный материал в дар или временное пользование конгрегации. Орден имел обширные сношения со своими собратьями всех концов Европы. Эти связи были пущены в ход. Мы не должны забывать, что ученая компания действует в век, когда связи между отдельными государствами Европы слабы и дипломатические сношения носят неправильный, случайный характер. В этом смысле организация старого, хорошо дисциплинированного ордена, за кредитом которого стояло в глазах его контрагентов более чем тысячелетнее существование, который по всей Европе, независимо от национальных границ, говорил и переписывался по латыни — эта организация оказалась могущественнее любого европейского правительства. Орден имел пути к лучшим рукописным хранилищам, ибо ими были хранилища братских обителей. Его переписка занимает 70 картонов в рукописном отделе Парижской национальной библиотеки. Она далеко не издана и не разобрана. В день, когда все эти пожелтевшие бумаги, исписанные характерным монастырским почерком, увидят свет, мы будем иметь одну из любопытнейших картин духовной жизни общества XVII в., в которой предстанет иной его лик, отличающийся от привычного нам образа. Это — век Корнеля и Расина, век Фронды и Мазарини. Никаких отзвуков этих политических бурь, этих литературных сияний мы не найдем в переписке бенедиктинцев. Один кропотливый исследователь вздумал подсчитать, сколько раз в этих десятках тысяч писем упоминается имя Расина. Он нашел его только один раз. Ученое общество, группирующееся около Сен-Жерменского аббатства, живет совершенно особою жизнью.
«Когда мы выходим, замечает историк Мабильона, де Брольи, из круга тех великих имен, которые освещают лучами бессмертной славы замечательный в истории Франции век, мы не без удивления становимся лицом к лицу с обществом очень активным, очень живым и вместе нисколько не похожим на то, которое, по общему признанию, считается выражением великого века. Это — его ученые и эрудиты. Когда мы впервые подходим к этой мало блестящей части литературного мира XVII в., нам кажется, что новая область открывается нашим глазам. Наше впечатление в этом случае похоже на впечатление исследователя, добравшегося в своих раскопках до более глубоких слоев почвы, которые, невидимые глазу, несут в себе фундаменты самых прекрасных зданий и корни самых мощных деревьев. В стороне от избранного круга блестящих писателей живет, несколько в тени, многочисленное общество ученых, эрудитов, умных и трудолюбивых, в непрерывных взаимных сношениях, которые от края и до края Европы знают друг друга, общаются в непрерывной переписке и непрерывно осведомлены о ходе работ и открытий друг друга»[11].
Нет ни возможности, и не было бы смысла перечислять даже более видных деятелей этого предприятия, авторов этой переписки. В такого рода общей работе невидные и преданные работники не менее нужны, чем выдающиеся гении. Они входят важным элементом в тот глубокий слой подпочвы, который, согласно только что цитированному выражению Брольи, поддерживает фундаменты самых высоких зданий и корни самых мощных деревьев. В наше время совсем забыто, даже специалистами, имя скромного бордосского священника Никеза. А в середине XVII в. не было ни одного участника бенедиктинской работы, который не был бы ему обязан прямо или косвенно. Невидимый, сам полуслепой, как крот, он рылся в самых глухих провинциальных архивах в поисках рукописных сокровищ. В кабинете рукописей Национальной библиотеки сохранилось несколько тысяч писем, адресованных к нему. Они идут из всех концов католического мира. Один шутник при жизни посвятил ему комическую надгробную эпитафию[12].
Предприятие бенедиктинцев было сильно более всего подобными сотрудниками и громадной дисциплиной своей армии. Но судьба не отказала ему и в другом необходимом условии: в талантливых вождях. Дом Тарисс, при котором начертан был план работы, сошел в могилу, не дождавшись его осуществления. Место его занял дом Люк д’Ашери. Но уже в 50-е гг. рядом с ним становится замечательная фигура Иоанна (Жана) Мабильона.
Этот крестьянский сын из местечка Remiremont в Шампани уже в отроческие годы, учеником реймской College des bons enfants, обнаруживал самый живой и упорный интерес к подлинным следам прошлого. Возвращаясь на каникулы, он отправляется в исторические экскурсии, ищет и списывает надписи с забытых надгробных камней. В 17 лет роется в книгохранилищах окрестных церквей и монастырей. В одном из таких хранилищ он нашел прекрасную библию каролингской эпохи и сделал на ней пометку: Biblia sacra infiniti valoris et servatu dignissima — «священная Библия, бесконечной цены и достойная сохранения». Мабильон не подозревал, делая эту надпись, что в глазах любителей она значительно повысит цену редкого манускрипта.
25 лет Мабильон вступил в реформированный Орден бенедиктинцев, конгрегации св. Мавра, а в 1654 г. мы видим его членом обители Saint-Germain-des-Pres. В этом древнем аббатстве он нашел то, чего искал: редкую, великолепную библиотеку средневековых рукописей, самоотверженных товарищей, прекрасную рабочую дисциплину, направляемую твердой рукою Люка д’Ашери, и целую группу опытных ученых руководителей. Все, что в эту пору интересовалось средневековым прошлым, группировалось около аббатства — целый замкнутый, но живой и деятельный мир ученых исследователей, эрудитов, коллекционеров, библиотекарей, библиофилов, архивистов, книгопродавцев, светских людей и клириков, аббатов, кардиналов и простых монахов, которые все сходились в установленные часы в рефектории аббатства. Здесь постоянными гостями были Du Cange, Baluze, братья Valois, Pierre Renodaut, знаток 17 языков, Robert de Gaigneres, собиратель гравюр, портретов, камней, печатей, расписных церковных стекол, затем реймский кардинал Le Tellier и его отец — канцлер Франции, знаменитый иезуит, Jean Hardouin, «ученейший и парадоксальнейший» (homo doctissimus et paradoxotissimus) член кружка, страдавший неукротимой подозрительностью в отношении текстов и объявивший всю античную литературу подделкой средневековых монахов.
Следует сказать, что блестящие литературные салоны и двор игнорировали эту ученую организацию, но она пользовалась прочной поддержкой короля и видных государственных людей: Кольбера, Боссюэ, канцлера Франции и многих членов парламента. Две черты характерны были для научной работы кружка: ее изолированность от окружающей жизни и официальное признание правительства. Работа эта остается особым, самодавлеющим священнодействием, которое имело горячих адептов, но не выходило из своего святилища.
Когда в 1654 г. Мабильон явился в Сен-Жерменское аббатство, он первое время занял там положение младшего ученика, которого руководили своими советами д’Ашери, Балюз и Дюканж. Эти советы и указания скоро сформировали из него первоклассного эрудита. Пройдет немного лет, и в сомнительных случаях руководители будут отсылать к Мабильону. В 1657 г. вышел первый издательский его труд Vita et opera Sancti Bernardi, где, подвергнув строгой критической оценке рукописное предание сочинений св. Бернарда, Мабильон устанавливает в нем границу между подлинным и неподлинным. Книга вызвала резкие нападки католической критики. Критический метод автора задел традиционные чувства членов церкви. Его обвиняли в самомнении, в отсутствии благоговейного уважения к великим преданиям церкви. Отвечая на эти нападки, Мабильон пишет: «Судьба работников нашего ремесла всегда одинакова. Если мы издаем, не мудрствуя лукаво, нас называют глупцами; если издаем критически— притязательными. Из этих двух путей я предпочитаю второй, как более гармонирующий с любовью к правде, какая приличествует христианину, монаху и священнику, как более соответствующий чести ордена, наконец, как совершенно неизбежный в наш просвещенный век, когда уже никак нельзя писать басен или пускаться в какие бы то ни было утверждения без настоящих доказательств. Лгать — значит отказываться от искренности, добросовестности и чести».
В этом признании высказался весь Мабильон и выражены основы его жизни, как и его писательской и издательской деятельности. Он приложил руку почти ко всем современным ему изданиям бенедиктинского ордена. Из них Annales Ordinis S. Benedicti и Acta Sanctorum Ord. S. Ben. являются плодом исключительно его работы. Но главная слава его имени связана не столько с этими изданиями, сколько с теоретическим их обоснованием — тем замечательным трактатом, который создал впервые целую новую науку, или, вернее, ряд дисциплин, являющихся важнейшими орудиями исторического исследования.
Условия, в каких зародилась и явилась на свет замечательная книга, дали повод к проявлению беспримерной дисциплины конгрегации, бескорыстной любви к истине, какая свойственна большинству ее работников, наконец, душевной красоты самого Мабильона.
С середины XVII в., наряду с бенедиктинцами, работала над изданиями житий святых компания иезуитов имени Болланда. Один из главных работников предприятия, Даниил Папеброк, исследуя основания подлинности или подложности житий, натолкнулся на мысль контролировать их при помощи официальных королевских грамот, так называемых дипломов, и в выпущенной им в 1657 г. книге, которая озаглавлена была Propyleum antiquarium circa veri ас falsi discrimen in vetustis membranis, путем целого ряда ошибочных посылок пришел к довольно странному заключению по вопросу о подлинности дипломов, а именно, что диплом тем более подозрителен, чем он старше[13]. Наряду с другими важными группами под этот вывод подошло все собрание дипломов, данных меровингскими и каролингскими государями древнему аббатству св. Дионисия.
Можно вообразить впечатление, какое должен был произвести такой результат в среде бенедиктинцев! Выводы Папеброка не только подкапывались под основания имущественных и юридических прерогатив одной из величайших бенедиктинских обителей. Они аннулировали раннюю историю династии и опорочивали издания бенедиктинцев, посягая, таким образом, на их духовное достояние. Если вспомнить о давней вражде, которая разделяла старый и новый ордена и ставила их в боевую позицию друг против друга, то можно подумать, что Папеброк сознательно сделался ее орудием.
Мабильон решился выступить на защиту своего ордена и его архивов. «Но он органически неспособен был допустить вырождение важной научной контроверзы в монашескую свару»[14]. Он не хотел отвечать Папеброку одною из тех полемических брошюр, какие были в ходу в его время. Он мечтал о другом: установить и формулировать самые принципы дипломатической критики с такою убедительностью и силой научных доводов, чтобы практические выводы вытекали сами собою. Он работает шесть лет, чтобы только в 1681 г. выпустить грандиозный том — in folio в 600 листов, со множеством рисунков и чертежей, со ссылками на бесчисленные документы[15]. В нем заложено было основание дипломатики, как и хронологии, а также инауки палеографии. Теперь, когда более 200 лет прошло со времени ее появления, и ее тезисы выдержали испытание бесчисленного ряда фактов, все еще можно, хотя с известными ограничениями, повторить то, что писали о Мабильоне бенедиктинцы, его продолжатели: «Система его верна. Кто вздумает пробивать пути, противоположные тем, какие он наметил, обречен заблудиться. Кто захочет строить на иных основаниях, будет строить на песке».
Сила его аргументации импонировала прежде всего мысли самого Папеброка. «В начале чтения книги — должен сознаться (пишет он в письме, немедленно посланном Мабильону) — я испытывал чисто человеческое чувство досады. Но затем наслаждение, какое давала твердая и целесообразная система доказательства, чарующий блеск всюду светящейся истины и восхищение перед множеством дотоле мне неведомых вещей так сильно захватили меня, что я не мог удержаться, чтобы немедленно не сделать участником открытого блага товарища моего, отца Бертия». Мабильон тотчас отозвался на великодушно принесенную повинную: «Я скорее бы хотел быть автором такого смиренного письма, нежели хвастливо кичащимся сочинителем любого трактата. Ты же, благочестивый муж, моли Бога, чтобы мы, стремящиеся быть твоими подражателями в освещении и прославлении деяний святых, заслужили стать твоими товарищами прежде всего в осуществлении закона христианского смирения»[16].
В магистральный труд Мабильона, которому он сам дал титул «Трактата о дипломатике», палеография входит только как часть. Он охватывал исторический памятник полнее и шире его шрифтового определения и предупреждал против опасности оценивать его только этим критерием: «Не из одного письма, и вообще не по одному роду признаков (neque ex uno characterismo) дается оценка (памятнику). Да и не одно письмо характеризует на протяжении одного века определенную область»[17]. Но если палеография была лишь одною из глав капитальной книги Мабильона, она была во всяком случае важной, значительной ее главою.
Мы имели случай отметить, какой бедный материал теории палеографии был налицо до Мабильона. Три имени, из которых каждое в отдельности для каждой национальной культуры употреблялись лишь в ее пределах, соотносительно впечатлению современного, нового письма, исчерпывали ее систему. Мабильон, имевший в распоряжении сравнительный материал, который шел из разнообразных центров, дал этим именам определенное, абсолютное значение, наполнил их содержанием, установил их характеристику и создал законченною классификацию.
Отчасти примыкая к Папеброку, он устанавливал отмеченное нами выше разделение книжного и дипломатического письма scriptura litteratoria и scriptura diplomatica. В первой отмечается и характеризуется scriptura uncialis, которая, однако, для Мабильона тождественна нашей capitalis. Наиболее любопытно установленное им далее разделение групп, которым он дал (отчасти заимствуя их из старого словаря) имена gothica, lancgobardica, franco-gallica seu merovingica, saxonica u romana.
В этом делении, в группировке иллюстрирующих его образцов, в верной методе, на основании этой группировки, датирования и локализации рукописей — огромная заслуга Мабильона.
В тех выражениях, какими он высказывается об их происхождении и взаимоотношении, его большое, доныне не вполне исчерпанное заблуждение.
Мабильон говорит о всех пяти типах письма как о чем-то зародившемся спонтанно, «о чем-то автохтонном, самостоятельном и равноправном, рядом с «римским» письмом, о чем-то, что еще не было названо им «национальными типами», но по всему смыслу его выражений тяготело к этому имени. Это имя — ecritures Rationales, — породившее надолго палеографический мираж, было произнесено учениками Мабильона Dom Tassin et Dom Toustain в расширенном руководстве по дипломатике, так называемом Nouveau traite, которое вышло в 1750—1765 гг. и стало основой ряда пространных и кратких выжимок из труда Мабильона, какими впоследствии долго питалась палеография. Оно оставило ложное впечатление совершенно оригинального палеографического творчества варварских народов, которое будто бы проявилось рядом с доживавшим римским, покрыло и вытеснило его в Италии, расцвело самостоятельно в Испании, Британии и Франции. Впоследстви, Maffei, которого патриотические соображения привели к протесту против этой системы, видит себя вынужденным спорить с положением, будто бы «лангобарды октроировали Италии ее письмо»[18].
Особенность всякого большого и широкого научного завоевания заключается в том, что его ошибки могут быть исправлены из им самим данного материала. Мабильон умело и широко использовал богатый Корбийский фонд, в котором прослеживаются стихии меровингского, островного и специально корбийского письма, в известных отношениях представлявшего подготовку каролингского. Таблицы[19], определения и наблюдения автора дают огромную часть того, на чем можно и в настоящее время основать такую систему палеографии, которая была бы более верной и всеобъемлющей, чем система самого Мабильона, которая углубляла бы его собственную.
Совершенно оригинальным у Мабильона является имя и понятие scripturae merovingicae, так же как и той, которая со временем сумела покрыть и устранить «национальные» типы — scripturae carolinae. Так ввел Мабильон «дорогое имя Карла Великого в историю письма»[20], не преувеличивая вместе с тем роли Алкуина в каролингской реформе, как-то делали до него немецкие филологи. Не можем не отметить по пути, что, так как с тех пор значительная часть Корбийского фонда очутилась в Российской публичной библиотеке и не прошла через проверку новых французских палеографов, таблицы и описания Мабильона явились единственным средством признать их и восстановить их историю.
Мы не считаем нужным длительно останавливаться на нескольких заключительных эпизодах бенедиктинско-иезуитского спора, которые имеют не столько серьезный и насущный, сколько парадоксальный и анекдотический характер. Путей, на которые вступила разработка палеографии после Мабильона, не смогли изменить полемические выступления отцов ордена Иисусова, Ардуэна и Жермона. «Ученейший и парадоксальнейший» pater Harduinus, издатель одной из лучших коллекций соборных деяний и превосходно обработанного текста Плиния, известен был в рефектории Сен-Жерменского аббатства как отличный нумизмат и крайний скептик. В результате пристального изучения легенд на античных и средневековых монетах он пришел к заключению о подлинности исключительно тех рукописных памятников, которые по своим графическим формам аналогичны надписям на монетах[21]. Но так как надписи ранних средневековых монет являются преимущественно в капитальном или унциальном письме, то все, что написано или переписано было в минускуле, тем самым для Ардузна оказалось заподозренным. За исключением Цицерона, старшего Плиния, а также георгик Вергилия и сатир Горация, он объявил всю античную, дошедшую в средневековых списках литературу подделкой XIV—XV вв. В дальнейших его исследованиях ту же участь разделили все греческие писатели, кроме Гомера и Геродота, многие отцы церкви, соборные деяния, все авторы, писавшие по-англосаксонски. Таким образом, теперь фальсификацией объявлялось не одно архивное, но и рукописное наследство, как Средневековья, так и Античности. Ардуэн великодушно обнял его во всей полноте в своем скептицизме. Эти крайности совершенно трезво оценивались большинством его друзей и противников, которые в беседе и переписке с Ардуэном шутливо цитировали славных римских поэтов, объявленных им за подделку средневекового, монаха, не иначе, какpere Horace и dom Virgil. Но из его разрушительных аргументов более определенный вывод сделан был его товарищем по ордену, Бартелеми Жермоном. Он вместе с целой группой своих сателлитов «жермонистов» снова направляет удары на сен-жерменские архивы и на дипломатику Мабильона; удары, которые на фоне создавшейся репутации его огромного труда приняты были публичным мнением Европы как чисто полемические выходки, внушенные орденским соперничеством. Косвенно обезвреженные Мабильоном в его Supplementum[22], они без особенного труда были ликвидированы в работах Dom Coustant и группы его сотрудников. Спор, несколько раз переходивший с материала грамот на материал кодексов, оказался чрезвычайно плодотворным не только для палеографии, но и для критики текста и истории наслоений на средневековой патрологии. Он развернул в большой глубине вопрос о рукописной традиции сочинений бл. Августина и Илария Пуатевинского и тенденциозном искажении их богословского словаря в Средние века.
- [1] Giry. Manuel de diplomatique, p. 59.
- [2] Lugewig. De usu et praestantia diplomatum et diplomaticae artis. Porro de bellisdiplomaticis, cum in Gallia excitatis turn in Italia atque in supremis Germanici imperiitribunalibus, Lipsiae, 1720.
- [3] Traube. Vorlesungen, p. 14.
- [4] Monod G. Du progres des sciences historiques. Revue historique. 1897.
- [5] Capitularia regum francorum.
- [6] Это — расположенное по церковным провинциявг и скомпанованное по подлинным текстам собрание биографий местных епископов и летописей, епархий.
- [7] Об этой странице истории французской эрудиции см. исследования, указанныеу Gh. V. Langlois. Manuel de bibliographic historique, p. 303 sqq.
- [8] Monod G. Цитир. статья.
- [9] А также написании трудов.
- [10] Неопределенная рубрика, куда отходило все, что не укладывалось в предшествовавшие рубрики.
- [11] Broglie De. Mabillion et la congregation de St. Maur. P. 161.
- [12] Qui la plume en main, dans sa chaise, Mettait lui seul en mouvementToscan, francais, beige, allemand, Non par discours mutuels, Mais par lettres continuelles… C’etait le facteur de Parnasse! Or git il, et cette disgrace Fait perdre… mainte curieuse riposte: Mais nul n’y perd tant que la poste.
- [13] Fidem habent ео minorem, quo maiorem prae se ferunt antiquitatem. Папеброк заимствует этот тезис от Marsham из его предисловия к Monasticon Anglicanum. Lond., 1655, т. I.
- [14] Broglie. Mabillon et la congregation de St. Maur.
- [15] De re diplomatica libri sex. P. 1681.
- [16] Malim esse modestissimae epistolae autor, quam cuiusvis operis vanus ostentator. Tu vero, vir piissime, Deum precare, ut qui tui in Actis sanctorum illustrandis imitatores sumus, etiam in consectanHa Christiana humilitate socii esse mereamur. Oeuvres postumes de JeanMabillon. I, 460.
- [17] Non ex sola scriptura, neque ex uno characterismo, sed ex omnibus simul pronuntiandum. Neque enim unus est in uno saeculo unave provincial scripturae genus. Ibid., p. 241.
- [18] См. ниже.
- [19] Мабильон применял к воспроизведению шрифтов способ медной гравюры.
- [20] 159 Traube. Vorlesungen, р. 27.
- [21] Johannis Harduini S. I. presbyteri chronologiae ex nummis antiquis restitutae prolusionde nummis Herodiadum. Paris, 1693; Его же. Prolegomena ad censuram scriptorum veterum. Paris, 1766.
- [22] Mabillonii. Librorum de re diplomatica supplementum, in quo archetypa in his libris proregulis proposita ipsaeque regulae denuo confirmantur etc. Paris, 1704.