Повесть «На куличках» (1913)
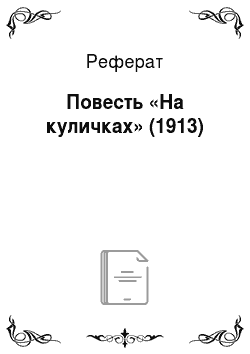
Отвергая теории производственно-технического бытия, Замятин написал свой антиромантический литературно-художественный «конспект», в котором с точностью им самим созданной Скрижали распределил роли, персонажи, главы записей. Дозированы художественные средства. Ориентация автора на полемику с пролеткультовскими утопиями «механизированного коллективизма», хотя Замятин и не замыкается только ими… Читать ещё >
Повесть «На куличках» (1913) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Ведущим началом, лейтмотивом авторских настроений и пафосом всего повествования в повести остается не разоблачение, не сатира, а драматически напряженное сопереживание прекрасным и сильным в страстях героям. Кажется, и вся повесть написана Замятиным для того, чтобы рассказать нам о них, провинциальных людях, но таких мятежных, чистых, с безумным ураганом чувств, выражающихся у каждого по-своему, однако в любом случае с отступлением от общепринятых, обывательских представлений о человеческом долге и привязанностях. Отнюдь не примитивны не только ведущие герои произведения, но и другие служители сторожевого поста: капитан Нечеса, поручики Тихмень и Молочко, денщики Пепротошнов и Гусляйкин… И в глухомани они сохранили человечность, хотя каждый из них по-своему чудак.
Семидесятистраничная повесть «На куличках» имеет романный характер. Значительно раздвинуты пространственно-временные границы: действие происходит на Даньнем Востоке, но герои постоянно обращены к своему «вчера» и к «России», к " западу" - так они именуют европейскую часть страны. Есть любовный треугольник, несколько сюжетных линий, а главное — повесть многонаселенная, в ней даны основные и второстепенные герои; есть такие, кто проходит от начала и до конца сюжета. Особенно впечатляет массовый, совокупный герой. Он представлен чаще всего в сценах офицерских собраний, в частности в одной из самых ярких и драматически напряженных сцен главы «Человечьи кусочки» .
И все же не этими акцентами интересна повесть, хотя они и существенны. Все — сюжет, его динамика, образный строй, авторская оценка, общий пафос произведения — определяется роль трех героев: Николая Петровича Шмита, его жены Маруси и Андрея Иваныча Половца. Они и составляют своеобразный любовный треугольник, хотя и не классического напряженно драматического образца. Именно в них воплощен тип русского характера, о котором не раз писали представители мировой и отечественной философии, которому искали аналогии в своих «крещендо» и «пианиссимо», акварелях и пастелях, гимнах и элегиях музыканты, живописцы и писатели. Вот только один пример, достаточно яркий и убедительный. В работе «Миросозерцание Достоевского» Н. А. Бердяев дает характеристику русского менталитета, его антиномий и болезней. Он описывает русское смирение и русское самомнение, русскую всечеловечность и русскую исключительность, русское отсутствие чувства меры, спокойной уверенности и твердости, без надрыва и истерии.
" Русские равнины, как и русские овраги. — символы русской души… Душа расплывается по бесконечной равнинности, уходит в бесконечные дачи… Она не может жить в границах и формах… душа эта устремлена к конечному и предельному… Это — душа апокалиптическая по своей основной настроенности и устремленности… Она не превращена в крепость, как душа европейского человека… В пей есть склонность к странствованию по бесконечным равнинам русской земли. Недостаток формы, слабость дисциплины ведет к тому, что у русского человека нет настоящего инстинкта самосохранения, он легко истребляет себя, сжигает себя, распыляется в пространстве" .
Подобные самоистребляющие черты подмечены в характерах своих любимых героев Замятиным. Трудно назвать иное произведение этого художника, где с такой силой выразительности были бы переданы реалии национального характера, которые жизнь «на куличках» лишь усугубляла.
Роман «Мы» (1920?)
Замятин считал этот роман наиболее «крупной» своей вещью2. В современной литературе о писателе широко обсуждается вопрос о подлинной дате завершения романа. Чаще всего, опираясь на утверждение самого Замятина, сделанное в 1929 г. в период травли писателя в связи с публикацией романа за рубежом в сокращенном виде («роман „Мы“ написан в 1920 году»), его датируют именно этим годом. Тот же год как время создания романа называет и А. М. Ремизов в известном некрологе 1937 г. Однако в начале 1990;х гг. В. В. Бузник опубликовала хранящуюся в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН автобиографию Замятина, написанную в июле 1923 г., где он пишет: «В 1921;22 гг. написан роман „Мы“ …» А. Ю. Галушкин на основе изучения вопроса приходит к выводу о завершении романа в 19 215. Р. Янгиров опубликовал переписку Замятиных и С. П. Постникова. В одном из писем в мае-июне 1922 г. Замятин писал: «Большую мою вещь, начало которой читал Вам прошлым летом, кончил только теперь…» .
Так или иначе, но в 1921 г. о произведении довольно активно и с выразительными оценками уже говорили, и оценки эти были норой резко противоречивыми. Как покажет время, роман «Мы», стал роковым произведением в творческой судьбе автора. Уже к концу жизни, в 1932 г., в парижском интервью Замятин вспомнит, как однажды па Кавказе ему рассказали персидскую басню о петухе, у которого была дурная привычка петь на час раньше других: хозяин петуха попадал из-за этого в такие неудобные положения, что в конце концов отрубил своему петух)' голову.
" Роман «Мы» , — с горечью заключит писатель, — оказался персидским петухом: этот вопрос и в такой форме поднимать было еще слишком рано, и поэтому после напечатание романа (в переводах на разные языки) советская критика очень даже рубила мне голову" .
Интерес современного читателя к роману велик и закономерен. Сам Замятин в одном из интервью 1932 г. говорил о романе как о «протесте против тупика, в который упирается европейско-американская цивилизация, стирающая, механизирующая человека» .
" Близорукие рецензенты увидели в этой вещи не больше чем политический памфлет. Это, конечно, неверно: этот роман — сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства — все равно какого. Американцы, несколько лет тому назад много писавшие о нью-йоркском издании моего романа, не без основания увидели в этом зеркале и свой фордизм. Очень любопытно, что в своем последнем романе известный английский беллетрист Хаксли развивает почти те же самые идеи и сюжетные положения, которые даны в «Мы». Совпадение, конечно, оказалось случайным, но такое совпадение свидетельствует, что идеи — кругом нас, в том предгрозовом воздухе, которым мы дышим" .
Роман «Мы» вовсе не является случайным или неожиданным в творчестве Замятина: пожалуй, в нем нет ни одного мотива, ни одного образа и характера, ни одного предостережения, которые бы нельзя было «прочитать» в предшествующих произведениях писателя. Да и художественная форма трагикомического и иронического повествования вышла из предшествующей эстетической системы Замятина. Роман во многом стал концентрацией уже состоявшихся художественных открытий, наглядным художественным пособием многих замятинских теоретических построений. Анализ тенденций технического прогресса в соединении с попытками разрешить общечеловеческие загадки бытия, развязать узлы мятущейся, обуреваемой абстрактными страданиями русской души, синтез интернационального и отечественного, — в этом феномен романа, его неповторимый идейно-художественный эффект.
В творчестве самого Замятина проблематика и структура романа, может быть, ярче всего отзовутся (это надо отметить особо, ибо здесь имеет место внутренний резонанс специфического свойства) в «Рассказе о самом главном» (1923) с его немыслимо абсурдным пересечением обособленных миров.
" Мир: куст сирени — вечный, огромный, необъятный. В атом мире… желто-розовый червь Шюра1осега с рогом на хвосте.
Еще мир: зеркало реки, прозрачный — из железа и синего неба — мост, туго выгнувший спину… По ту сторону моста — орловские, советские мужики по эту сторону — неприятель: пестрые келбуйские мужики", решающие свои нелегкие задачи периода продразверстки.
Третий мир — космический: навстречу Земле «из бесконечностей мчится еще невидимая темная звезда», способная в своем ударе о Землю сжечь все дотла.
В таком пересечении эти миры и вошли в миры героев рассказа — Куковерова, Тали и Дорды. Две силы конкурируют между собой: коршун, который «на безруких плечах вправо и влево ворочает головой», высматривая добычу, и Мать, обеспечивающая жизнь и озабоченная тем, чтобы дать людям воздух (влияние гениального блоковского стихотворения «Коршун»). В жизни героев, с их неизвестным завтра, в орнаментальной, рваной прозе рассказа с его пунктирной стилистикой, недоговоренностями, намеками, со всеми этими точками рядом с тире, с рефренами, взятыми будто из «симфоний» А. Белого, побеждает (должно победить!) «самое главное» — стремление к продолжению рода человеческого, а значит, и к продолжению жизни. Опубликованный в первом номере «Русского современника» за 1924 г. «Рассказ…» вызвал реакцию неоднозначную. Однако было всеобщее понимание того, что Замятин намеренно снимает и затушевывает все политические акценты, включает раздумья о современности в какой-то общий, отвлеченный контекст прозы с ее не только намеренно хаотичным распределением идей, но и расположением сюжета во времени и пространстве.
В романс «Мы» создавался литературно-футурологический «конспект» отдаленного человеческого общежития, где вся жизнь воткнута в треугольник «нумера — Единое Государство — Благодетель», где существуют не люди, а их знаки, действуют лица без человеческих имен, где представление о счастье связано с представлениями о равенстве в несвободе. Ориентированный на нового, «планетного» читателя, новую жизненную реальность роман получился фантастическим, утопическим с элементами детектива, занимательности. По определению самого Замятина, создан «социально-утопический роман — по-моему, лучшее из того, что я написал до сих пор», при прочтении трансформирующийся в экспериментальное философско-сатирическое исследование, роман идей.
В романе присутствует иллюзия пространственности, массовости героев, энергии и глубины чувств, эпопейности событий. На деле же в произведении нет ни масс, ни личностей, ни пространства. Все статично. Единично. Поверхностно. В масштабе замятинской иллюзии — размах и иллюзии самой революции, поставившей ребром вопрос не только о статусе государства, по и о статусе гуманизма. Страдающая, сопротивляющаяся душа прозаика творила роман-эмблему, антиутопию «машиноравного» счастья, создавала взамен иную, художественную, утопию универсальной несвободы, где гротеск, сарказм доведены до крайних выражений, где торжествует лишь одна форма разрешения трагизма — ирония. «Смешной», как определил его Замятин, роман — это смех над самым неодолимым противником — жизнью; «смех человека, умеющего смеяться от нестерпимой боли и сквозь нестерпимую боль» (слова Замятина о писателях-неореалистах).
Увлеченный полемикой с современниками, прежде всего с пролеткультовскими утопиями, поглощенный строительством универсальных художественных концепций, созданием в противовес идеи «монофонической вселенной» своей планетарной, вселенской идеи полифонической свободы, Замятин сам, вслед за его героем, построил отвлеченную — как раз в духе пролеткультовцев, утопии которых нещадно отвергал, — модель благополучного сообщества по принципу «плюс нуль + минус нуль» .
И. Л. Бунин в 1919 г. в своих записках «Окаянные дни» зафиксирует: «Шел и думал, вернее чувствовал: если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно — опротивел человек! Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро и внимательно разглядеть сто, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза, — как мало они видели, даже мои!» .
Такого, с восклицательными знаками, как у Бунина, разочарования в человеке у Замятина не было. Наоборот, были сострадание, борьба за освобождение от духовного рабства. Однако и возвышения человека, веры в его возможности прозе Замятина первых послеоктябрьских лет явно не хватало. В пору немыслимого вселенского раскола Замятин чаще всего апеллировал к каким-то абстрактным силам, которые, по его мнению, должны были обеспечить всеобщую земную гармонию, обращался ко всем вместе и ни к кому в отдельности. Такая проза будила мысли о необходимости перемен, порождала всеобщую скорбь о несовершенстве мира, но не готовность его преобразовать.
По рассказу А. С. Мулярчика, на одном из международных симпозиумов проходившем в Ратгеровском университете (штат Нью-Джерси. США), обладатель Нобелевской премии по литературе за 1976 г. Сол Беллоу выразил опасение по поводу наступления «нового варварства*, находящего выражение в подавлении «ультрасовременными технологиями» души и сознания человека. «Показательно, — пишет современный исследователь-американист. — что в поисках противоядия взор американского прозаика вновь обратился в сторону России даже в ее нынешнем угнетенном состоянии…» Правда, участвовавший в той же дискуссии другой Нобелевский лауреат Иосиф Бродский предвидит совершенно обратную перспективу: «Россия превращается в перманентное несчастье… пришла пора ей переместиться на вторые роли». Прозвучавшие в Нью-Джерси слова о России — эхо давних споров о месте ее в мировой истории, об особой мессианской роли страны, которую «аршином общим не измерить» .
Евгений Замятин нечасто осмысливал судьбу России в аспекте мессианских прогнозов. Он знал, что «Россия движется вперед странным, трудным путем, не похожим на движение вперед других стран». Хорошо осознавая российскую специфику, Замятин, как сейсмограф, улавливал прежде всего грядущие общемировые катаклизмы, воплощал свои предвидения в сложные и оригинальные художественные формы. То мировое «новое варварство», о котором говорит Сол Беллоу, Замятин, автор «Островитян», «Ловца человеков», романа «Мы» и целого ряда публицистических статей, предчувствовал более 90 лет назад, и Россию он не делал исключением. Разумеется, социально-философское звучание романа «Мы» шире и значительнее, чем антитехнократическая сатира. Не случайно, среди предшественников Замятина справедливо называют не только деятелей Пролеткульта, футуристов, но и Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина с их обращенностью (особенно у Достоевского) к проблеме свободы человека в его макрои микромирах. И все же именно наступление «нового варварства», выражающегося, по мнению С. Беллоу, в подавлении души и сознания человека ультрасовременными технологиями, главное в пророчествах, предостережениях и в отрицании Замятина.
В книге «Смысл истории» Н. А. Бердяев могущество техники и возникновение механических коллективов, закрепощение человеческой личности ее собственными открытиями рассматривает в аспекте проблемы истощения и конца Ренессанса как явления, ознаменовавшего собой расцвет гуманизма, радость творчества, окрыленность мечты, утверждение человеческой индивидуальности. Порабощение личности человека машиной и общественной средой, растворение ее в огромных человеческих массах философ расценивает как ступень всемирной трагической истории, которая сама есть внутреннее раскрытие Апокалипсиса.
" Мы присутствуем при роковом процессе перерождения личности… Человек есть существо творческое, — отмечает Н. А. Бердяев, — или образ Творца. Но активность, которую требует от человека современная цивилизация, есть, в сущности, отрицание его творческой природы, ибо она есть отрицание самого человека" .
Эти сокрушительные мысли русского философа значительно раньше были художественно оформлены Замятиным. Предпоследняя глава «Запись 39-я» из романа «Мы» — одна из наиболее концептуальных в произведении. Она называется «Конец». Здесь психологическая проза Замятина с ее бесконечным потоком сознания, энергичной сменой цветов и ритма, с движением, в которое приведено всё вокруг: птицы, аэро, два седалищных полушара какой-то женщины, нумеры, губы, небо, карандаш и т. д. — представлена в эффектном художественном выражении. «Вот — головы, раскрытые рты, руки машут ветками. Должно быть, все это орет, каркает, жужжит…» Именно здесь, на «пустой, как выметенной какой-то чумой», улице Д-503 споткнулся «обо что-то нестерпимо мягкое, податливое и все-таки неподвижное», о труп. Именно здесь решает герой свои неразрешимые задачи. В этот, как пишет автор, «апокалипсический час» он узнает, что «вселенная — конечна», «все — конечно, все просто, все — вычислимо». Именно эта глава завершается излюбленными замятинскими двумя тире («—») без точки, без паузы в состоянии героя. Двойное тире в конце главы мы встречаем еще однажды, в «Записи 10-й», после чтения Д-503 любовно-трагического письма О. Здесь, в главе «Конец», еще живут мыслящие, колеблющиеся, сомневающиеся и чувствительные /ноли. Как' только г. последней, 40-й записи, они подвергнутся Великой Операции по удалению души, наступит действие «Газовой Комнаты» и «Стены из высоковольтных волн». Этими картинами человеческого злодеяния и завершается роман.
Отвергая теории производственно-технического бытия, Замятин написал свой антиромантический литературно-художественный «конспект», в котором с точностью им самим созданной Скрижали распределил роли, персонажи, главы записей. Дозированы художественные средства. Ориентация автора на полемику с пролеткультовскими утопиями «механизированного коллективизма», хотя Замятин и не замыкается только ими, все же обеднила содержательный смысл художественного произведения, превратила литературных героев в рупоры идей, какими и полагается быть нумерам. И все-таки автор, мастерски владея орудием иронии, доведя человеческую глупость в создании железного Государства, в сотворении столь же железного Благодетеля до абсурда, сокрушает этот мир нумеров, способных жить только «по прямой», «великой, божественной, точной, мудрой прямой — мудрейшей из линий». И этим сатирическим пафосом отрицания, несогласия роман возвышался в творчестве писателя, сулил ему новые творческие горизонты.
* * *.
Развернувшаяся в конце 1920;х гг. травля писателя в связи с публикацией за рубежом романа «Мы» привела Замятина к решению покинуть СССР. С февраля 1932 г. до конца своих дней Замятин жил в Париже, не меняя советского гражданства. Во Франции он написал целую серию рассказов, очерков, эссе, статей. Особенно интенсивной была деятельность Замятина — пропагандиста русской литературы, русского кино и театра за рубежом. Одна за другой появлялись статьи, очерки, интервью, воспоминания о К. С Станиславском и В. Э. Мейерхольде, Н. А. Островском и М. А. Шолохове, М. М. Пришвине и М. Горьком, об А. Н. Толстом и Б. А. Лавреневе, других деятелях родной культуры. Оторванный от родины, Замятин внимательно следил за жизнью России, посещал все выставки русского искусства, русскую оперу и балет. Свои произведения старался отдавать в «русские руки», эмигрантскую печать принципиально игнорировал. Всем сердцем Замятин был в России, тем более что отношение к нему начинало теплеть. В мае 1934 г., в период начавшегося персонального приема в создавшийся Союз писателей СССР, он заочно был принят в него, а 4 сентября написал К. А. Федину о том, как «наслаждался» чтением стенограммы Первого Всесоюзного съезда советских писателей. В 1935 г. Замятин принимал участие в работе Антифашистского конгресса в защиту культуры в составе советской делегации.
Умер Евгений Иванович Замятин 10 марта 1937 г. Похоронен в предместье Парижа на кладбище в Тийе. Умирал он с чувством боли за Россию и с тем чувством восхищения ею, которое вынашивают в своем сердце, несмотря на жизненные изломы, лишь лучшие сыновья своей земли.