Деформация стилистического баланса
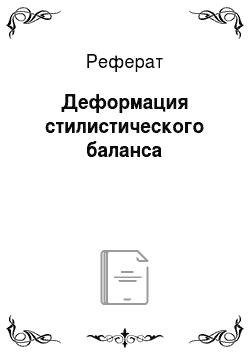
На историко-культурном фоне русской классической традиции речь самого автора намеренно «взбаламучена» стилистически. Ее общая тональность задается уже первыми фразами повести: «В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста… Читать ещё >
Деформация стилистического баланса (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Известно, что газетно-публицистическая сфера общения наиболее тесно связана с политико-социальными преобразованиями. Именно внеязыковая действительность обусловила направление и темпы изменения газетно-публицистического стиля, а также проникновение его практически во все сферы общения. Под лозунгами международной революции и интернациональной солидарности в русский язык после Октября хлынул поток неадаптированной иноязычной лексики и фразеологии, который начал проникать в печать марксистского направления еще с конца XIX в. Новые слова и выражения, — обычно их называют неологизмами советской эпохи, — зачастую воспринимались массовым сознанием не как обозначения понятий, а как условные символы новой жизни с положительным или отрицательным оценочным знаком (гегемон, декрет, комитет, совделегат, фракция, агент, оппортунист, буржуазный и т. д.).
Тенденция к формализации и возрастающей условности языка проявилась в бурном пополнении разного рода аббревиатурных рядов (нарком, гудком, домком, совдеп, комбеды, шкраб, нацмен, ликбез, продналог, совслужащий, жилплощадь, фабзавуч, Коминтерн, ВЧК, ВЦИК, ГПУ, втуз, вуз, спец и т. д.), а также в наплыве стандартизованных словосочетаний, которые легче всего усваивались массовым сознанием — как твердые структуры, не требующие особого осмысления и творческого начала в построении текста.
Источником и образцом неологизации языка выступали официально-деловые документы, постановления и директивы ВЦИК, партийных съездов, конференций, речи и выступления большевистских руководителей, которые определяли не только содержание, но и язык газетно-публицистического стиля прессы, а позднее и радио.
Ученые-языковеды 20-х гг., которые были живыми свидетелями и очевидцами происходящих событий, — А. М. Селищев, С. И. Карцевский, Л. В. Успенский, Е. Д. Поливанов, — отмечали общую эмоциональность «языка революции», сложное переплетение в нем элементов военной речи, канцеляризмов, архаизмов, церковнославянизмов, а также эпитетов величественности, колоссальности[1].
Вовлечение самых широких масс различной сословной, территориальной, национальной принадлежности в политическую жизнь страны вызвало явную деформацию сложившейся стилистической системы литературного языка, традиционно определявшейся содержанием и жанром текста, различными сферами бытования языка.
До настоящего времени языковые процессы этого времени интерпретировались по-разному: возникновение «нового языка революции» и «языка социалистической нации» (академик Н. Я. Марр и его последователи), развитие и обогащение русского языка ускоренными темпами (Е. Д. Поливанов и др.), изменение стилистической системы литературного языка (Н. А. Мещерский), зарождение языковой диглоссии (двуязычия) в тоталитарном государстве. Последняя точка зрения связана с остро негативной оценкой «новояза» (калька с английского слова «newspeak», введенного в романе «1984» Дж. Оруэллом). Максим А. Кронгауз трактует «новояз» как «русский советский язык», употребление которого было характерно для «ритуального общения» — на официальных собраниях, выступлениях, в газетных передовицах и партийной печати. «Это язык, — пишет М. Кронгауз, — достаточно непостоянный по лексическому составу, сильно подверженный моде, задаваемой прежде всего образцами речи Генерального секретаря и других высокопоставленных партийных работников, и все-таки представляющий собой отдельное и самостоятельное образование, грамматика и словарь которого еще не описаны»[2].
Однако идея «диглоссии» советского периода вряд ли правомерна, так как исходит из разъединения сфер общения на русском языке и «русском советском языке». Такого разъединения не было, особенно в первые постреволюционные десятилетия. Именно это обстоятельство заставляет нас оценивать языковую ситуацию 20—30-х гг. как вызванное внеязыковыми причинами искажение сложившейся богатой и выразительной стилистической системы нашего литературного языка в связи с агрессивной экспансией официально-публицистического стиля в традиционно чуждые ему сферы разговорной, художественнобеллетристической и даже научной речи (в сфере гуманитарных наук в первую очередь). Наступательный характер «газетного языка» определялся известной ленинской формулой: «Газета — не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор».
Низкая общая грамотность русского общества 20-х гг. (вспомним при этом, что в эмиграцию выезжала именно русская интеллигенция) способствовала искусственному отрыву настоящего от прошлого, а отсюда и восприятию официозных казенных штампов как символов «культурности», которая в эйфории пропагандистских лозунгов часто отождествлялась с «политической подкованностью». Помпезная революционная фразеология магически воздействовала на обывателя, который тщился выглядеть «культурным» и на уровне момента политически грамотным. В творчестве М. М. Зощенко, особенно тонко чувствовавшего разрыв преемственных связей в стилистической системе русского языка и расшатывание норм словоупотребления в языке эпохи, прекрасно отражена та причудливая смесь просторечия, официознобюрократических выражений и диалектизмов, на которой изъяснялась не только полуграмотная городская масса, но и новая советская интеллигенция. Печать времени несут на себе его мастерски выписанные, колоритные диалоги «товарища мужа» с «товарищем женой», племянника, — «родного кондуктора» и «сукинова сына», — с «товарищем дядей» или же «гражданина управдома» с «членами жилтоварищества» и «посторонним чужим персоналом». В этой обиходно-повседневной речи персонажей М. Зощенко отражены определяющие черты «новояза»: денационализированная обезличенность и смысловая неточность, утрата эстетического начала, выработанного предшествующей традицией не только книжной, но и народной словесной культуры.
Легкость речетворчества по шаблонным образцам газетно-публицистического стиля с их лозунговой экспрессией, высокопарной патетикой и утраченным от многократного употребления конкретным смыслом неоднократно высмеивали И. Ильф и Е. Петров. Вспомним хотя бы универсальное «комплект-пособие» Остапа Бендера, выгодно проданное журналисту Ухудшанскому, чтобы раз и навсегда освободить его от мук творчества и «ожиданий потного вала вдохновения» (роман «Золотой теленок»). В этом «пособии» проницательно предугадана стилистика газетных передовиц не только 30-х годов, но и более позднего времени.
Свое эстетическое преломление находит искусственный «новояз» с его резким нарушением стилевого баланса в замечательной повести Андрея Платонова «Котлован», получившей доступ к русскому читателю лишь в 1988 г., в годы перестройки (журнал «Новый мир»). Исследуя изобразительно-выразительные средства платоновского «Котлована», 3. К. Тарланов раскрывает авторскую установку на язык обезличенный и усредненный, казенно-обобщенный и претенциозный, полностью соответствующий изображаемым «функционерам — социальным роботам»[3]. Так, один из героев повести — активист Козлов, «устремленный к производству руководства», «старался запоминать обрывки всяких формулировок, лозунгов, стихов, заветов, всяких слов мудрости, тезисов различных актов, резолюций, строф песен и прочего», чтобы затем, цитируя, повторяя их, произвести впечатление; таким образом он «пугал и так уже напуганных служащих своей научностью, кругозором и подкованностью». К примеру, спускаясь в своей «светлосерой тройке» с автомобиля, он предостерегающе бросал изнывающим от непосильного труда землекопам: «Не будьте оппортунистами на практике!».
Другой двуличный приспособленец и демагог — Сафронов, который прекрасно умел делать «вежливо-сознательное лицо» и по надобности то «свободомыслящую», то «руководящую», то «убежденную походку». Он знал, что «социализм — это дело научное, и произносил эти слова тоже логично и научно, давая им для прочности два смысла — основной и запасной». Сафронов глубоко презирает «массу», на руководство которой претендует, делая вид, что «живет ради энтузиазма». Характерны его размышления над измученными и голодными людьми, спящими возле костра: «Эх ты, масса, масса… Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо, стерве такой? Ты весь авангард замучила!».
Речь платоновских персонажей, воплощающая в себе вопиющие стилистические сдвиги в языке эпохи, изобилует отвлеченной лексикой и громкими иноязычными словами — лозунгами, которые в изображении автора остаются совершенно чуждыми уму и сердцу людей, их произносящих. Тем самым А. Платонов показывает искусственность их внедрения в массовое сознание — «в вещество народа».
На историко-культурном фоне русской классической традиции речь самого автора намеренно «взбаламучена» стилистически. Ее общая тональность задается уже первыми фразами повести: «В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда». Стилевая и стилистическая разбалансированность авторского повествования — это точно вычисленная им производная изображаемого времени, «когда каждый гражданин был обязан нести данную ему директиву», а припасенный впрок гроб, этот вожделенный «мертвый инвентарь», становился показателем материального благополучия и крестьян «колхоза имени Генеральной Линии», и бесприютных землекопов, видящих в нем «свой красный уголок». Именно такая авторская речь, обезличенно-казенная и несуразная, алогичная и почти оторванная от смысла, становится выдающимся художественным открытием писателя как оптимальная форма изображения бесчеловечности и абсурдности «руководимой котлованной жизни», которая «крушит под корень» и стирает все человеческое в человеке.
Читатель чувствует внутреннюю диалогичность такого «противоестественного» повествовательного языка, в нем заключены как бы разные уровни осмысления и оценки жизни: народное миропонимание, пронизывающее всю повесть, и собственное, горько-, даже скорбноироническое видение мира, диктующее отбор и наложение красок этого чрезвычайно выразительного языка.
Разумеется, образное наполнение «новояза» (под которым мы понимаем стилистически разбалансированный язык постреволюционной эпохи) в литературе социалистического реализма отличалось совсем иным характером. Его психологическое воздействие на массовое ценностное сознание определялось речевыми характеристиками положительных образов — революционных энтузиастов матроса Шванди, Павки Корчагина, Жухрая, Кожуха, Давыдова, Нагульнова и многих других героических персонажей советской литературы.
Характерно, что «экологическая» чистота и незамутненность поэтической речи авторов первой волны русской эмиграции — И. Бунина, А. Куприна, Б. Зайцева, А. Ремизова, Г. Иванова и других чувствуется все больше. В их художественной и мемуарной прозе, в их поэзии с ностальгической тоской, «сквозь слезы памяти» изображалось дореволюционное прошлое России, при этом глубокое знание не только дворянско-интеллигентской, но и крестьянской, мещанско-городской, купеческой речи помогло им сберечь чувство великого русского слова. Лучшим творческим созданиям И. Бунина, А. Куприна, И. Шмелева, В. Набокова, Б. Зайцева, А. Ремизова, Г. Иванова свойственна стилистическая и стилевая гармония — достойная преемница классической ясности и удивительной выразительности русского словесного искусства XX в.
Особенно пагубное и трудно преодолимое воздействие на стилевой и стилистический баланс нашего литературного языка оказали самые живучие элементы «новояза» — многочисленные метафорические выражения, порой целые гнезда их, давно утратившие свой изначальный переносный смысл. Очень часто они рождались в партийногосударственных постановлениях, резолюциях, протоколах в русле очередной спускаемой вниз идеологемы, а затем бурно разрастались и тиражировались в многомиллионных газетных передовицах, статьях, очерках и фельетонах. Сравним, например, стандартные выражения, возникшие на основе идеологемы военного противостояния в сфере внутренней политики: солдат революции, верный соратник, враг народа, бойцы идеологического фронта, главное оружие в борьбе с…, идеологическая диверсия, стоять на страже, одержать победу в…, стать в строй, высоко держать знамя, под знаменем ленинизма, на правом фланге, на трудовом фронте, дезертир с трудового фронта, ударный фронт пятилетки, передовой отряд, на переднем крае борьбы, стратегия и тактика свершений и т. п. Нередко эти трафареты строятся вокруг какого-то одного полюбившегося десемантизированного слова: осветить вопрос, согласовать вопрос, поставить вопрос ребром, поднять вопрос на должную высоту и т. п.
Известно, что именно против таких «административных форм речи», бесцветных и «стерилизованных», не раз выступали в печати наши мастера художественного слова К. Чуковский и А. Твардовский, Ал. Югов и Л. Кассиль, ученые и педагоги Л. В. Щерба, Б. В. Томашевский, Б. Головин, Н. Долинина и другие. С глубокой озабоченностью и беспокойством отмечал К. Чуковский их широкое проникновение не только в бытовые разговоры и дружескую переписку, но и в школьные учебники, критические статьи, даже в диссертации по гуманитарным наукам, правомерно связывая этот «департаментский жаргон» с худосочными, обескровленными мыслями[4].
Стилевые нормы нашего литературного языка, резко нарушенные в постреволюционную эпоху, стабилизировались медленно и постепенно. Восстановлению стилистического баланса, в частности, способствовал выход «Словаря русского языка» С. И. Ожегова (1949), рассчитанного на массового читателя и по сравнению со словарем Ушакова 1934—1940 гг. отбросившего целый ряд советизмов как уже ушедших в пассивный запас языка. Вышедшая в 1954—1960 гг. «Грамматика русского языка» АН СССР также давала стилевую и стилистическую оценку языковым явлениям и широко представила образцы русского литературного языка разных стилевых типов. Закрепление новых, ленинградских норм произношения (об этом вступительная статья Ожегова С. И. к его словарю), упорядочение орфографии и пунктуации («Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 г.) — все это явления одного порядка, в которых нашла отражение не только сознательная языковая политика, но и саморегуляция языка как естественно развивающегося общественного феномена, который стремится к гармонии старого и нового, к равновесию противоположных динамических и статических тенденций.
Стабилизации литературных норм словоупотребления не в меньшей степени способствовал и выход из печати массовыми тиражами собраний сочинений русской классической литературы, а также многих прекрасных переводов ведущих писателей стран Запада и Востока.
Так как литературный язык — это одновременно и форма культуры, и ее орудие, именно укрепление норм литературного языка подготовило почву для нового расцвета индивидуальных авторских стилей, связанных с именами Л. Леонова, Б. Пастернака, К. Паустовского, Вл. Лидина, А. Твардовского, В. Астафьева, В. Шукшина, В. В. Распутина, Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Н. Рубцова и других талантливых художников слова.
- [1] Скворцов Л. И. О языке первых лет Октября: По материалам публикаций20-х годов // Русская речь. 1987. № 5. С. 9—18.
- [2] Максим А. Кронгауз. Новейшая история русского языка: эпоха социализма //Jezykislowianskie wobec w spolczesnych przemian w krajach Europy rodkowej i wschodniej. Opole, 1993. C. 160.
- [3] Тарланов 3. К. «Котлован» А. Платонова: Своеобразие стиля // 3. К. Тарланов Язык.Этнос. Время. Петрозаводск, 1993. С. 201.
- [4] Чуковский К. И. Живой как жизнь. М., 1962. С. 110—154.