Между смыслом и ценностью.
Проблема единства культуры у Романа Ингардена
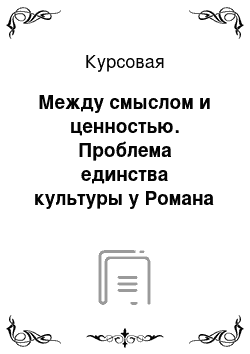
Ингарден говорит о двух мирах, в которых пребывает человек, в широком смысле о природе и культуре (метафора «второй природы»?). Однако заключительные слова цитаты проясняют то, что существует и «третий мир» на уровне гораздо более высоком, чем любой, к которому человек может надеяться получить доступ, и который, тем самым, стимулирует мощные усилия духа. Именно этот «третий мир», сущность или… Читать ещё >
Между смыслом и ценностью. Проблема единства культуры у Романа Ингардена (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Между смыслом и ценностью: проблема единства культуры у Романа Ингардена.
Заметки Ингардена о культуре слишком немногочисленны и поверхностны, чтобы составить теорию, сравнимую с теориями других мыслителей его поколения. Не стоит ожидать, например, что за многочисленными исследованиями произведений искусства у Ингардена стоит метафизика, скажем, «духовного Бытия» в стиле Николая Гартмана. Не вовлечен он и в размышления о судьбе европейской цивилизации в духе Хайдеггера или позднего Гуссерля. Ингарден далек от того, чтобы быть здесь обстоятельным и утонченным. Несколько его работ, посвященных тому, что он называет человеческой реальностью, содержат, по сути, пересказ привычных высказываний обыденного языка: несомненно, что созданная людьми культура отличает их от животных, облагораживает их посредством ценностей, которые они реализуют в этой культуре, и, так сказать, расширяет в историческом времени пределы человеческого сознания. Тем не менее, в работах Ингардена присутствует целостное видение реальности «человеческой реальности», которую он идентифицирует с культурой. Видение это, пронизанное печалью, несет отпечаток мировой скорби (Weltschmerz). «Человек находится на границе двух миров одного, из которого он вышел и который он превзошел огромным усилием духа, и другого, к которому он приближается посредством своих наиболее значительных произведений не будучи действительно „дома“ ни в одном из них. Желая устоять на этой границе, человек постоянно скован узами физико-биологического мира и ограничен природой в отношении своих возможностей. Однако, человек, ощущая то, что эта граница не соответствует его сущности, извлекает из себя самого энергию творческой жизни и организует себя в соответствии с сотворенной реальностью. Именно она открывает перед ним перспективу совершенно новых измерений бытия, но в этом новом, предчувствованном мире он сталкивается с силами, которые ему настолько же чужды, насколько чужд ему и мир, из которого он вышел, и которые действуют в сфере, гораздо более высокой, чем та, которую он сможет когда-либо достичь. Этим и определяется его особая роль в мире и, в то же время, источник его трагической, одинокой борьбы, многочисленных поражений и немногих, редко значительных, побед».
1. Мир «природы» и мир «культуры». Потенциальность «третьего» мира. Понятие «ценности».
Ингарден говорит о двух мирах, в которых пребывает человек, в широком смысле о природе и культуре (метафора «второй природы»?). Однако заключительные слова цитаты проясняют то, что существует и «третий мир» на уровне гораздо более высоком, чем любой, к которому человек может надеяться получить доступ, и который, тем самым, стимулирует мощные усилия духа. Именно этот «третий мир», сущность или самотождественность которого не исследуется подробно в цитируемой работе («Man and His Reality»), рассматривается как причина того, почему человек в конечном счете не имеет «дома». Создав вторую природу культуру он не может вновь стать животным; но, чувствуя присутствие трансцендентного, он не в силах полностью вместить себя в собственные творения. По-видимому, человек у Ингардена обладает, если воспользоваться выражением Гегеля, очень несчастным сознанием. Центральным для понимания Ингарденом существования в культуре является понятие человеческой сущности. Это понятие, постоянно возникающее у Ингардена, обнажает суть всех вещей от обычных материальных объектов и чистого сознания до причинной структуры мира. Поскольку он допускает это многообразие «конститутивной природы» вообще, особая «конститутивная природа» человеческой сущности от него ускользает. Однако, в свете сказанного мною выше может показаться, что человеческая сущность является чем-то оборачивающимся против самой себя, можно сказать, чем-то беспочвенным. Человеческая сущность не суть животная, хотя, как и допускает Ингарден, она имеет своим истоком животный мир и, постольку, зависит от психо-физических аспектов существования, которые люди разделяют с другими живыми существами. Но в силу человеческого стремления к иной реальности, никогда недостижимой в полной мере, стремления, которое, все же, свидетельствует о «духовном» измерении человеческой сущности (ингарденовская версия схоластического понятия врожденности идей?), люди всегда рассматривают свои собственные произведения как не достигшие цели, следовательно, как никогда не выразившие и не воплотившие полностью их сущность. Мы можем сказать, что, таким образом, Ингарден хочет знать, является ли, и если да, то в какой мере эта сущность внутренне гармонично организованной и самодостаточной, раскрывающей свои свойства, укорененные в ее особой конститутивной природе. В другом тексте он высказывает мысль, сознавая, что не следует при этом своим собственным аналитическим требованиям, что «человеческая природа подчинена непрерывной борьбе: преодолению животности, присущей человеку, и возвышению над ней посредством социальности и утверждения роли человека как создателя ценностей». Фразеология чистой потенциальности, борьбы предполагает влияние немецкой традиции, от Фихте через Ницше и Шопенгауэра до витализма, включая многообразие тем, предложенных к обсуждению Шелером в конце жизни. Мы не должны забывать, что, вдохновившись Бергсоном, Ингарден годами пытался решить проблему обладаем ли мы, люди, привилегированной интуицией неоформленного, текущей пульсацией бытия, в которое и мы погружены своим собственным бытием? Однако не следует довольствоваться решением, используя такие легкие сравнения. Помимо понятия человеческой природы, в ингарденовском понимании существования в культуре имеет место и другое центральное понятие понятие ценностей. По сути дела, это понятие определяет нечто среднее между областью культуры, понимаемой как совокупность культурных сущностей, с которыми люди соотносятся мириадами способов, и человеческой сущностью. Однако то, что Ингарден говорит в отношении этого понятия, далеко от полной ясности. В последнем цитированном тексте («Man and Value») Ингарден пишет о роли человека как создателя ценностей. Если бы мы взяли выражение «творчество» в обычном употреблении, то могли бы сделать вывод, что ценности создаются человеком и, как таковые, полностью зависят от людей. Но в других местах Ингарден предпочитает такие выражения как «актуализация» и «реализация» ценностей, говоря не только о том, что люди имеют способность отзываться на ценности также, как они имеют способность видеть и говорить, но и, что они «служат реализации ценностей» в рамках созданной ими реальности. Все эти формы выражений предполагают, что ценности являются лишь разновидностью вещей, мерцанием своим показывающих нам путь в тот таинственный «третий» мир, которого мы, в нашей борьбе, пытаемся, но всегда неудачно, достичь, то есть актуализировать, реализовать в нашей культурной деятельности. И все же, Ингарден предпочитает, скорее, высказаться неопределенно, чем оказаться в области мифотворчества или метафизических сказок. Его окончательная позиция по этому вопросу, в общих чертах, может быть представлена следующим образом: ценности проявляются в реальности, созданной людьми, и эта реальность действительно должна быть создана для того, чтобы ценности могли воплотиться. Однако, «это еще не равносильно утверждению о том, что ценности созданы человеком. Вопрос, чт) о является их источником, и можем ли мы вообще говорить об их сотворенности, является совершенно особым и выходит за пределы проблемы человеческой сущности. Единственной вещью, жизненно важной для человека, является то, что он способен достичь этой сферы бытия, заключающей в себе ценности». Отступление: Открытые вопросы в ингарденовской теории ценностей, и ее значение в системе его размышлений. Пытаясь определить «перспективу исследования», необходимую для теории ценностей, Ингарден, всего за несколько лет до своей смерти, пишет весьма убедительное и, в то же время, предварительное эссе «Что мы не знаем о ценностях» («What we do not know about values»). В этом эссе он приводит свое понимание положения дел и определяет проблемы, которыми, по его мнению, должна заняться истинная теория ценностей. Для начала Ингарден временно принимает отдельные типы, или области, ценностей. Его список включает: а) жизненные ценностиб) культурные ценности, в частности познавательные эстетические, и социальные ценности (обычаи) в) моральные ценности (в узком, точном смысле этого понятия). Относительно данного разнообразия и, в целом, проблемы «Что такое ценность?», Ингарден задается следующими вопросами:
1. На каком основании различаются ценности или типы ценностей?
2. Являются ли, формально, ценности свойствами, отношениями, идеальными качествами, умственными или эмоциональными состояниями и т. д., и как они накопливаются в своих предполагаемых носителях.
3. Как существуют ценности, если они вообще существуют?
4. Могут ли ценности быть определены или иерархически выстроены?
5. Являются ли ценности автономными, или все ценности проявляются в совокупности, основанной на каком-либо качестве объектов, опыта или чего-либо другого?
6. Каков статус так называемой «объективности» ценностей?
Ингарден считает, что эти вопросы естественно возникают при нашей встрече с ценностями: в своих качественных определенностях ценности проявляются как особые и несводимые к определенностям других коррелятов нашего опыта. Тем не менее, было бы преждевременным предположить, что различение типов ценностей, приведенное выше, покоится на адекватном различении качественных особенностей каждого типа. Ингарден категоричен в этом отношении: вообще, даже если мы сможем интуитивно познать данный объект, например ценности,"… то, что достигнуто, не является еще, по одной этой причине, предметно схваченным в своей качественной определенности, и тем самым отличенным от всех других качеств, чтобы быть способным на безошибочную идентификацию. (…) Даже если мы уже достигли этой небывалой интуиции, тот факт, что какое-либо качество, или совокупность качеств, дано в действительности, не является достаточным для того, чтобы дать нам возможность сказать ясно и недвусмысленно, что же это есть в своем собственном качестве." Признание особой природы ценностей повлияло на методологию Ингардена в целом. В ходе своих аналитических исследований по онтологии, касающихся центральных для дискуссии идеализм «реализм категорий, он последовательно воздерживается от материально «онтологического анализа, ссылаясь на их сложность и очевидную связь с эмпирическим, описательным материалом. Вместо этого Ингарден предпринимает экзистенциально» и формально-онтологические исследования различных типов сущностей, определенных согласно способу их существования (реальному, идеальному, собственно интенциональному), поскольку они существуют вообще, что постоянно подчеркивает Ингарден. По отношению же к ценностям Ингарден неожиданно изменяет свою обычную процедуру размышления. Его подчеркивание качественной определенности ценностей, т. е. особенности качественного воплощения ценностей, одержало верх и блокировало исследование формальнои экзистенциально-онтологических вопросов. В действительности, Ингарден был настолько неуверен в отношении природы этого качественного воплощения, что он осуществил не более, чем описательный анализ, с одной стороны, и дал лишь предварительные ответы на поставленные вопросы, с другой. Описательный анализ осуществляется, прежде всего, в многочисленных ингарденовских исследованиях произведений искусства и их восприятия, а также в исследовании об ответственности; теоретическая работа ограничена эссе, цитированном выше, и еще одним эссе, посвященным проблеме относительности ценности. В результате, хотя Ингарден убежден в том, что ценности существуют («…Я вовсе не руководствуюсь представлением, отрицающим существование ценностей»), он допускает, что ему не понятно, как они существуют, как они присущи объектам, которые ими обладают, и почему некоторые ценности например, моральные проявляются как «абсолютные» в своих имманентных качествах, в то время как другие например, жизненные качественно относительны благодаря их очевидным связям с человеческими нуждами, хотя одного этого еще недостаточно для утверждения их «субъективности». Таким образом, вопрос о ценностях сводится в основном, к способу их существования. Следующий текст является примером откровенного замешательства и достаточно хорошо представляет последнее слово Ингардена по этой проблеме. «Ценности не являются реальными ни в том смысле, в котором реален бегущий по проволоке электрический ток, ни в том, в котором реальны человеческий гнев или восхищение; не являются они ни в коей мере и интенциональными коррелятами нашими чувствами, запросами, размышлениями или оценками. Мы должны искать нечто среднее, некий особый modus existentiae, который, с одной стороны, был бы несколько менее реален, чем сама реальность, и, с другой стороны, был бы несколько более реален, чем собственно интенциональность. Однако, если вы спросите меня, что это за промежуточный способ существования, я не смогу вам ответить. Это может быть то, что я должен построить, даже более того, что я пытался сделать в экзистенциальной онтологии; то, что я должен выработать другой modi existentiae, который в точности предоставлял бы эти способы существования ценностям, может быть ценностям разного рода, моральным, с одной стороны, эстетическим и утилитарным, с другой.».
2. Трансцендентальное эго. Продолжение разработок Э. Гуссерля. Источник ценностей.
То, что ингарденовская чувствительность к ценностям повлияла на его философствование в целом, проявилось и в его исследованиях человеческой сущности. В работе «Streit um die Existenz der Welt» Ингарден принял трансцендентальное эго за исходную точку философского анализа ключевых для полемики идеализм-реализм категорий. Таким образом, он воспринял гуссерлианское утверждение о том, что имеют место (по крайней мере) две сферы существования «мир» и чистое сознание, причем в наличии последнего не может быть сомнений, в то время как статус первого является открытым. Нельзя сомневаться в том, что ко времени публикации «Ueber die Verantwortung» (1970 год), у Ингардена имелись серьезные размышления по поводу универсальности трансцендентальной точки отсчета."… при рассмотрении как принятия, так и уже обладания ответственностью нельзя ограничиться чистым Я и чистыми переживаниями. Поскольку деяние (Tat), при [осуществлении] которого деятель не может не быть ответственным, во-первых, должно быть реальной деятельностью в реальном мире; и, во-вторых, оно должно осуществляться, также, реальным человеком с определенным характером. (…) «Я» без каких-либо отличительных черт в том смысле, как понимал его Гуссерль, не опосредованное характером личности, не мотивированное и не определенное им, не смогло бы ни реализовать деяние, ни вынести ответственности." (12) Несколькими страницами раньше Ингарден пишет, что"… всякое «чистое» Я есть только абстракция от индивидуальной сущности человека, и такое Я не может быть по отношению к душе человека и, тем более, к его личности ни бытийно независимым, ни бытийно самостоятельным". Человеческие существа являются / становятся личностями в той мере и настолько, в какой и насколько они действуют в соответствии с ценностями и поэтому обладают или принимают на себя ответственность за реализацию этих ценностей. Эта характеристика человеческих существ, как полагал Ингарден, не может быть адекватно проанализирована в понятиях «онтологических обязательств» трансцендентальной феноменологии. Помогает ли нам это отступление в общую теорию ценностей и выяснение той роли, которую она, по всей видимости, играет в философствовании Ингардена, понять его представление о человеке в культурной реальности? Можно с уверенностью предположить, что выявленные выше сомнения повлияли на то, что Ингарден пишет о «человеческой реальности». Процитированные тексты сходятся на представлении о людях и их культуре (культурах), наиболее характерной чертой которых является их далеко не очевидное внутреннее единство и гармония. Поскольку люди не чувствуют себя «как дома» в мире природы и постоянно стремятся в пределы сферы производимой ими второй природы, их непосредственная «реальность», их, как сказали бы феноменологи, жизненный мир (Lebenswelt) покрыт трещинами. Ингарден постоянно превозносит творческие силы людей; однако, он достаточно последователен и в том, чтобы подрубить золотую ветвь, им же взращенную: наши творения слабые и бледные подобия по сравнению с тем, что мы хотели бы создать в них, и тем материалом, который нам хотелось бы иметь для творчества. Учитывая множество зависимостей, согласно которым только и могут существовать наши творения, можно сделать вывод, что они онтически настолько хрупки, что образуют все вместе не более, чем «квази-реальность». На этом настаивает и сам Ингарден. Действительно, знание об онтической хрупкости является, так сказать, «метафизическим» основанием его знаменитой доктрины о чисто интенциональном существовании, присущем культурным сущностям. «Но творческая сила человека ограничена. Она не способна создать произведений, которые являлись бы автономными в своем существовании и независимыми от нашего сознания. Она слишком слаба, чтобы действительно преобразовать первозданную природу в человеческую реальность. Эта реальность является лишь определенным слоем, созданным посредством творческих интенций человека и, так сказать, накладывающимся на слой реальной природы. (…) Когда духовная сила человека ослабевает или уменьшается, то кажется, что слой человеческой реальности в мире темнеет или исчезает, и тогда перед человеком обнажается истинное лицо первозданной природы в окружающем мире и даже в нем самом; и тогда он чувствует себя покинутым в полном опасностей и чуждом ему мире». В конечном счете человеческая реальность являет собой совокупность первозданной природы, сферы чисто интенциональных образований и ценностей, которые prima facie несводимы ни к природным продуктам, ни к человеческим творениям. Более того, сам человек «причастен» ко всем этим сферам: как психо" физиологическая сущность, он пребывает в сфере природы, как духовный творец в мире культуры, и в своей деятельности, согласующейся с ценностями, он реализует свою способность быть личностью. По-видимому, из всех этих сторон человеческой природы именно «личность», взаимодействуя с ценностями, вбирает в себя духовную энергию, необходимую для мотивации действий, способных преобразовать материалы, в которых ценности подразумеваются быть реализованы. Если такая картина и является возможной, непонятно существует ли вообще и в чем состоит объединяющий фактор всех этих гетерогенных составляющих культурного и личностного существования человека. 2. Читатель, знакомый с главными работами Ингардена, написанными строго и продуманно, может смутиться, видя восторженный, воодушевленный, изредка даже патетический язык цитируемых здесь текстов. Он может спросить: «Как Ингарден пришел к этим выводам, была ли у него какая-то стратегия? Надеялся ли он выделить определенный набор инвариантов, к которому он пришел в результате исследования, скажем, произведений искусства, с тем, чтобы этот набор инвариантов направлял его дальнейшие исследования сложностей сферы культуры?». Иногда Ингарден говорит так, как будто он находится вне культурной сферы и рассуждает о ней «как бы со стороны». Читатель, знакомый с современными теориями культуры, заметит, что, принимая такую позицию, Ингарден никогда не осознает рефлексивный и самореферентный статус своих высказываний о культурных сущностях, а именно, что эти высказывания сами по себе являются исходными примерами сущностей, о которых они говорят. Мне неизвестно ни одного текста, показывающего, что Ингарден рассматривает то обстоятельство, что «объяснение» культуры, каким бы философским оно не стремилось быть, является"… рефлексивным артефактом, который уже и всегда предполагает свои собственные (sui generis) атрибуты". Как далека позиция Ингардена по этим вопросам от современных прагматистских, деконструктивистских, постмодернистских воззрений и т. д., едва ли нужно доказывать. Современные теории культуры определенно исходят из анти-сущностных [anti-essentialist] и анти-базисных [anti-foundationalist] предпосылок. В квази-трансценденталисткой манере, они, кажется, требуют, прежде всего, отчета об «условиях возможности» дискурса о культуре, состоящих в неизбежном включении дискурса в его объект и предположении о том, что ограничения дискурса лежат в нем самом, являются функцией его структуры. Однако, остается возможным задать самому Ингардену вопрос. Так он пишет: «(…) когда… мы становимся создателями или со-создателями (…), наши произведения как при ответном ударе в свою очередь воздействует на нас. В итоге, мы живем в другом мире, и сами мы другие. Не только наши миры исходят от нас, но и в некоторой мере мы сами становимся производными наших произведений… Мы изменяемся и телесно и духовно под воздействием мира наших произведений». Итак, Ингардену может быть задан следующий вопрос: намеревался ли он осуществить процитированное выше описание как феноменологический отчет о структуре Я в пределах культурной сферы, или же он хотел утвердить человеческую сущность в онтологическом плане и, как таковую, независящей от культурной сферы? Те, кто скептически склоняются ко второму утверждению, могут задать и такой вопрос: если культурные сущности, которые мы производим, образуют не более, чем «квази-реальность», почему мы должны продолжать верить в то, что, в наших самоопределениях и оценках, сделанных «под воздействием мира наших произведений», мы определяем нечто иное, более фундаментальное, чем «собственно культурное»? Если «личностная идентичность» конституируется в пределах культурной сферы, не является ли она, используя понятие самого Ингардена, «квази-реальностью»? И если это так, каково основание для веры в то, что собственный опыт, укорененный в культуре, приносит понимание человеческой сущности, преодолевая культурную ситуацию, в которой это понимание зарождается? За подобными вопросами современных теоретиков культуры стоит убеждение в том, что культура является неопределимой, но всепроникающей сферой. Нет «спасения» от культуры; независимо от того, является или нет такое утверждение аргументом в защиту культурного релятивизма, который исходит из сравнительно минимальной характеристики культурной сущности. Эта характеристика состоит в следующем: без интерпретации и оценки субъектов, принадлежащих к культуре, культурная сущность не может быть идентифицирована как таковая среди другого рода сущностей, даже если она разделяет с ними многие качества (например, камень и литературный текст об искусстве могут иметь одинаковый вес). Центр тяжести концепции культурного релятивизма определенно состоит в том, чтобы дать представление об условиях, в которых всякий субъект надлежащим образом проявляет свои умения в интерпретации и оценке. Для того, чтобы дать такое представление, теоретик культуры не видит иной возможности, кроме как полностью заключить субъекта в сферу культуры. Он риторически задает вопрос: «Разве дело не в том, что для постижения культурных сущностей субъект должен интерпретировать и оценивать самого себя в понятиях, согласующихся с ресурсами, которые он привносит в игру в поисках понимания и оценки произведений искусства, институтов, социальных событий и т. п.?» В своей экстремальной версии такая позиция приводит к радикальному «конструкционизму», а именно к выводу о том, что агент культуры является полностью интерпретируемой по своему собственному праву конструкцией; конструкцией виртуальной, не обоснованной онтически, и в целом более примитивной, чем те соглашения, на которых агент культуры основывает свои само-интерпретацию и само-оценку. И текст, и автор исчезают; субъект мертв, но горько оплакивается. Одним из философов, кто осуждает этот радикализм, а также противостоит поддерживаемой Ингарденом разновидности эссенциализма, является Жозеф Марголис. Исследуя внутреннюю связь между субъектами культуры, точнее личностями, и всей остальной культурной сферой, он описал то, что назвал «ограничениями метафизики культуры». Существует, как он пишет,"… неоспоримый симбиоз между понятием личности и понятием феномена культуры. Личности являются первичными агентами, которые пользуются, совершают или инициируют изменения в языке, искусстве, истории и т. п. они являются первичными носителями культуры… Они являются и функционируют как культурные агенты потому, что они носители культурных сил; они обладают необходимыми качествами". Что касается этих качеств, то как иначе можно их определить, кроме как ссылаясь на вещи, с которыми личности взаимодействуют в культурной сфере?"… признание реальности человеческого языка, искусства, политической истории и тому подобного влечет за собой признание соответствующих сущностей для того, чтобы могли существовать первичные агенты, создающие, использующие и воздействующие различным образом на все, что принадлежит к этим объемным категориям". В целом, культурные качества выделяются и определяются в постоянном взаимодействии агентов и вещей. Возьмем, к примеру, приверженца редукционисткой стратегии, доказывающего, что объяснение культурного может быть дано в далеких от культуры, например физикалистких, понятиях. Этот теоретик неизбежно столкнется со следующим возражением: редукционисткое объяснение само должно быть предметом редукционистского подхода, что кажется абсурдным. Действительно, Марголис прав, настаивая на том, что"… редукция личностей… игнорирует следующий факт:…личности являются объектами редукции также, как и субъекты, осуществляющие эту редукцию…". Этот факт иллюстрирует то, что Марголис называет адекватностью, т. е."… концептуальным соответствием между бытием вещи определенного вида, или природы, по отношению к чему эта вещь индивидуализирована как эта конкретная вещь, и бытием вещи, как таковой, способной к обладанию в качестве собственных качеств такими-то и такими-то свойствами". Сказать, в свете этого аргумента, что культурные агенты являются само-интерпретирующимися и само-оценивающимися в понятиях, согласующихся с ресурсами, которые они привносят в игру в поисках понимания и оценки произведений искусства, институтов, социальных явлений и т. п., не равносильно защите радикального конструкционизма. Напротив, этим ограничением мы гарантируем то, что сфера качеств, охватывающая культурные сущности, имеет привилегированное значение и, в этом смысле, первичный носитель, который относится к себе и своим способностям рефлексивно, является культурным агентом. Очевидно, что эти качества принадлежат понятийному пространству дискурса интенциональной деятельности. «В мире культуры, личности являются первичными агентами действительного, интенционального изменения и производства и… поэтому их собственные свойства должны соответствовать собственным свойствам произведений искусства, лингвистических эпизодов, исторических событий и т. п., которые они осуществляют…». 22 Практически нет сомнений в том, что Марголис не принимает ингарденовский проект теории культуры, в которой культурные сущности «служат» ценностям. С его точки зрения, теория Ингардена остается, в конечном счете, неопределенной в отношении «онтических оснований» культуры. Действительно, концепция Ингардена допускает онтическую сложность культурного. Тем не менее, как показывают приведенные выше цитаты, такая сложность обеспечивает контраст между внутри-культурным смыслом культурными сущностями, существующими чисто интенциональным способом и вне-культурной (хотя и не реальной, и не интенциональной) ценностью. Результат таков, что, в понятиях Марголиса, не существует не только соответствия между смыслом и ценностью, но и, по той же самой причине, соответствия между субъектом и сущностями, которые не могут существовать вне субъекта. Другими словами, определение интенциональных объектов как того, в чем люди ингарденовской культурной реальности осуществляют ценности, является обстоятельством, которое, в его (Ингардена) теории, кажется совершенно независимым от того способа, которым интенциональные объекты обретают свои внутренние качества, определяющие их как интенциональные объекты. Действительно, Ингарден отвергал любой довод, согласно которому источник ценностей культурной сущности находится в пределах творческой и / или интерпретационной практики агента. В результате он вынужден был размещать агентов и источники культурных сущностей, реализующих ценности агентов где-то не полностью в и не полностью за пределами культурной сферы. По этой причине культурный агент Ингардена «не соответствует» самому себе. Чт) о означало бы для Ингардена, что люди осознают, что осмысленно и ценно для них самих в их само-созидании как личностей реализовывать ценности в тех сущностях, которые обладают ими и обеспечивают их существование? Другими словами, что мог бы сказать Инграден, по поводу само-присвоения, «интеграции? Согласно гипотезе, если нечто имеет смысл, то оно прнадлежит культуре, то есть выражается и понимается в и благодаря существующим культурным ресурсам. Однако, схожим образом, это является и пониманием ценности, которая есть вне-культурная величина, в соответствии с которой субъект „создает“ себя, чтобы ее же осознать и реализовать. Но не допускаем ли мы тогда два „субъекта“ „субъекта“, который видит мерцающие ценности, и „субъекта“, который является своим собственным произведением ради реализации ценностей, созерцаемых первым субъектом, а также то, что оба субъекта вечно стремятся к единству? Интересно было бы проследить путь от вдохновления метафорой постоянного стремления, само-преодоления человеческой природы, столь привлекательной для Ингардена, к этому разрыву между смыслом и ценностью. Итак, с его точки зрения, существует постоянное стремление к мерцающей и вечно недостижимой сфере ценностей как к идеалу совершенства и единства в бытии. В этом отношении теория культуры Ингардена является определенно платоновской.II.3. До сих пор моя реконструкция ингарденовских заметок по поводу „человеческой реальности“ и человеческой сущности была чрезмерно абстрактной. Сейчас я хочу показать, что разрыв между смыслом и ценностью, рассмотренный выше, пронизывает не только ингарденовское видение культурного; он присутствует и в теории Ингардена о произведениях искусства и деятельности. Тем самым я помогу Ингардену продемонстрировать, как трудно разработать философское представление о человеческой природе, которое смогло бы вместить все измерения человеческой реальности, в особенности культурного бытия. Предлагаемый ниже анализ основывается на следующем размышлении. Произведения искусства, с точки зрения Ингардена, являются (чисто) интенциональными сущностями. Следовательно, действия неообходимы для происхождения и существования произведений искусства. Тем не менее, если разрыв между смыслом и ценностью присущ произведениям искусства как продуктам деятельности, и, таким образом, делает проблематичным их внутреннее единство как носителей гетерогенных свойств, можно предположить, что агентам не удается соединить, соразмерить смысл и ценность в пределах того, что они производят в своих действиях. Другими словами, следуя этой цепи размышлений, проблематичное единство культурных сущностей, наподобие произведений искусства, имеет своим источником агента и передается его действиям. (i) Мое утверждение состоит в том, что ингарденовская теория деятельности образует единое целое с его теорией о произведениях искусства. Формально, обе теории опираются на образ некоторых объектов, которые относятся к категориально различным онтическим слоям, а, соединяясь вместе, образуют производную, эмерджентную сущность, т. е. сущность, несводимую ни к одному из входящих в нее объектов. Для теории, руководствующейся представлением такого образа, важно определить то, на чем основывается это единство эмерджентной сущности и что гарантирует обеспечение сущности этим несводимым качеством (в понятиях Ингардена, „конститутивной природой“). Я считаю, что Ингарден не успел задать фактор, который бы обеспечивал единство произведений искусства и действий. Ингарден не находит способа установить связь между смыслом, который агенты вкладывают в свои действия и произведения, и ценностями, которые ex hypothesi присущи им. В „Ueber die Verantwortung“ Ингарден различает Verhalten, Tat и Handlung. В контексте его рассуждений представляется правильным перевод этих понятий как собственно „поведение“, „осмысленное поведение“ и „деятельность“ в строгом смысле. Последнее используется Ингарденом для обозначения человеческих действий, в которых реализуются ценности. Ценностно нагруженные действия характеризуются им теми же чертами, что и культурные сущности. В целом, по» видимому, различие между поведением и деятельностью в ее последнем смысле представляет собой различие между фундаментальным и эмерджентным, т. е. производным, онтическими слоями. Первый, уровень событий в психофизической сфере, поддерживает существование второго, уровня значений и ценностей. Это определение является прежде всего описательным, использующим концептуальные различения, включенные в наши многочисленные способы сбора и описания того, что агенты производят. Мы редко бываем довольны поведенческими описаниями. Во всяком случае, поведенческого описания как такового недостаточно для установления того, каким образом должна быть построена эмерджентная сущность, чтобы сохранить описательные свойства.
3. Теория действий.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что исследование Ингарденом чисто интенциональных объектов распространяется и на случай таким образом понимаемых действий. Действия, равно как и произведения искусства, например литературные произведения, предстают как материально основанные осмысленные структуры, которые становятся конкретными посредством интерпретации на фоне особых культурных ресурсов. Как и литературное произведение, деятельность требует материального основания, в частности поведенческого события или процесса (зависящего от длительности деятельности); комплекс смысла, благодаря которому деятельность индивидуализируется из собственно поведенческих эпизодов, имеет основание в ментальных событиях. Однако, ментальные события не являются sui generis, они зависят от инициативы, проекций, носителя сознания; конечным основанием деятельности, в котором она зарождается и движется своим курсом, является субъект, привносящий в поведение смысл. Хотя действия имеют своим основанием агента, было бы ошибочным сделать вывод, что они не отличаются от агента в качественном и структурном планах. В данном случае, Ингарден несомненно использовал средство, которое он постоянно применяет для различения осмысленных объектов, подобных произведениям искусства, от ментальных феноменов: осмысленный объект не является ни собственной частью ментальных событий агентов, ни просто идентичным значит описанным в понятиях их свойств поведенческим эпизодом. Таким образом, действия, воспользуясь понятиями Ингардена, трансцендентны своим агентам, что, однако, не делает их менее производными, то есть менее онтически зависимыми, наряду с их зависмостью от других вещей, от агентов. Деятельность имеет агента своим, так сказать, онтическим источником, хотя для обеспечения своего «курса» в мире она и нуждается в дальнейших онтических основаниях. Итак, в соответствии с предположением, что действия, подобно произведениям искусства, являются интенциональными объектами в том смысле, как определил его Ингарден, они (действия), как и последние, с необходимостью подчинены интерпретации. В случае деятельности аналогией литературному тексту является «осмысленное поведение». Текст должен читаться в порядке привнесения слоя представленных объектов и их схематических аспектов в жизнь; mutatis mutandis осмысленное поведение должно быть «прочитано» в рамках (рационального) поведения, включенного, в свою очередь, в более широкий контекст культурных ресурсов, доступных и используемых агентом. Банально утверждение, что не всякое поведение может рассматриваться как осмысленная деятельность; поведение признается осмысленным, если удовлетворяет определенным соглашениям, принадлежащим к запасам общественно доступных ресурсов для деятельности, устойчиво ассоциированных с признанными результатами. Рассмотрим случай с автором литературного произведения: для того, чтобы произвести что-либо читаемое и понимаемое как литературное произведение искусства, писатель должен, хотя бы в минимальной мере, уважать существующие традиции, чтобы создать тексты, которые могут функционировать как литературные произведения искусства. То, что писатель преуспел в создании результата в соответствии со своими намерениями, предполагает, что другие могут засвидетельствовать этот результат как потенциально иллюстрирующий интеллектуальные ресурсы и, следовательно, авторскую компетентность в их применении. Одним словом, базируясь на аналогии чисто интенциональных сущностей наподобие произведений искусства, теория действий Ингардена описывает три различных онтических основания деятельности. Первое, психофизические события (зарождающиеся в агенте); второе, осмысленное поведение, которое, в связи с более фундаментальными поведенческими уровнями, является высшим и управляющим ими уровнем [Я говорю: «Я написал новеллу»; написание является «осмысленным поведением», хотя должно быть уточнено писал ли я новеллу рукой, работал ли за компьютером или диктовал это по частям]; третье, освидетельствование другими того, что считается результатом деятельности на фоне более широкого контекста, в котором этот результат может быть осмыслен. Определение же и описание деятельности совершается в обратном порядке. Контекстуальные соображения помогают определить, может ли и каким образом то, что зарождается в поведении, считаться деятельностью. По крайней мере изначально, то, что агент может иметь в виду или намеревается сделать, прочитывается из социальной сферы, иначе говоря, из допущения того, что агент использовал соответствующие ресурсы в нужном направлении для произведения осмысленных результатов. Как было сказано, моя реконструкция инграденовского анализа деятельности не является завершенной в отношении фундаментального: ей не удается осмыслить убеждение Ингардена в том, что деятельность в строгом смысле в смысле принадлежности к «человеческой реальности», культурному бытию воплощает ценности. Пытаясь осмыслить эту сложность, воспользуемся еще раз аналогией с произведениями искусства. Литературное произведение искусства содействует появлению так называемого эстетического объекта, сущности, для которой набор ценностей является определяющей характеристикой. Слово «содействует» выбрано мною для того, чтобы показать различие между, скажем, способом, которым литературное произведение, как сказано Ингарденом, зависит в своем существовании от какого-либо материального основания и (проективных и интерпретативных) актов сознания, и тем способом, которым эстетический объект зависит от литературного произведения sensu strictu (в строгом смысле), представляя собой воплощенную, схематично осмысленную структуру, открытую для разнообразных конкретизаций. Что касается первой зависимости, Ингарден скорее неопределенен; в его теории не существует понятия для такого рода связи, который представляет собой, например, связь между произведением искусства qua произведением (схематической осмысленной структурой) и его разнообразными основаниями. Можно было бы принять банальное выражение «конституирование» для обозначения связи произведения искусства sensu strictu и их материальных оснований посредством дополнительных актов смысло-образования и интерпретации. Придавая особое значение понятию «конституирование», я отдаю должное направляющему озарению Ингардена о том, что произведение искусства является «интенциональным объектом». Что касается второй зависимости, зависимости эстетического объекта от произведения искусства, проблема в целом неясна. Пока Ингарден говорит об эстетическом поведении, т. е. о нахождении агента в особой структуре сознания в момент включенности в произведение искусства, он настаивает на том, что поведение мотивировано и поддерживается эмоцией, о которой мы имеем опыт, которую мы проживаем благодаря погружению в валентности, присущие произведению искусства. По этой причине, эстетическое поведение точнее описывается как «эстетический ответ», как что-то, что происходит с нами, почти ненамеренно мы охватываемся однажды нашей эмоциональной реакцией на эстетически валентные качества. Если субъект неотступно следует определенной эмоции, то она, как полагает Ингарден, может столкнуться с эстетическим объектом, то есть совокупностью ценностей, которые пронизывают произведения искусства и дают развитие доминирующей эстетической ценности. Здесь тоже Ингарден говорит о конституировании эстетически ориентированный субъект «конституирует» эстетический объект; но смысл здесь скорее в реализации, актуализации потенции субъекта, чем в (чисто) интенциональном наделении качествами какого-либо произвольно выбранного их носителя. Принимая все это в расчет, кажется маловероятным, чтобы Ингарден считал связь между эстетическим объектом и произведением искусства конститутивной связью в выше обозначенном смысле. Другими словами, эта связь не является связью, укорененной в конечном счете в смысло-конституирующих актах артиста и / или смысло-реконституирующих актах человека, воспринимающего произведение искусства. Но мы, конечно, можем пойти дальше этого утверждения: мы знаем, что для Ингардена ни ценности-качества (эстетически валентные качества и артистические качества), ни ценности в собственном смысле слова не являются «субъективными». Можно сказать, что ценности, какими бы они ни были, ни потенциально, ни реально не зависят от сознания и не являются внешними проявлениями эмоций. Проблема остается нерешенной в следующем аспекте: должны ли ценности для того, чтобы воплотиться в произведениях искусства, зависеть от случаев особых состояний сознания или эмоциональных реакций? Допущение этого предоставляет вероятный интенциональный способ существования произведений искусства; однако, оно не может считаться достаточно обоснованным до тех пор, пока мы не будем знать, что ценности те же самые ценности не могут быть воплощены в не-интенциональных объектах. Благодаря предшествующей реконструкции можно заключить, что смысловая структура произведения искусства не определяет совокупность эстетических ценностей (эстетический объект). A fortiori не смысловые проекции артиста, являющиеся одним из источников произведения искусства, определяют, станет ли оно (произведение искусства) и каким образом эстетическим объектом. Следовательно, ни одно из оснований произведения искусства qua произведения искусства индивидуально или в совокупности не является достаточным основанием для эстетического объекта. Произведение искусства как смысловая структура представляется скорее только случайно, чем по существу, связаной с ценностями, которыми его наделяют, если наделяют вообще. Следовательно, и здесь мы сталкиваемся со случаем разрыва между смыслом и ценностью, который обнаружен нами в общей теории культурного бытия у Ингардена. На этом этапе рассуждений нам нужно, скорее всего, обратиться к замечаниям первой части данной статьи по поводу ингарденовского понятия квази-реальности, применяемом к культурным сущностям в человеческом мире. «Произведения духовной, человеческой культуры никогда не находят в материальных вещах такой опоры, которая обеспечила бы им совершенно независимое существование, вне помощи человеческой деятельности и сознания». [О человеческой природе, 23]. Несмотря на некоторые проявления, остается неясным, каким образом в ингарденовской теории произведение искусства, во всех приписанных ему Ингарденом измерениях, имеет внутренне гармоничный способ существования. (iii) Мне думается, что mutatis mutandus инграденовская концепция деятельности встречается со схожими трудностями. Действительно, в силу аналогии с эмерджентным эстетическим объектом, Ингарден не считает, что по сути деятельность должна быть завершена, так сказать, надстройкой ценностей. Он говорит, что действия в строгом смысле имеют место в пределах «Wertsituationen», которые включают в себя действия агента (осмысленное поведение), отвечающие на то, что происходит в мире, в частности реакции на действия других агентов. По этому поводу Ингарден пишет:"… взаимосвязь между возможными ценностями и природой развертывающегося, или осуществленного, действия, равно как и обстоятельствами, внутри которых оно только и может осуществиться". В пределах Wertsituation все ее составляющие, в конечном счете, определяются ценностями, включая, согласно Инградену, убеждения и желания деятеля. Составляющие Wertsituationen обладают тем, что он называет «Wertmaterie», и определяют «Bestimmungszusammenhenge»; например, «ценностная материя результата определяет себя на основании ценностной материи деяния, и, со своей стороны, определяет ценностную материю ценности, наличную у того, кто совершает это деяние». Когда связи между Wertmaterie, представленные «порождающими Seinsbeziehungen» среди ценностей, начинают действовать, то ситуационное окружение может усложняться в той мере, в какой их агент (-ы) становится (-ятся) чувствительными и реагирует (-ют) на такую совокупность ценностей. Если только эти вещи истинны в отношении наших действий в Wertsituationen, мы можем действительно обладать и / или принять на себя ответственность за них (по крайней мере, в случае морально валентных действий). «Если бы не было никаких ценностей или не-ценностей, и не было бы существующей между ними бытийственной и определяющей взаимосвязи, тогда не могло бы быть и никакой подлинной ответственности, как и никакого исполнения установленных ею требований». Важно то, что на этом основании Ингарден отбрасывает три теории, делающие, каждая по-своему, нашу ответственность за то, что мы делаем, в значительной мере зависящей от смысла и значения, которые мы вкладываем в наши действия: теорию «субъективности» ценности, теорию, в которой ценности имеют социальное происхождение, и теорию исторической относительности ценности. Отбрасывая эти теории ради своего доказательства того, что ценности представляют собой онтическое основание нашей ответственности, Ингарден, как представляется, придерживается в свете своего озарения относительно ценностной ситуации в целом той точки зрения, что наделение агента ответственностью может не принимать во внимание смыслы, которыми агенты хотят наделить свои произведения. Можно предположить, что суды являются совершенными примерами своего рода сцен, на которых исполняются подобные драмы о «ценность-идентичности» деятельности. Я реконструировал теорию деятельности Ингардена с тем, чтобы показать, что Ингарден признает три онтических основания деятельности: интенции (смыслы) агента, конфигурации поведения и трехстороннюю интерпретацию, подтверждающую успешное развитие деятельности, оцениваемую с точки зрения осмысленного поведения. Теперь мы видим, из примера исследования Ингарденом морально валентной деятельности, что ни одно из этих оснований не достаточно для обоснования ответственности. Ценности сами по себе (например, моральные ценности) обосновывают ответственность и, таким образом, определяют действия как внутренне «валентные», тем или иным способом зависимые от Wertsituation, в которой они выдвигаются на передний план. Поэтому ясно, что, в той мере, в какой три изначально определенных основания принадлежат к смысловому измерению деятельности и только к нему, эти основания слабо связаны с субъективностью и являются гетерогенными в отношении ценностного измерения деятельности. Более того, действительно важные вещи, которые Ингарден хочет сказать по поводу действий, не те, что характеризуют способ, которым агенты описывают и отдают отчет в том, что они делают, но те, что относятся к ценностям, привносимым (или нет) действиями агентов, и к особого рода ответственности, которую, в силу такой своей роли, эти действия накладывают на агентов. Ингарден настаивает на том, что было бы ошибочным объединять описания агентами того, что они делают, с основаниями, на которых деятельность наделяется ценностями, поскольку «неоправданно отождествлять становление признания, или познание, или, наконец, видимость ценности с ее существованием и с достаточным обоснованием ценности по ее предмету или по совокупности предметов».
Заключение.
Таким образом, представляется ясным, что здесь мы имеем дело с еще одним примером разрыва между смыслом и ценностью, который пронизывает ингарденовское понятие «человеческой реальности» в целом. Мы можем полностью представить аргумент в следующем виде: в обеих теориях Ингардена теориях о произведениях искусства и о деятельности не существует ни один-к-одному соответствия, ни внутренней связи между «Sinnzusammenhang», связывающей различные смысловые аспекты этих сущностей, и «Wertzusammenhang», объединяющей Wertmaterie и Werte, присущих тем же сущностям. Не существует один-к-одному соответствия, поскольку в ингарденовской концепции ценности не являются субъективными, то есть, они не зависят от того, что агенты намереваются сделать или имеют в виду своим поведением или от интерпретаций оценок других. Это обстоятельство отчасти объясняет то, почему в случаях конституирования действий и произведений искусства только связь между смыслом и ценностью является случайной. Другое обстоятельство по крайней мере в случае деятельности состоит в том, что ценности приписываются деятельности в контексте Wertsituation, в которой мотивационный вклад агента является лишь одним из определяющих факторов. Итак, я представил аргументы в пользу того, что истинное в отношении действий, истинно и в отношении произведений искусства, культурных сущностей, которым Ингарден уделяет так много внимания. В первой части была рассмотрена взаимосвязь общей концепции культурного бытия Ингардена с его убеждением в том, что люди, по природе, существуют в разных «мирах», и что, по этой причине, они обладают далеко не «счастливым сознанием». Таким образом, с одной стороны, причина для постоянного разрыва между смыслом и ценностью в культурном бытии лежит в природе человеческого существования; с другой стороны, аргументы Ингардена в пользу такого вывода справедливо основываются на особом статусе, которым он наделяет ценности, и той роли, которую они играют в наших многочисленных способах встреч с нами же в и вне мира.