Место Библии в русской поэзии XVIII века
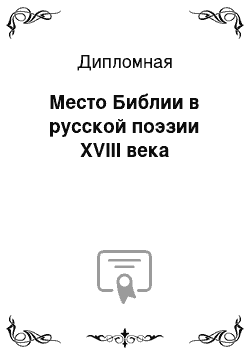
Долгое время в отечественном литературоведении бытовало мнение, что русская литература XVIII века, литература эпохи русского Просвещения, была социальной, гражданственной и сатирической. Первостепенное значение отводилось социально-политической доминанте в творчестве писателей, что мешало объективному анализу их художественного наследия. Обращаясь к переложениям псалмов, исследователи продолжали… Читать ещё >
Место Библии в русской поэзии XVIII века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
1. Место Библии в русской литературе XVIII века
2. Переложения псалмов в русской литературе XVIII века
3. Библейские сюжеты и образы в интерпретации русских писателей XVIII века Заключение Примечания Литература
Долгое время в отечественном литературоведении бытовало мнение, что русская литература XVIII века, литература эпохи русского Просвещения, была социальной, гражданственной и сатирической. Первостепенное значение отводилось социально-политической доминанте в творчестве писателей, что мешало объективному анализу их художественного наследия. Обращаясь к переложениям псалмов, исследователи продолжали акцентировать внимание на их пафосно-гражданском звучании. Этот подход явственно прослеживается в трудах А. В. Западова «Державин», «Ломоносов», «Поэты 18 века», где творческое наследие поэтов ограничивается произведениями патриотическими, сатирическими и гражданственными. Так, например, Державина исследователь считает исключительно поэтом-сатириком: «Современники угадывали конкретные намеки многих стихотворений Державина, как бы приобретавших тем самым характер злободневных фельетонов. Сатирическое дарование Державина, его склонность к поучениям отыскали широкий выход в этих стихах» [1, с. 210]. В естественнонаучных и торжественных одах Ломоносова ученых также находил обличительное начало: «Резко и зло спорит Ломоносов с церковниками, беспощадно высмеивает неразумные обряды, доказывает вредность их с позиций науки. Перо его чертит сатирические рисунки, голос исполнен сарказма и негодования». А такая важная составляющая, как переложение псалмов или духовные оды в творчестве Ломоносова и Сумарокова вообще оставлены без внимания. «Христианские догмы были совсем чужды Ломоносову, — безапелляционно утверждает А. В. Западов, — и вопросы об отношении человека к богу, о назначении земной жизни, о так называемом „спасении души“ его не интересовали и не нашли никакого отклика в произведениях. Не религиозные цели преследовал Ломоносов, занимаясь переложением псалмов, и не для культовых нужд предназначались его стихи» [1, с. 47]. Западов отразил общую для советского литературоведения тенденцию подменять понятия сугубо духовные естественнонаучной терминологией: «Время, пространство и движение персонифицируются и рассматриваются как атрибуты бога, являющегося в данном случае синонимом природы» [1, с. 256].
Подобный подход обнаруживается и у И. З. Сермана. В своих работах «Державин», «Литературная позиция Державина», «Русский классицизм» он подробно исследует связь творчества Державина с произведениями Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского, анализирует традиции Державина, продолженные в русской поэзии XIX в. Но при этом внимание уделяется гражданским мотивам в лирике поэта, но пласт лирики духовной при этом остается совершенно незатронутым.
Тем самым, создавалось впечатление, что русская литература XVIII века — некая отдельная литература, вне духовных традиций древней русской литературы и последующей литературы XIX в. Однако сегодня, когда полным ходом идет процесс переоценки литературных явлений, нельзя не отметить, что литература XVIII века — это звено в единой цепи великой русской литературы, духовно-религиозной по преимуществу.
Большое внимание проблеме «христианство и литература» стало уделяться в начале 90-х гг. Значительный вклад в определение значения религиозно-нравственного мировоззрения в поэтическом творчестве русских стихотворцев, его значимости для светской литературы содержится в работах М. М. Дунаева, Л. Ф. Луцевича, В. А. Котельникова, П. Е. Бухаркина. «В настоящее время, — отмечает М. М. Дунаев, — осмысление русской культуры вне ее отношения к христианству, библейским истокам является неполным». [2, с. 148]. П. Е. Бухаркин, продолжая эту мысль, добавил: «…Изучение словесных памятников религиозной жизни может прояснить как творчество того или другого писателя, духовно-нравственные поиски какой-либо эпохи, так и общие пути русского самосознания» [3, с. 5].
Отражение текстов Псалтыри в русской литературе исследует Л. Ф. Луцевич в своих работах «Псалтырь в литературе» и «Псалтырь в русской поэзии». Исследователь прослеживает влияние Псалтыри на тексты художественных произведений поэзии и прозы XVII—XX вв. как отдельную проблему.
Однако, несмотря на все увеличивающееся количество исследований, проблема взаимоотношения христианства и русской литературы далека от своего разрешения. Особенно много вопросов возникает по поводу места Библии в русской литературе XVIII в. Исторические преобразования, сдвинувшие с места патриархальный уклад России, отразились, в первую очередь, на литературе, которую, по мнению М. М. Бахтина, «…нельзя изучать вне целостного контекста культуры. Литературный процесс есть неотторжимая часть культурного процесса» [4, с. 12].
Таким образом, актуальность исследования продиктована возникшим в последние десятилетия интересом к философско-нравственным и религиозным аспектам в русской литературе, требующим переоценки сложившихся в отечественном литературоведении представлений о художественном процессе как отражении общественно-политической и социальной действительности.
Е.М. Мелетинский в монографии «Поэтика мифа» отмечает, что эпоха Просвещения включала в себя процесс демифологизации: «Просветители XVIII века заняли по отношению к мифологии негативисткую позицию, как к плоду невежества и обмана» [5, с. 13]. В результате этого процесса библейские образы и сюжеты становились своего рода иллюстративным материалом. Однако нельзя не отметить, что религиозно-библейское влияние на русскую литературу XVIII в. более сложно и многообразно.
Научная новизна проблемы рецепции Библии в творчестве русских поэтов-классицистов обусловлена возможностью вскрыть дополнительные аспекты вопроса о национальном своеобразии русской литературы 18 века.
Цель данной работы: исследовать рецепцию Библии в творчестве русских поэтов-классицистов.
Цель определяет следующие задачи:
1. Выяснить место Библии в общественной и литературной жизни XVIII в;
2. Провести сравнительный анализ переложений псалмов Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского и Державина.
3. Изучить интерпретацию библейского текста в творчестве Тредиаковского;
4. Рассмотреть интерпретацию библейского текста в стихотворении А. П. Сумарокова;
5. Рассмотреть интерпретацию библейского текста в стихотворениях Ломоносова;
6. Рассмотреть рецепцию библейского текста в духовных стихотворениях Державина.
7. Определить степень преобразования библейского текста в поэзии Г. Р. Державина, А. П. Сумарокова, М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского.
Цель и задачи определили структуру работы. Она состоит из введения, трех глав и заключения.
В первой главе «Место Библии в русской литературе XVIII века» прослеживается исторически сложившееся значение Библии и Псалтыри для русской литературы вплоть до рассматриваемого периода, раскрывается своеобразие конкретно-исторического момента, анализируется место Библии в эстетической системе классицизма. Во второй главе «Переложения псалмов в русской литературе XVIII века» рассматривается влияние Псатлыри на русскую поэзию эпохи классицизма и выясняется степень преобразования текста. В третьей главе «Библейские сюжеты и образы в интерпретации русских писателей XVIII века» исследуется интерпретация поэтами-классицистами библейских тем, сюжетов и образов. В заключении представлены основные выводы из работы.
Результаты исследования были апробированы на студенческой региональной научно-практической конференции «Студенческая наука-2009».
Общий объем работы составляет 75 страниц. Список использованной литературы составляет 55 источников.
1. Место Библии в русской литературе XVIII века
Известно, что русская литература родилась вместе с письменностью, а письменность пришла на Русь вместе с Книгой Книг — Библией. Исследователи утверждают, что первая полная церковно-славянская Библия появилась только в 1499 году в Новгороде. Она стала самой цитируемой книгой в древнерусской литературе. Но задолго до этого времени существовала обширная литература, наполненная короткими цитатами из Библии.
Библия с годами стала главной книгой русской литературы: по ней ребёнок учился не только грамоте, но и христианским истинам и нормам жизни, началам нравственности.
«Русская культура — „запечатленная“ печатью тысячелетий: крещением в Православии. Этим и утвердилась духовная сущность русского народа, его истории и просвещения, — утвердил И. С. Шмелёв. — <�…> Наша литература — тоже „запечатленная“: она исключительно глубока, „строга“, как, быть может, ни одна из литератур в мире, и целомудренна. Она как бы спаивает-вяжет Землю с Небом. В ней почти всегда — „вопросы“, стремленья „раскрыть тайну“, попытки найти разгадку мировых загадок, поставленных человечеству Неведомым: о Боге, о Бытии, о смысле жизни, о правде и кривде, о Зле-Грехе, о том, что будет там… и есть ли это там?. <…> Русская литература — не любование „красотой“, не развлекание, не услужение забаве, а именно служение, как бы религиозное служение» [6, с. 544, 545, 548].
Таково мнение Шмелева, и не только его, о русской литературе вообще. Но какую же роль играет Библия, православие в литературе и вообще в культуре 18 века? Чтобы ответить на этот вопрос нам необходимо рассмотреть в целом эпоху, определить умонастроения, вспомнить исторические и культурные процессы, происходившие в ней.
В историю мировой культуры XVIII век вошел как эпоха больших идейных и общественно-исторических сдвигов, острейшей борьбы с феодально-монархическими устоями и религиозным догматизмом. Распространение материалистического мировоззрения и утверждение духа свободолюбия нашли яркое отражение в философии, науке, литературе, в просветительской деятельности крупнейших философов, ученых, писателей этого времени — Дидро и Гольбаха, Вольтера и Руссо, Лессинга, Гёте и Шиллера, Ломоносова и Радищева.
XVIII век был веком переломным. Происходило изменение отношения к человеческой личности. На рубеже 17−18 вв. произошла смена культурных ориентиров и источников влияния. Так, главным культурным ориентиром становится западная Европа. Процесс европеизации начался с середины XVII в., причем ключевым событием были культурные реформы. В XVII в. же в Москву приехали киевские старцы — первые русские западники, осуществившие реформу книг, благодаря ним в России появилось стихотворство и драматургия. В середине XVII в. по польскому приказу в Москве начались переводы европейских романов. Европеизация началась с освоения польской, французской, немецкой литературы.
Процесс освоения западноевропейской культуры был назван трансплантацией (Лихачев). «Освоение западной культуры проходило более болезненно, чем византийской. Русская культура забыла период ученичества. Большая часть XVIII в. ушла на ученичество» [7, с. 99]. Сначала трансплантация происходила равномерно и целенаправленно, однако в Петровскую эпоху трансплантация — стихийна, поэтому культура начала XVIII в. несколько хаотична. Византийская культура не хотела сдавать свои позиции. Древняя русская литература не умерла вместе с древней Русью, хотя ее читателями оказались в основном низы. Произошла секуляризация русской культуры, что отразилось и в смене жанровых систем. Пришли стихотворные сатиры, оды, драм жанры, комедии, трагедии, элегии, идиллии. То есть, в XVIII в. господствуют поэтические и драматические жанры. Изменяется также представление о самом характере творчества об отношении автора к литературному труду: происходит индивидуализация авторского сознания. Постепенно происходит профессионализация писателей, появляется массовая литература, русская литература ускоренно развивается: то, что пережила европейская литература 250 лет, русская литература прошла за 100 лет.
С другой стороны, в России XVIII век — время очень противоречивое. «Жестокая петровская реформа ломала старые традиции, сокрушала устоявшиеся формы искусства, литературы, ломала социальные структуры» [8, с. 14]. По верному наблюдению И. И. Виноградова, Пётр сознательно стремился к тому, чтобы оборвать все связи со старой Россией. Но «старая Россия» это, прежде всего, — Святая Русь, то есть превознесение в сознании народа идеала святости над всеми жизненными ценностями. С этим понятием русская идея была связана искони, и стоит за ним нечто более значительное, нежели идея национальная, географическая или этническая. «Святая Русь, — отметил С. С. Аверинцев, — категория едва ли не космическая. <�…> Было бы нестерпимо плоским понять это как выражение племенной мании величия; в том-то и дело, что ни о чем племенном здесь речи, по существу, нет. У Святой Руси нет локальных признаков. У неё только два признака: первый — быть в некотором смысле всем миром, вмещающим даже рай, второй — быть миром под знаком истинной веры» [9, с. 39−41]. В петровское время разорванное сознание «просвещённой» верхушки общества начало всё отчетливее разделять Бога и Церковь. «Если Богу кто-то ещё воздавал хвалу и славу, то в Церкви видели почти исключительно силу косную, противящуюся прогрессу и всем новым веяниям времени» [2, с. 20].
Петровская эпоха по самой сути происходящего в культурной жизни нации и страны соотносится с европейским Ренессансом. А Ренессанс (будь то европейский или российский) связан с окончательной секуляризацией культуры.
Это время было сопряжено было с окончательным утверждением так называемого научного типа мышления, мировоззрения. Своеобразие исторического развития России проявилось и в том, что, не успев вступить в новую для себя эпоху, она тут же испытывает мощное воздействие просветительских идей, тогда как в Европе их развитие стало закономерным итогом процесса весьма длительного. «Вся эта вынужденная и навязанная спешка привела к некоторой суетности, смешению понятий, когда одновременно вынуждены были утверждать себя жизненные начала и более архаичные, и ещё только зарождающиеся. Причины начали смешиваться со следствиями, и всё усугублялось развивавшимся в части образованного общества своего рода комплексом неполноценности, раболепием перед Западом, поскольку многим русским начинало казаться, будто Россия слишком отстала от Европы и вечно вынуждена догонять её» [10, с. 29].
«Что вообще есть Просвещение? Это не свойственное прежде русской культуре понимание истины, — пишет Дунаев. — Это признание за позитивистской наукой способности дать конечное толкование мироздания. Это обожествление и признание всесильности человеческого разума. Это идеологическое обоснование революционного Преображения мира» [2, с. 79].
Точно и кратко смысл Просвещения выражен в рационалистической «Энциклопедии символов», вышедшей на исходе XX столетия в Германии (и без задержки переведённой на русский язык): «В век Просвещения малопонятный бог был спущен с небес. В XVIII веке было провозглашено: бог там, где разум и человеческие силы, а не на небе» [11, с. 179].
В литературе к этому был предназначен особый творческий метод отображения действительности, именуемый классицизмом Классицизм возник в Европе, во Франции XVII столетия, в эпоху становления и расцвета абсолютной монархии — что естественно, закономерно. Классицизмом этот метод назван из-за его внешней ориентированности на классическое искусство Античного мира: не только основные принципы аристотелевской поэтики, но и темы, сюжеты писатели классицизма обильно заимствовали у античной литературы, хотя и не ограничивались одними заимствованиями. Крупнейшим теоретиком классицизма был поэт Буало, среди наиболее значительных фигур выделяются в классицизме драматурги Корнель, Расин, Мольер. Нельзя обойти и просветительский классицизм XVIII века, отмеченный прежде всего теоретической и художественной деятельностью немецкого драматурга Лессинга. В России мы можем указать из значительнейших — имена Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского, Державина, Фонвизина.
«Читателю постсоветского периода проще всего понять классицизм, если он вспомнит особенности социалистического реализма, поскольку два этих творческих метода на удивление сходны между собою: прежде всего оба откровенно идеологичны и поэтику свою строят на основе вполне отчётливой схемы, определённой особенностями идеологии, в их основу положенной» [2, с. 83].
В классицизме всё подчинено, как уже говорилось, идеям (царственности, прославлению государства, прежде всего монарха (как главного носителя идеи — в соцреализме он заменен партией), воспеванию славы государства, жертвенных подвигов во имя государства. Ломоносов писал об этом без обиняков в стихотворении «Разговор с Анакреоном»):
Хоть нежности сердечной И любви я не лишен, Героев славой вечной Я больше восхищен [12, с. 3].
Любовь к государству, «чистейшая страсть», никакими корыстными помыслами не замутнённая, ставилась в классицизме выше всего, главное — выше индивидуальных интересов, личных привязанностей, частных эмоций.
Понятие государства подменило собою понятия родины и отечества, ценности духовные. С. Булгаков так раскрыл смысл любви человека к родине, связи с родиной: «Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с материю-землёй и со всем Божиим творением. Человек существует в человечестве и в природе. И образ его существования дается в его рождении и родине» [13, с. 204].
Главенство долга перед государством над всеми прочими стремлениями и чувствами — утверждавшееся классицизмом последовательно и безусловно — апеллировало прежде всего к разуму человека, и это как нельзя полнее совпадало с просветительским рационализмом. Рассудок признаётся главным средством самосовершенствования человека, общества. К нему обращается прежде всего писатель-классицист. Отсюда вытекает и дидактизм любого классицистического произведения, наличие в нем любых поучений, рассуждений и т. п.
Персонажи классицистического произведения всегда являются выразителями одной отвлечённой идеи, в их характере всегда можно отметить односторонность, схематизм, отсутствие развития, что так контрастно отличает их от реалистических созданий. Справедливо сопоставление, сделанное Пушкиным: «У Мольера Скупой скуп — и только, у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля, лицемеря, принимает имение под сохранение, лицемеря» [14, с. 91].
Классицизм создает иерархию языкового материала, воплощённую в известной теории «трех штилей». Высокий, средний и низкий штили обязаны соответствовать уровню темы и предмета изображения.
Кроме того, необходимо заметить, что «ломка старых традиций сопровождалась острым церковно-религиозным кризисом, жестокими преследованиями старообрядцев, значительным усилением скептицизма, материалистических тенденций, различного рода хаотически-анархической мистики» [15, с. 21]. Противоречивое время, но если бы не было этого времени, то не было бы всей замечательной культуры XIX и XX веков в России.
Какую же роль в литературе этого сложного периода играла Библия? Как уже было сказано, в XVIII веке на Западе отношение к ней у многих писателей стало негативным. Если в ХVI-ХVII веках были такие поэты как Мильтон, Гроций, Вондел и другие, то XVIII век — это век скептиков или же создателей новой мифологии типа Жан Жака Руссо, мифа о том, что все было прекрасно до тех пор, пока не пришла техническая цивилизация, или что человечество неукоснительно и обязательно идет вперед, к прогрессу.
Однако для русской мысли и для русской литературы все это было не так просто. Произошло столкновение, произошла встреча многовековой исконной веры и новой науки, которая пришла в Россию, условно говоря, вместе с Ломоносовым и его окружением.
Кроме того, возникли новые социальные воззрения: если в прежние времена сословное деление было жестким, исконным (в высшем сословии можно было только родиться), то с петровского времени, когда появились многочисленные парвеню, люди, вышедшие из низов (к примеру, Меншиков и др), когда появляется новое дворянство, не имевшее знатных предков, все меняется. Одним из первых на это реагирует поэт Антиох Кантемир.
Антиох Кантемир был большим знатоком Библии. Вместе со своим учителем И. Ильинским он составил первую в России симфонию к части Библии (симфония, или конкорданция, — словарь, по которому можно найти в Библии любое слово).
Кроме того, Кантемир опирался на библейское учение о человеке в развенчании сословного чванства. Для него это чванство было совершенно неоправданным, потому что Библия учит, что человеческий род един. Вот слова Кантемира:
Адам дворян не родил, но одно с двух чадо
Его сад копал, другой пас блеюще стадо;
Ной в ковчеге с собой спас все себе равных
Простых земледетелей, нравами лишь славных;
От них мы все сплошь пошли, один поранее
Оставя дудку, соху, другой — попозднее
[16, с. 88].
То есть здесь отрицается роковое значение происхождения: все люди происходят от Адама, а потом — от Ноя.
«Само Священное Писание стало откровенно осмысляться в ту эпоху на уровне античных мифов, что отразилось в искусстве, — и тем было задано направление в осмыслении вероучительных истин христианства» [15, с. 22].
Бог начал осмысляться (повторимся вновь) в чисто человеческих категориях.
«Просветительский, свободомыслящий разум есть разум нездоровый, оторванный от целостной жизни, от духовного преемства, и поэтому для него закрыты горизонты бытия. Этот разум никогда не был в состоянии понять тайны истории, тайны религиозной жизни народов, и он исказил науку XIX и XX веков», — утверждал Бердяев [17, с. 433].
Можно сказать, что при Екатерине II «любая культурная деятельность, в том числе поэтическая, являлась прямым участием в созидании государства» [18, с. 145]. Поэзия «концентрировала в себе почти всё содержание духовной жизни нации» [19, с. 15]. Поэты того периода обретали нравственную основу в Библии. Избрав для поэтических переложений текст Псалтири, они стремились выразить в духовных песнях индивидуальное созерцательное начало. «Ведь переложения псалмов, — пишет Л. Ф. Луцевич, — гораздо более „личны“, более „индивидуальны“ по своему содержанию, по тематике и эмоциональному строю, чем оды торжественные. В переложениях псалмов беседа с Богом легко превращается в жалобу на врагов, на свои несчастья, бедствия и неприятности. В переложениях псалмов вполне уместно развитие любой темы — от самой отвлеченно-философской до глубоко личной, частной» [13, с. 59].
При всех переворотах в сознании, которые произошли, при всей переориентировке на западное мировоззрение, литературно-общественное сознание второй половины XVIII века все же было сильно традиционной православной духовностью. В это время русская литература еще «пользовалась одним с Церковью языком, не уходила далеко от церковных стен» [2, с. 27]. Это позволяло светской культуре в целом питаться и наполняться «духовным огнем и глубоким христианским чувством, явно выделяющими отечественную словесность среди европейских секуляризованных литератур нового времени» [20, с. 23]. У многих писателей возникает духовная потребность в выражении своих чувств именно в формах, близких к молитвам и псалмам. «Обращение, например, Г. Р. Державина и А. Т. Болотова к форме „литературной молитвы“ указывает на „запасы“ духовной тоски дворян той эпохи (последней четверти XVIII века) по Богу, по молитве. Но при всем том они поют свои „псалмы“ точно не от себя лично, а от лица многих. Их духовная поэзия явно следует традиции ветхозаветных псалмопевцев. Но „псалмы“ литераторов лишь тоска по псалмам, по настоящему славословию Богу — по молитве. Они плачут о своем сословии молитвою человека, отпадшего от близкого богообщения. Их стихи „общественны“. Они наполнены позывом пробудиться и вознести песнь к Богу. Державин горел в своих духовных стихах молитвенным восхищением делами Божьими, именем Божьим, величием, премудростью Его. <�…> И Г. Р. Державин, и А. Т. Болотов занимали близкую позицию в своих духовных стихах. Главною темою их являлся все же не покаянный тон, а хвалебный, благодарственный Богу — Творцу. Через это их христианский голос был обращен к современникам. И первое, к чему они звали, — очнуться от земного, перестать воздавать хвалу не Творцу, а твари, не вечно живому, а тленному» [21, с. 186]. Такая духовная позиция писателей и их эстетическая ориентация в своем творчестве на образцы текстов Священного Писания органично вписывалась в общий православный контекст эпохи.
Однако поэты не ограничивались переложениями Псалтири, обращаясь и к иным библейским текстам, причем, избирая не только путь интерпретации, а излагая свои собственные мысли, чувства, свое мнение. Библейские образы встречаются, например, в торжественных образах Ломоносова и Сумарокова, в стихотворениях Тредиаковского. Несомненными достижениями в этой области являются оды «Бог» и «Христос» Г. Р. Державина.
2. Переложения псалмов в русской литературе XVIII века
Псалтырь занимала главенствующее положение в православном богослужении, была основным пособием при обучении грамоте. Специфика Псалтыри в том, что она является собранием молитв, обращений к Богу верующего человека, не находящего в миру успокоения. На протяжении не менее двух столетий это была самая популярная в русской поэзии книга Ветхого Завета. В неослабевавшем пристрастии к песнопениям Давида осуществлялась связь новой русской поэзии с ее силлабическим прологом, с XVII веком, с духовными песнопениями, стихами-молитвами и первыми переложениями псалмов [20, с. 7].
Оказавшись у истоков формирования новой русской литературы, поэты избрали стиль Псалтыри образцом одического жанра. Подтверждением этому служит «поэтический турнир» Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, и то, что практически все поэты XVIII века ставили переложения псалмов первыми в своих собраниях сочинений. Закладывая основы дидактической поэзии на русской почве, Сумароков, Херасков и др. черпали вдохновение в строках Священного Писания.
Стараясь приблизиться не только к смысловой, но и к поэтической стороне псалмов, переводчики экспериментировали с текстом. «Добиваясь гармоничного сочетания, единства смысла формы, поэтам XVIII века приходилось учитывать особенности построения Псалтыри, поэтическая форма которой основывается на метрической организации стиха» [22, с. 13−14].
Обращение к Псалтыри как к источнику поэтического вдохновения не случайно. Обычай перелагать Святые книги идет из Испании с IV века. Псалмы, написанные на еврейском языке стихами, побудили в XVII веке к первому русскому поэтическому переводу псалмов Симеона Полоцкого. «Литературная форма Псалтыри также находится в русле общего развития ближневосточной лирики (Например, псалом 104-ый близок к египетским гимнам солнцу эпохи Эхнатона), но выделяется своим резко личностным характером; бог из объективной силы становится, прежде всего, соучастником человеческих излияний» [10, с. 63].
Перелагатели выступали в нескольких ипостасях «Это и поэт прославляющий творца, и, главное, человек определенной биографии, судьбы, нравственного эмоционально-волевого склада, в котором выделены мужество, стойкость, верность своему призванию», — пишет В. А. Котельников [23, с. 33]. Размышляя о мироздании, нравственном законе, человеческой сущности, поэт постоянно соотносит общепризнанные взгляды со своими собственными, и это приводит к проявлению в тексте собственно автора, что явно прослеживается в духовной лирике XVIII века. Переход от биографической личности поэта к воплощению лирического переживания не всегда возможен. В XVIII веке чувства автора, как правило, синтезировались, духовно обогащались и переходили в разряд общечеловеческих качеств.
Степень подобия образа автора и лирического героя обуславливается
близостью психологического портрета, биографии, взглядов на жизнь, но при этом «восприятие лирического героя требует учета его эстетической „разыгранности“ — его неразделенности с автором и неслиянности, несовпадения с ним», — замечает Бройтман [24, с. 143].
Ярким примером подобного творчества являются переложения псалмов Ломоносова. Вообще же среди всех доступных Ломоносову сфер культурной деятельности поэзия его занимает особое, исключительное место. К. С. Аксаков в середине прошлого века отмечал: «Ломоносов был автор, лицо индивидуальное, первый, восставший как лицо из мира национальных песен, в общем национальном характере поглощавших индивидуума; он был освободившийся индивидуум в поэтическом мире, с него началась новая полная сфера поэзии, собственно так называемая литература» [25, с. 62].
Ломоносов стремился «поставить стиль в зависимости от содержания, язык — от темы», с этим требованием был полностью согласен и Сумароков [26, с. 340]. Поэтому в своих духовных одах, где высокое, духовное содержание Псалтыри доминирует, Ломоносов использует средства «высокого штиля». «Такая сознательная попытка продемонстрировать собственное стилистическое оформление переложений псалмов при характеристике их лингвистического материала позволяет выделить, с одной стороны, нормативные языковые средства церковнославянского языка, а с другой — архаичные явления для норм церковнославянского языка эпохи XVIII века, которые встречаются в текстах Ломоносова и характеризуют высокий слог его переложений» [27, с. 169]. При этом ориентация на церковнославянский язык вполне понятна, так как именно он, как уже указывалось, определяет границы «высокого штиля» ко времени ломоносовской реформы «штилей».
Заслуга поэта и состоит в том, что он сумел сохранить в своих переложениях дух библейских заповедей и «высокий слог» Псалтыри. Вместе с тем, ломоносовские переложения — «не точный перевод славянского текста, а его поэтическое переосмысление, отдельные места, которые он передает по-своему, развёртывая и как бы поясняя сказанное в оригинале, кое-что добавляя от себя» [28, с. 70]. После удачного дебюта в состязании переложения псалма № 143 в 1743 году (об этом будет рассказано ниже), вплоть до 1751 года (т.е. всю I половину XVIII века), Ломоносов часто обращался к Псалтыри. Однако полностью переложить Псалтырь он не рискнул, ему удалось закончить только 8 переложений:
1743 г. — переложение 143, 145 псалмов
1747 г. — переложение 14 псалма
1748 — 49 гг. — переложение 103 псалма
1749 — 51 гг. — переложение 1, 26, 34, 70 псалмов.
Позднее на особое достоинство ломоносовских переложений обратил внимание А. С. Пушкин, отметивший, что «сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг — суть его лучшие произведения» [29, с. 110].
В сравнении с похвальными, духовные оды Ломоносова отличаются краткостью и простотой изложения. Язык духовных од лаконичен и лишен всякого рода «украшений».
Некоторые из духовных од Ломоносова стали «кантами», т. е. народными песнями, и пользовались популярностью не только в XVIII, но и в XIX в. Особенно был известен 145-й псалом, начинавшийся словами «Никто не уповай вовеки // На тщетну власть князей земных» [12, с 127].
В духовных одах — стихотворных переложениях Библии — Ломоносова наиболее отчетливо прослеживаются две темы: восхищение гармонией, красотой мироздания и гневное обличение гонителей, недоброжелателей поэта. В «Переложении псалма 103» мы читаем:
Да хвалит дух мой и язык
Всесильного творца державу,
Великолепие и славу,
О боже мой, коль ты велик!
Одеян чудной красотой,
Зарей божественного света,
Ты звезды распростер без счета
Шатру подобно пред собой
[12, с 108].
Биографична вторая тема, представленная в переложении 26-го псалма. В нём поэт жалуется на свое раннее сиротство и одиночество: «Меня оставил мой отец // И мать еще в младенстве». Затем он обращается к Богу с просьбой защитить его от врагов:
Меня в сей жизни не отдай
Душам людей безбожных,
Твоей десницей покрывай
От клеветаний ложных
[12, с 93].
Здесь необходимо отметить, что среди парафразов Ломоносова есть как переложения, которые, по сути, не являются вольными, т. е., поэт просто интерпретирует текст Псалтыри в стихотворную форму. Это, например, переложение того же 26 псалма, которое хотя в какой-то мере созвучно судьбе поэта, тем не менее точно соответствует по смыслу библейскому тексту:
Господь, спаситель мне и свет:
Кого я убоюся?
Господь сам жизнь мою блюдет:
Кого я устрашуся?
Во злобе плоть мою пожрать Противны устремились;
Но злой совет хотя начать, Упадши, сокрушились
[12, с. 93].
В оригинале: «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого я убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? Внегда приближатися на мя злобующым, еже снести плоти моя, оскорбляющии мя, и врази мои, тии изнемогоша и падоша» [30, с. 53].
Или:
Хоть полк против меня восстань, Но я не ужасаюсь.
Пускай враги воздвигнут брань;
На бога полагаюсь
[12, с. 93].
В оригинале: «Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на Него аз уповаю» [30, с. 53].
Даже при самом неглубоком анализе подобных переложений можно с уверенностью сказать, что автор старается здесь четко придерживаться сходства с образцом. Подобным примером также может служить переложение псалма 1, которое начинается так:
Блажен, кто к злым в совет не ходит, Не хочет грешным в след ступать, И с тем, кто в пагубу приводит В едином месте заседать.
Но мысль и волю подвергает Закону Божию во всем, И точно оный соблюдает Во всем течении своем
[31, с. 16].
Для сравнения, начало псалма звучит так: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и нощь» [30, с. 13]. Разница между фразой «поучится день и нощь» и практически синонимичными ей строками, кажется, разумеется, несущественной.
Требуется, однако, заметить, что в начальной редакции первая строфа переложения псалма 1 читалась так:
Блажен, кто к злым в совет не ходит, Не хочет грешным в след ступать И с тем, кто в пагубу приводит, В суде едином заседать
[31, с. 16].
Существование этого варианта показывает, как близко соотносил Ломоносов переложения псалмов с окружавшей его обстановкой. Известно, что комната секретаря Канцелярии Академии наук Шумахера называлась «судейской». «В суде едином заседать» с тем, кто тебя «приводит в пагубу», преследует и теснит, — с Шумахером Ломоносов отказывался. Намек был настолько ясен, что в печатном тексте его пришлось заменить и поставить: «В едином месте заседать». Но и эта строка передавала внутреннюю боль Ломоносова, вынужденного иной раз крепиться и молчать в «совете злых», где председательствовал и ждал от него «согласных мыслей» Шумахер.
Среди переложений псалмов Ломоносова несколько особняком по своему мажорному тону стоит псалом 14-й, кстати сказать, единственный, для которого поэт применил четырехстопный хорей. Пожалуй, «нежность» этого размера, что оспаривал Тредиаковский, повлияла на общее течение стиха и придала ему естественную легкость:
Господи, кто обитает В светлом доме выше звезд?
Кто с тобою населяет Верьх священный горних мест?
[31, с. 24]
Далее в оригинале идет перечень качеств, необходимых праведнику для поселения в «горних местах». Ломоносов переводит его с исчерпывающей точностью. Сделать это ему было тем более легко, что, по всей вероятности, думал он в это время и о себе, и о своих противниках:
Тот, кто ходит непорочно, Правду завсегда хранит И нелестным сердцем точно, Как устами, говорит
[31, с. 24].
Заметим, что сам Ломоносов в некоторой степени чувствовал себя связанным необходимостью близко придерживаться оригинала. Историку В. Н. Татищеву, советовавшему ему продолжать переложения псалмов, Ломоносов отвечал (27 января 1749 г.), что хотя совет этот ему «весьма приятен», но существует препятствие, а именно: «Я не смею дать в преложении другого разума, нежели какой псаломские стихи в переводе имеют» [32, с. 89].
Однако у Ломоносова есть парафразы, которые до некоторой степени опровергают его же собственное изречение. На первый взгляд, мы можем поставить в ряд своих предыдущих примеров еще одно переложение: довольно близко к тексту переложен на стихи псалом 103. Однако здесь поэт дает уже большую волю своей художественной фантазии; это можно заметить, если как следует вчитаться в строчки парафраза и самого псалма:
Да хвалит дух мой и язык Всесильного творца державу, Великолепие и славу, О боже мой, коль ты велик!
Одеян чудной красотой, Зарей божественного света, Ты звезды распростер без счета Шатру подобно пред собой.
[12, с. 96]
Сравним с текстом Псалтыри: «Благослови душе моя, Господа. Господи Боже мой, возвеличился еси зело, во исповедание и в велелепоту облеклся еси. Одеялся светом яко ризою, простираяй небо яко кожу» [30, с. 106].
Нетрудно заметить, что при сохранении основного направления библейского текста, его идейной и смысловой направленности, Ломоносов здесь избирает уже путь некого преобразования псалма. Например, он применяет исключительно свои поэтические сравнения, чего в переложении псалма 26-го заметно не было. «Одеялся светом яко ризою», «Одеян чудной красотой, Зарей божественного света» — налицо явная поэтическая переработка текста Псалтыри, в отличие от переложения псалма 26, где, повторимся, строки библейского текста просто переводились в стихотворную форму, причем построчно, едва ли не слово в слово, без всяких дополнительных и отличных от оригинала сравнений или метафор. Вот еще один пример: «простираяй небо яко кожу» — эта короткая строчка из Псалтыри соотносится в стихотворном преложении с великолепным сравнением «Ты звезды распростер без счета Шатру подобно пред собой».
Таким образом, в этом парафразе мы уже имеем дело с творческим переосмыслением псалма. Содержание, смысл его при этом не меняется, но в переложении появляются художественные обороты, не свойственные библейскому тексту.
Ты землю твердо основал, И для надежныя окрепы Недвижны положил заклепы, И вечну непреклонность дал.
[12, с. 96]
В Псалтыри: «Основаяй землю на тверди ея, не преклонится в век века» [31, с. 106]. Ни о каких «заклепах» речь, разумеется, не идет.
Но для чего же Ломоносов начинает отступать от прямого библейского текста и вводить собственные художественные средства? Ответ прост: выбор делается в сторону музыкальности, мелодичности стиха. Парафраз псалма 103 куда более мелодичен, чем предыдущий, псалма 26.
Гоголь считал отличительной чертою русской поэзии «стремление как бы унестись куда-то вместе со звуками» [33, т. 3, с. 369]. Ломоносов был первым, у кого это качество проявилось: ни его предшественники (Феофан Прокопович, А.Д. Кантемир), ни его современники (Тредиаковский, Сумароков), ни один из поэтов нового поколения (М.М. Херасков и др.), — никто вплоть до появления Державина не мог соперничать с ним в этом отношении.
Причем, возвращаясь, так сказать, на грешную землю, ломоносовский дух не забывал о тех высотах, на которых он побывал, — ему, если воспользоваться словами Е. А. Баратынского, было «памятно небо родное» [34, с. 69]. И эта память подвигала его на такую поэтическую смелость, которая оказывалась доступной, как выяснилось впоследствии, только величайшим нашим лирическим гениям — Державину, Пушкину, Тютчеву, Лермонтову… Ломоносов по-своему интерпретирует текст псалма уже не только в плане формы, но и в плане содержания. Тенденция к этому намечается уже в том самом переложении псалма 103. Кроме своих художественных средств поэт наполняет его подробностями, идущими от него непосредственно:
Ты повелел водам парами, Всходить, сгущаяся над нами, Где дождь рождается и снег
[12, с. 96].
Верность источнику очевидна, но заметны и особенности, внесенные поэтом-северянином и естествоиспытателем. Пока что это не более чем подробности, не в коей мере не противоречащие смыслу библейского псалма, а только дополняющие его. Но Ломоносов в своих переложениях идет дальше подробностей.
Склони, Зиждитель, небеса, Котись горам, и воздымятся.
Да паки на земли явятся Твои ужасны чудеса.
И молнией Твоей блесни, Рази от стран гремящих стрелы, Рассыпь врагов Твоих пределы, Как бурей, плевы разжени.
Меня объял чужой народ, В пучине я погряз глубокой.
Ты с тверди длань простри высокой, Спаси меня от многих, вод
[12, с. 96].
В этом переложении псалма 143 Ломоносов позволил себе незначительный вроде бы, почти незаметный отход от подлинника. Но как значительны последствия! Ведь в подлиннике стоит: «моих врагов», и стоит не прямым текстом, узнать об этом мы можем лишь контекстуально: «Блесни молнию, и разнежеши я, посли стрелы Твоя, и разнежеши я. Посли руку Твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих…» [30, с. 106]. Автор ветхозаветного текста просит отмстить врагам, нанесшим обиду и вред ему. «Ломоносовский герой прямо называет тех, с кем он борется, врагами самого зиждителя: это твои враги, я веду с ними смертельную борьбу; ты должен вступиться, ибо, хоть я и родствен тебе своею нравственной и духовной природой, во мне бьется человеческое сердце, оно может не выдержать, жизни моей может не хватить, чтобы победить зло; „Простри длань“, „Спаси меня“, — говоря это, я не своего прошу, но твое отстаиваю; мне не защита, а правда нужна» [20, с. 64].
Напомним, что в Библии слова этого песнопения принадлежат израильскому юноше Давиду, готовящемуся к бою с филистимлянином Голиафом. Ломоносов же в то время подвергался яростным нападкам со стороны немцев-академиков во главе с И. Д. Шумахером, и переложение стиха исполнено ядовитого подтекста: «Меня объял чужой народ», «Вещает ложь язык врагов», «Избавь меня от хищных рук // И от чужих народов власти».
Есть мнение, что переложение и написано-то было, когда он содержался под караулом [35, с. 123]. История его создания вкратце такова.
Как мы помним, Ломоносова арестовали 27 мая 1743 года. Затем, 8 августа, он заболел, и вследствие болезни содержание под стражей при Следственной комиссии было ему заменено домашним арестом, под которым он находился уже до конца января 1744 года, когда вышел указ Сената о его освобождении. Таким образом, на гауптвахте он пробыл около двух с половиной месяцев. А между тем, 31 августа канцелярия Академии наук выпустила распоряжение напечатать книгу «Три оды парафрастические псалма 143, сочиненные чрез трех стихотворцев, из которых каждый одну сложил особливо». Авторами этой книги были Ломоносов, Тредиаковский и молодой Сумароков. Так что промежуток от 27 мая по середину или конец августа — наиболее вероятное время работы Ломоносова над своим вариантом переложения, ибо до ареста никаких упоминаний о подготовке названной книги или об отдельных ломоносовских попытках переложить 143-й псалом не сохранилось.
Основной спор между Ломоносовым, Тредиаковским и Сумароковым шел о художественно-выразительных возможностях различных стихотворных размеров. Ломоносов и принявший в ту пору его сторону Сумароков считали ямб наиболее подходящим для важных материй размером. Тредиаковский же совершенно справедливо полагал, что «ни которая из сих стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности, но что все сие зависит токмо от изображений, которые стихотворец употребляет в свое сочинение» [36, с. 243].
Этот теоретический спор попытались решить посредством своеобразного поэтического состязания. Все трое переложили 143-й псалом русскими стихами (Ломоносов и Сумароков — ямбом, Тредиаковский — хореем). Так появилась книжка «Три оды парафрастические», в предисловии к которой Тредиаковский, назвав имена «трех стихотворцев», умолчал о том, «который из них которую оду сочинил». Ответить на этот вопрос предлагалось читателям: «Знающие их свойства и дух, тотчас узнают сами, которая ода через которого сложена» [37, с. 5]. Несмотря на то, что в теории Тредиаковский оказался гораздо ближе к истине, чем Ломоносов (последний несколько лет спустя тоже попробовал переложить один псалом хореем), на практике в 1743 году безусловную художническую победу одержал Ломоносов. Его переложение 143-го псалма лаконичнее, торжественнее, по духу гораздо ближе к древнему подлиннику. Именно от ломоносовского переложения 143-го псалма берет свое начало мощная традиция русской философской и гражданской лирики — традиция переложения псалмов, представленная в дальнейшем именами Державина, поэтов-декабристов, Н. М. Языкова и др.
В своем месте мы уже приводили отрывок из ломоносовского переложения 143-го псалма, а именно — тот, где звучит тема врагов. С этой точки зрения, библейский текст удивительно точно совпадал с общим настроением Ломоносова в период наибольшего ожесточения его схваток с академическими противниками. Но совпадение тут прослеживается не только чисто биографическое, событийное. При чтении этого произведения необходимо учитывать еще и тот стремительный взлет научной мысли Ломоносова, то этическое раскрепощение его сознания, то высокое напряжение патриотической идеи, — короче, тот небывалый духовный подъем, который он переживал в 1741—1743 годы и который нашел свое воплощение в диссертациях, заметках и поэтических сочинениях.
Если сравнить помещенные под одной обложкой стихотворения Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского, то можно легко убедиться в том, что ломоносовская вариация на библейскую тему выгодно отличается от соперничающих с нею благородством и естественностью интонации, выдержанностью и гармонией стиля и, скажем так, торжественно-весомым немногословием (в переложении Ломоносова — 60 строк, Сумарокова — 66, Тредиаковского — 130). Все это не в последнюю очередь объясняется духовным самостояньем Ломоносова, которое к этому времени уже было им обретено.
Идущие вначале размышления о суетности и бренности существования людей, погруженных в юдольные заботы, передаются тремя поэтами по-разному, и в том, как они передаются, видно, что все трое находятся на разных ступенях духовного освобождения.
Вот Сумароков, более всего озабоченный мимолетностью и хрупкостью человеческой жизни, скорой погибелью «нашей красоты»:
Правитель бесконечна века!
Кого Ты помнишь! человека.
Его днесь век, как тень преходит:
Все дни его есть суета.
Как ветер пыль в ничто преводит, Так гибнет наша красота.
Кого Ты, Творче, вспоминаешь!
Какой Ты прах днесь прославляешь!
[37, с. 24]
Вот Тредиаковский, в самое сердце пораженный мыслью об абсолютной ничтожности и слабости человека перед творцом:
Но смотря мою на подлость И на то, что бедн и мал, Прочих видя верьх и годность, Что ж их жребий не избрал, Вышнего судьбе дивлюся, Так глася, в себе стыжуся:
Боже! кто я, нища тварь?
От кого ж и порожденный?
Пастухом определенный!
Как? О! как могу быть Царь?
[37, с. 17]
И вот Ломоносов, озабоченный не хрупкостью живой красоты или «подлостью», «бедностью», «малостью» человека, а именно суетностью и тщетой жизни, в которой отсутствует смысл и нет даже малейшего поползновения к его отысканию, в которой все однообразно и пусто:
О Боже, что есть человек, Что ты ему себя являешь, И как его ты почитаешь, Которого толь краток век?
Он утро, вечер, ночь и день Во тщетных помыслах проводит;
И так вся жизнь его проходит, Подобно как пустая тень
[37, с. 31].
Но главное отличие Ломоносова от его соперников заключается в том, что он не включает своего героя в число людей, проводящих жизнь «во тщетных помыслах», как это делают Сумароков («гибнет наша красота») и Тредиаковский («Боже! кто я нища тварь?»). Он собеседует, а не простирается ниц. Он свободнее и как поэт и как человек. Впрочем, здесь Ломоносов точно следует подлиннику.
Но далее, когда речь заходит о врагах героя (и его «народа святого»), Ломоносов «позволяет себе нечто такое, такую творческую дерзость, что просто диву даешься, а духовное пространство, отделяющее его от Сумарокова и Тредиаковского, становится огромным, просто непреодолимым для них» [35, с. 201]. Как было отмечено выше, Ломоносов сумел в перелагаемый псалом вложить и свои собственные переживания, свое возмущение хозяйничавшими в Петербургской Академии наук реакционерами, по большей частью иноземцами:
Вещает ложь язык врагов, Десница их сильна враждою, Уста обильны суетою;
Скрывают в сердце злобный ков
[37, с. 32].
Вот герой призывает «зиждителеву власть» на землю, чтобы сокрушить врагов:
Склони, Зиждитель, небеса, Коснись горам, и воздымятся, Да паки на земли явятся Твои ужасны чудеса.
И молнией твоей блесни, Рази от стран гремящих стрелы, Рассыпь врагов твоих пределы, Как бурей, плевы разжени
[37, с 32].
Мягко и незлобиво звучат с этими строфами стихи Сумарокова:
Не приклони к их ухо слову:
Дела их гнусны пред тобой, Я воспою тебе песнь нову, Взнесу до облак голос мой И восхвалю тя песнью шумной В моей Псалтыре многострунной
[37, с. 14].
Тредиаковский также довольно мирно описывает врагов псалмопевца:
Их сокровище обильно, Недостатка нет при нем, Льет довольство всюду сильно, И избыток есть во всем:
Овцы в поле многоплодны, И волов стада породны…
[37, с. 25]
Мнение К. Н. Лебедева по этому вопросу таково: «…самостоятельность Ломоносова сказалась в этом стихотворении вполне. Ощущение мощи своего духа, который в состоянии „одним взглядом охватывать совокупность всех вещей“, ясное понимание самобытности того „дела“, которое он намерен „петь“, сознание абсолютной новизны тех истин, которые открыты его внутреннему взору — все это наполняет Ломоносова радостью и желанием поделиться с людьми тем многим, что есть в его душе» [35, с. 203].
Поэты XVIII века, сочинявшие «три оды парафрастические псалма 143», казалось бы, «особливо» решали одну и ту же задачу, поставленную умом, — показать достоинство того или иного стихотворного размера, но у каждого из них получилось сочинение, своеобразно открывающее, прежде всего, их личный опыт духовного делания и общения с Богом.
Говоря о переложениях псалмов, нельзя не упомянуть наследие, оставленное нам Тредиаковским — безусловный авторитет не только в литературе XVIII века, он оказывал плодотворное и благотворное влияние на русскую словесность и в XIX столетии. Державин признавался: «Правила поэзии почерпал я из сочинений Тредьяковского» [38, т. 3, с. 38]. Пушкин в 1834—1835 годах так обозначал место автора «Тилемахиды» в отечественном литературном процессе: «Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. <�…> Вообще изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей» [14, т. 6, с. 433]. То, что литературное наследие В. К. Тредиаковского было востребовано в первой половине XIX века, свидетельствует замечание Н. А. Полевого, сделанное в 1833 году: «И теперь есть у нас современники Ломоносова, Сумарокова, Карамзина, даже Тредьяковского — не по летам, но по духу, по сущности своих созданий, по своему образованию, направлению, даже по языку» [39, с. 171].