Этнокультурное пространство поэзии Джангра Насунова
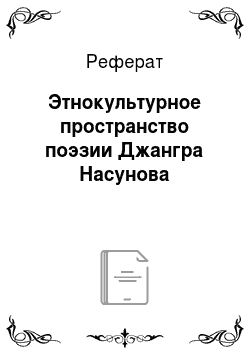
Незнание поэтом родного языка переживалось им как трагическая, непреодолимая утрата, являлось источником постоянного внутреннего разлада, отзвук которого оставил глубокий след во всем его творчестве. При этом характер его поэтического мира во многом связан с эмоционально-образным настроем, поэтическим мировосприятием автора, глубоко развитым чувством национального самосознания. Неслучайно поэт… Читать ещё >
Этнокультурное пространство поэзии Джангра Насунова (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Поиск этнонациональной идентичности и этнокультурные концепты как основа художественной картины мира в поэзии Д. Насунова.
Творчество калмыцкого поэта Джангра (настоящее имя Виктор) Ивановича Насунова (1942?1979), представляет собой уникальное явление, занимающее особое место в калмыцкой литературе. Оно еще недостаточно изучено, лишь отдельные его аспекты затрагивались в работах современных калмыцких литературоведов [Э. В. Лубинецкий, А. Г. Салдусова].
Тот факт, что Д. Насунов создавал свои произведения на русском языке, объясняется объективными историческими условиями. Он — один из представителей «сибирского поколения» калмыков, волею истории переживших насильственную депортацию, родившихся и выросших вдали от родины, а значит — вне языковой среды, поскольку, как уже отмечалось, в отличие от ряда других народов, подвергшихся незаконному выселению, калмыки были лишены возможности общения на родном языке вследствие расселения от Аральского моря до Сахалина, от Таймыра до Узбекистана. Смешанный брак родителей: отец — калмык, мать — русская, учеба в русской школе, а затем в институте, — все эти факторы, типичные для многих русскоязычных писателей, оказались решающими.
В своей краткой автобиографии Д. Насунов поэт отмечает такие моменты: родился 22 июля 1942 г. в селе Яшалта Калмыцкой АССР в семье потомственного табунщика. Детство и школьные годы прошли в Сибири в г. Черепаново Новосибирской области. Осенью в 1957 г. семья вернулась в родную Калмыкию. Отец Насунова к тому времени умер, и будущий поэт был вынужден бросить восьмой класс дневной школы и идти на производство. Д. Насунов устроился разнорабочим в к-зе «Новый мир», одновременно учился на курсах механизаторов, после работал трактористом в том же колхозе. В 1966 г. переехал в Элисту, работал ассистентом режиссера Калмыцкого телевидения.
Говоря о своем творчестве, Насунов проводил аналогию между человеком, впервые севшим на коня, и начинающим поэтом. Укрощение скакуна для него было связано с такими же трудностями, как и стремление подчинить себе слово, чтобы мысль свободно и непринужденно вылилась в строгую, четкую форму. В этом плане он всегда вспоминал слова своего отца: «Кто упал с коня и не нашел в себе силы вновь сесть в седло, никогда не будет хорошим всадником». В пору учебы в Литературном институте имени А. Горького Насунов, как он сам говорил, был «начинающим наездником», но хотел стать «настоящим джигитом». Эту краткую биографию, хранящуюся в канцелярии Литературного института имени А. Горького, Д. Насунов написал 26 июля 1968 г. при поступлении. В апреле 1974 г. поэт закончивает институт. Он много писал и публиковался именно как Джангр Насунов. Права Л. Щеглова в том, что написать столь образную, искреннюю и яркую биографию мог только настоящий художник слова.
Впервые автор начал печататься в местной периодике, затем в столичных журналах «Молодая гвардия», «Москва», «Юность», «Аврора», «Волга», в альманахе «Родники», его произведения вошли в антологию молодых писателей РСФСР, вышедшую в Киеве на украинском языке под названием «Березова криница» («Березовый колодец»). Первые насуновские публикации в прозе относятся к началу 1970;х гг. («Самостоятельное решенье», «Ботхн», «Адьян», «Мой брат Ваня, нам счастья не дано…» и др.). В 1971 г. он выпускает свой первый сборник стихов — «Голоса расстояний». Всего издано четыре сборника стихов поэта, два при жизни и два после смерти: «Голоса расстояний» (1971), «Поселенцы» (1977), «Полет копья» (1980), «Тамариск» (1982).
Прижизненные поэтические сборники Д. Насунова не отличаются четкой структурой, тем не менее заметно следование автора некоторым тематическим принципам. Сборник «Голоса расстояний» строится по принципу включения автором избранных произведений, при этом доминирует в нем национальная проблематика. В сборнике «Поселенцы», посвященном памяти первого учителя будущего поэта, преподавателю языка и литературы М. Т. Симоновой, выделяются такие темы, как сибирское детство, война и калмыцкая культура.
Книга «Полет копья» составлена по принципу включения избранных стихотворений, преимущественно посвященные темам калмыцкой истории и культуры. Среди них такие ударные произведения Д. Насунова, как «Джангарчи», «Сказка о льстивом тайше, жестоком хане и самой Справедливости», «Рандул и Галдан», не вошедшие в прижизненные сборники поэта.
В сборнике «Тамариск» стихи подразделяются на тематические группы. Об этом можно говорить, исходя из тем и анализа мотивов произведений, специально же никакие разделы не выделяются. Книга начинается со стихотворений, посвященных родной природе («Степь и люди», «Тюльпан», «У нас в степи капризная погода», «Тамариск» и т. д.), далее следуют стихи на военную тему, Отдельные группы составляют произведения, связанные с духовно-нравственной проблематикой, актуальной для 1970;х гг. темой дружбы народов. Наибольший объем занимают стихи, воссоздающие мир народных обычаев и традиций, фольклорной и исторической тематики.
Надо также заметить, что если во всех книгах Д. Насунова художественный материал дублируется, то в «Тамариск» вошли неопубликованные ранее стихи: «Помню дождь в березовом лесу…», «Стрела лихая зависти и злости…», «Нет от друга ни слова, ни строчки…», «Искал себе женщину лучше…», «Узором никого не удивить» и мн. др.
Незнание поэтом родного языка переживалось им как трагическая, непреодолимая утрата, являлось источником постоянного внутреннего разлада, отзвук которого оставил глубокий след во всем его творчестве. При этом характер его поэтического мира во многом связан с эмоционально-образным настроем, поэтическим мировосприятием автора, глубоко развитым чувством национального самосознания. Неслучайно поэт взял себе псевдоним Джангр, который отражал неразрывную связь поэта со своим народом и показывал глубинные корни его поэзии, основанные на связи с фольклорными и культурно-историческими традициях. «Будучи сыном двух народов — русского и калмыцкого, — к тому же пишущий на русском языке, он ощущал себя „настоящим, истинным калмыком“ и хотел, чтобы также воспринимали его читатели» [Щеглова 2012: 4]. Псевдоним Джангр выражает неразрывную связь поэта со своим народом и показывает глубинные корни его поэзии, основанные на фольклорных и культурно-исторических традициях. Джангар, как известно, имя главного героя калмыцкого героического эпоса, повелителя многих народов. Кроме того, расположение дворца Джангар-хана и его трона маркирует семантически значимый центр в национальной картине мира. В связи с этим выбор псевдонима получает особое значение, выражая стремление поэта быть «в центре народной культуры». Имя Джангр считалось сакральным и вплоть до 30-х гг. XX в. не являлось распространенным в антропонимии калмыков: это имя не давали детям во избежание сложной судьбы и ответственности за семантику. После депортации и восстановления республики, когда пришел в литературу творить Д. Насунов, героический эпос «Джангар» стал символом национального возрождения, именами его героев вновь стали нарекать детей.
Как верно отмечает Д. Б. Дорджиева, всю жизнь с детства Джангр Насунов ощущал в себе потомка номадов. Это «генетическое ядро» отчетливо слышится в его раннем стихотворении, отражающем «начало жизненного опыта» поэта [Дорджиева 2012: 23]:
Мне этот день до смерти не забыть -;
Когда я мчал на диком скакуне С единственным желаньем укротить, А значит — удержаться на коне [Насунов 1982: 19].
Народное начало в поэзии Д. Насунова поэта с народом живо и в ярко проявляется в создаваемых им поэтических картинах, в психологических коллизиях, в образе лирического героя, чей внутренний мир составляют архетепические категории, образующие в совокупности образ родного края. Это степь, тюльпан, полынь, конь, сайгак, через изображение которых поэт раскрывает этнические особенности видения мира, его духовно-нравственные ценности.
В творчестве Д. Насунова тема любви к родной земле занимает центральное место. Это его опора и источник, откуда он черпает творческие силы. Чувство любви к родине, обостренное пониманием насильственной отлученности от нее в детстве, придает его стихам необычайный лиризм, нередко переживания автора обретают драматическую, порой трагическую, напряженность Образ отчего края неразрывно связан с образом степи, она — душа насуновской поэзии, источник неизбывного вдохновения. Именно ее красота, неяркая и скромная, и, тем не менее, придающая ей неповторимость и очарование, пробуждает все чувства поэта и воодушевляет его. Только степь вызывает чувство полноты жизни и гармонии с окружающим миром. В стихотворении «Здесь ты не встретишь броской красоты…» ярко и эмоционально передана неотделимая от сознания поэта дума о родной земле, согревающая и возвышающая душу:
Здесь ты не встретишь броской красоты, Чтоб сразу обожгла до слез, до вскрика…
О степь моя, иным -;
невзрачна ты, Но красота твоя -;
в душе калмыка.
Я эту красоту в себе ношу, Она в соседях, в матери и в сыне.
Увидевших впервые степь прошу:
Не говорите плохо о полыни [Насунов 1977: 7].
Соприкасаясь с природой, поэт одухотворяет ее, преображает творческим зрением. Стихотворение характеризуется точностью и завершенностью поэтической мысли, экспрессией чувств автора, умеющего находить красоту там, где не каждому дано ее заметить, подмечающего все, что ускользает от обычного взгляда. В финальной части стихотворения глубоко и проникновенно выражаются чувства безграничной любви, преданности и неразрывной связи народа с родной землей.
Лирическому герою присуще цикличное мировосприятие восточного человека, «когда субъект выделяет, но не отделяет себя от окружающего мира» [Морохоева 1994: 5]. Именно в шири степного пространства он проникается истинной полнотой жизни. Степь является для него сакральным местом, где раскрывается душа, поверяются самые заветные тайны, и появляется чувство сопричастности с миром. Они — степь и поэт — словно единое целое:
О степь моя, с тобой не одинок я.
Я пью тебя, простор твой зеленя.
Не потому ль задумчив и широк я, Что ширь твоя навек влилась в меня [Насунов 1980: 17?18].
Горячая любовь к родине, по существу, — лейтмотив всего творчества Джангра Насунова. В его стихах ощущается сыновняя привязанность к каждой травинке, к каждому камушку, словом, он не пренебрегает любой, даже маленькой деталью. Так, поэт с нежностью воссоздает образ полыни, горьковато-пряный, щемящий душу, терпкий запах которой дорог любому степняку:
В чужих краях подчас я сам не свой, Мне кажется, я старюсь на чужбине, И рвусь я в степь, где сладок летний зной, Настоянный на запахе полыни [Насунов1982: 7].
В полыни, по мысли автора, скрывается магическая сила, ибо эта скромная, неприметная трава — олицетворение живой связи с родной землей. Сокровенное, трепетное восприятие родной природы, переданное в стихотворении «Запах полыни», показывает, какими одухотворенными могут быть взаимоотношения человека с окружающим миром:
Я забирался в заросли кустов, Шел по горам, кружился я в долине -;
В краю благоухающих цветов Мне не хватало запаха полыни.
Была радушна горная страна…
Повсюду лишь приветливые лица, Но ко всему мне так была нужна Родной степи та малая частица…[Насунов 1982: 7].
Основные категории этнической культуры, семантически выражающие специфику мировосприятия любого народа, — время и пространство. Для Д. Насунова время — цикличное и беспредельное — сливается с образом национального мира, этнического пространства, главным символом которого является безграничная и вечная степь. В стихотворении «Запах полыни» поэт противопоставляет пространство горной страны и степного края, используя метод оппозиции «свой-чужой», являющийся в культуре монгольских народов одним из важных.
Общеизвестно, что специфика восприятия каждым народом «пространственно-временного континуума», «того единственного фона, на котором развертываются все явления природы и культуры» [Жуковская 1988: 5−6], различна. В культуре калмыков основные черты, характерные для пространства и времени кочевников, проявляются в традиционных представлениях о «земле-воде» — понятии, прежде всего, взаимосвязанным с образом бескрайней степи. Отсюда особенность «степного» мышления калмыка-кочевника, особое постижение мира, жизни, связи человека и природы. Только в безбрежном пространстве, «сочетающем огромность и размах пейзажа с цветущим буйством жизни природы» [Надъярных 2008: 215], где все зримое и осязаемое несет в себе звуки и запахи конкретного национального мира, его тепло и душу, степняк чувствует свободу и внутреннюю гармонию. В этой беспредельной широте человек, переполняемый «чувством безгранично-могущественного, или безгранично-большого», которое обычно «вызывают море, лес и горы» [Надъярных 2008: 215], проникается полнотой жизни, ощущает себя слитым с природой, со всем окружающим его миром. Именно поэтому лирический герой Д. Насунова, искренне восхищаясь и преклоняясь перед несомненной, пленительной красотой горного края, страной добрых и гостеприимных людей, хранит в душе образ отчей земли, все его мысли и думы о степи. В чужом краю ветка горькой полыни — это олицетворение родного дома, частица степи, животворный источник, который дарит лад и гармонию:
Но вот нашел и бережно прижал Полынь к губам, от счастья пламенея, И край вершин задумчивых и скал Мне сразу стал дороже и роднее [Насунов 1982: 8].
Мелодию стиха Д. Насунова определяет глубокая эмоциональность, искренность, задушевность. Ностальгические ноты звучат в стихотворениях, посвященных памятным сердцу местам. В стихотворении «Куда б ни шел, где б ни был в этом мире», основанном на автобиографических моментах, оппозиция «свой-чужой» снимается: в сердце лирического героя любовь к родному краю и тоска по далекой Сибири, где прошло его детство, сливаются в единое целое. Это неоднозначное и сложное движение чувств — свидетельство расширения поэтического мышления автора: от осознания неродного края чуждым, немилым («Запах полыни») к ощущению «чужого» не просто своим, а максимально близким, родным. Подобное мирочувствование раскрывается в сложном движении эмоций, как бы сталкивающихся и сливающихся в душе поэта:
Куда б ни шел, где б ни был в этом мире, Со мною зной и лютые снега:
Рожден в степи, а вырос я в Сибири.
Мне дорог лес и степь мне дорога.
Я, как сайгак, бродил в таежной чаще И рвался в степь, грустил я каждый день.
А вот в моей Калмыкии все чаще Я по тайге тоскую, как олень [Насунов 1982: 5].
Противоречивость чувств, которые обуревают героя, любовь к двум родинам — к Калмыкии и к Сибири остро и тонко выражается автором посредством поэтической антитезы, определяющей структуру всего стихотворения и четко отражающей состояние лирического героя: «зной-лютые снега», степи-лес, олень-сайгак. Память осознанно и неосознанно фиксирует пережитое. Лирический герой не остается безучастным и равнодушным к тем местам, где прошла большая часть его детства, при этом он не прерывает связи и с родной землей. Противоречивость его состояния удачно передают и меткие сравнения, выбранные автором. В первом случае лирический герой олицетворяет себя со степным сайгаком: «Я, как сайгак, бродил в таежной чаще, / И рвался в степь, грустил я каждый день» [Насунов 1982: 16], затем — с оленем, обитателем тайги: «А вот в моей Калмыкии все чаще, / Я по тайге тоскую, как олень» [Насунов 1982: 16]. Мир природы, представленный в данном стихотворении образами животных, является символом человеческих чувств и представлений, при этом художественно-изобразительные средства, образные сравнения усиливают идейное содержание произведения, помогают выразить душевные переживания лирического героя. Чувство любви к родной Калмыкии не утрачивает своей глубины и искренности от признания в любви к другим краям.
Глубокое патриотическое чувство вызывает другой поэтический образ, символизирующий калмыцкую степь — образ тюльпана, ставший традиционным в калмыцкой литературе. В стихотворении с одноименным названием «Тюльпан» в зарисовке степного пейзажа степи стихотворении «Тюльпан» в зарисовке степного пейзажа автора замечательно удалось запечатлеть красоту родной природы:
В степи сейчас ни слякоти, ни пыли, И скот бредет легко на водопой, Лишь облаками пыльными застыли Верблюды над заброшенной тропой.
Стремясь крылом объять свои владенья, Орел свершает медленно полет И по верблюжьей вытянутой тени Сейчас, быть может, время узнает [Насунов 1982: 8].
Живописная картина, воссозданная художником, полна очарования и величественного покоя. Всем образным строем, подробностями пейзажа самим ритмом стиха создается представление о том, что внутренний мир лирического героя глубок, его покоряет величие бескрайних просторов степи, окружающая тишина, ощущение вечности и умиротворенности на лоне природы. Автору, бесспорно, удалось передать то неуловимое состояние слияния природы и человеческой души в единую мелодию.
Тюльпан — яркий символ родного края. Его образ дорог сердцу поэта своей неповторимостью: тюльпан цветет лишь раз в году, весной, — и тогда степной пейзаж обретает неповторимую красоту:
Из-под земли он вырвался весною Всего лишь на мгновение одно, Как вызов наступающему зною, Коль в схватке с ним погибнуть суждено.
И в небо одуряющее глядя, На цыпочки привстал он от земли, И тень орла его тихонько гладит, И льнут к нему седые ковыли [Насунов 1982: 7].
Главным в лирике Насунова является одушевление природы. При помощи метафоры действия («и в небо одуряющее глядя, на цыпочки привстал он от земли») тюльпан наделяется человеческими качествами. Природа словно сливается с миром людей: «как вызов наступающему зною», дождавшись с нетерпением своего часа, тюльпан, буквально вырывается «из-под земли» и, привстав на цыпочки, глядит в «одуряющее небо». Эпитет «одуряющее небо» в данном случае воспринимается не просто как нечто большое, необъятное, но и, скорее, как символ чего-то несбыточного, передает романтически-приподнятое, поэтическое настроение лирического героя. В строфе же «и тень орла его тихонько гладит…» через поэтический троп поэт передает заботливое, бережное отношение к этому цветку. Тюльпан бесконечно дорог автору, он пишет о нем с беспредельной нежностью, связывая с ним все задушевное, заветное, идущее из глубин сердца.
Еще одним составляющим поэтической картины родного края в поэзии Д. Насунова является образ тамариска. Поэт тонкой души, с особой нежностью и чуткостью относящийся ко всему живому, раскрывает через этот образ какими трепетными и сильными могут быть взаимоотношения человека с родной землей, вернее, вернее, об их слиянности:
…А тамариск, растущий по-над речкой, Уходит в степь, теряется вдали, И я, как он, прирос к земле навечно, И он, как я, восходит от земли [Насунов 1982: 13].
Небезынтересным представляется творческое переосмысление автором слова «тамариск». Поскольку лирическое «я» поэта отождествляет себя с тамариском, новое толкование слова принимается сразу, безоговорочно, ибо возникает образ человека деятельного, активного. Яркое поэтическое воплощение получает авторская мысль о том, что жизнь состоит из постоянных испытаний, трудностей, для преодоления которых необходимо упорство, терпение и воля. Все человеческое существование, безусловно, проникнуто началом борьбы, где не обойтись без риска и бесстрашия. Тамариск Д. Насунова символизирует стойкость, силу духа человека. И душу самого поэта, которая «легкоранимая, мужественная, нежная, жила на острой грани жизни, сдерживала натиск времени, быта, людей, пребывавших в ином измерении» [Дорджиева 2012: 23]:
Растет в степи кустарник тамариск, Два слова «там» и «риск» в его названье.
Мой тамариск, я знаю, любит риск И рисковать всегда — его призванье…
Он над обрывом ветви разбросал И в берег врос упрямый и бывалый.
И весь на грани грозного обвала Он сдерживает давящий обвал [Насунов 1982: 13].
В творчестве Д. Насунова есть немало произведений, посвященных Манычу. Этим именем называют в Калмыкии систему рек и озер Кумо-Маныческой впадины. Поэт любит разговаривать с Манычем, прислушиваться к нему, улавливать каждое движение. Он приходит к нему как к верному другу в моменты отчаяния и безнадежности, в минуты тяжелого душевного разлада. Это один из любимых образов автора, живо воскресающий в его памяти родные яшалтинские равнины. Здесь, у берегов и разливов «синевато-зеленого» Маныча-Гудило беспокойная, мятущаяся душа лирического героя обретает покой, сбрасывая тяжелый груз проблем и забот. Река, как и поэзия, — прибежище от суеты и маеты дня. Кажется, что Маныч ласкает и согревает героя своей теплотой, обладая чудодейственным свойством умиротворять тревожную душу. В этом растворении во всеутешающей гармонии бытия чувствуется органическое родство с матерью-природой, ощущение подлинности жизни, ее ценностей. Лирический герой преклоняется перед мудрым Манычем, просветляющим душу и сердце:
А Маныч манит здешних и нездешних.
Я микроклимат Маныча люблю.
И вот, смакуя сочную черешню, Я по равнине Маныча пылю.
А к черту город, шум и споры, Страстей извечную войну.
Я завтра снова на просторе Хлебну соленую волну.
И буду снова Робинзоном В краю стрижей и сазанов Без светофоров и газонов, Рвачей и тещиных блинов.
И с безмятежностью тюленьей Лежать я буду у воды, Объятый легким чувством лени И без предчувствия беды.
У ног плескаться будут волны, Пройдет задумчивая грусть, И на прощанье, просветленный, Реке я низко поклонюсь [Насунов 1982: 13].
Стихотворение «Маныч мой синевато-зеленый» построено в форме диалога лирического героя со степью и озером. Автор обращается к нему, как к близкому и родному, дружески называя его «стариной» и, тем самым, очеловечивая его. В контексте своих стихотворения поэт показывает, что две стихии — земля и вода (степь и озеро) зависимы друг от друга. Здесь, в некоторой степени, раскрывается специфическое национальное видение мира, присущее кочевой цивилизации. Как мы уже отмечали, у монгольских народов существует нераздельное словосочетание «земля-вода», употребляемое в значении «родные кочевья», «родина». Почитание элемента воды, в котором «извечно заложен высокий ритуальный и философский смысл» [Надъярных 2008: 128], как и других элементов (земля, дерево, металл, огонь), является обязательным и носит сакральный характер, находя свое выражение в различных обрядах, известных с незапамятных времен у монгольских народов:
Маныч мой синевато-зеленый, Ты ответь мне быстрей, старина, Почему же ты горько-соленый?
— Потому что земля солона.
Степь моя, широка, бесконечна, Почему ты травою скудна?
— Потому что у Маныча вечно, Сколько помню вода солона.
Этот спор не считаю нелепым, Только знаю: в краях ветровых, Как без Маныча степи — не степи, Так и Маныч — не Маныч без них [Насунов 1982: 13].
О значении воды для засушливой зоны степи и ее обитателей говорится и в стихотворении «Степной родник». В знойной степи вода является чудесным даром природы, пробуждающим все живое. В представлении автора перед родником равны все: и простые кочевники, и «воины, «сам хан и тот склонялся перед ним». Однако «злой нойон, мстя беднякам восставшим», задумал заглушить родник, заведомо зная, что жизнь людей в летнюю жару немыслима без воды:
Степной родник, ты, силы обретая, Назло пескам пробился сквозь пески.
Вода, вода обычная, простая, Тебя святой считали степняки, Жизнь без тебя немыслима средь зноя, В седле не усидеть и степняку…
От жажды изнывая после боя, Кочевники тянулись к роднику Плыла жара, и умирали дети, И повторял в бреду один старик:
«Нет злодеяния большего на свете, Чем заглушить в степи живой родник [Насунов 1982: 19].
Последние две строки («Нет злодеяния большего на свете,/ Чем заглушить в степи живой родник») звучат рефреном в стихотворении, усиливая главную мысль автора о том, что дороже всякого богатства на земле — вода. Именно она — символ и олицетворение жизни, величайшего добра. Таким образом, через образ воды, к которой восходят все истоки жизни в целом, автор сумел передать традиционное представление о значимых для степняка-кочевника силах, объектах и стереотипах поведения, обусловленных как национальным характером, так и всей духовной культурой народа, что в итоге придает его произведениям национальную конкретность и неповторимость.
Родная природа — духовное пристанище Д. Насунова, исток его сыновьего чувста к родине, источник, который дает импульс его творчеству. Бескрайние просторы степи, мятный запах полыни, пушистй ковыль, пылающие тюльпаны, «горько-соленый» Маныч и журчащимие родники — эти образы окружающей природы являются в лирике поэта не просто «дежурными компонентами национальной идентичности» [Султанов 1996: 28]. Через них поэту удалось раскрыть мировосприятие, специфику мировоззрения калмыцкого народа, создав тем самым свою «национальную модель мира», в центре которой человек, кровно связанный с родиной, с жизнью своего народа. Воспевая своеобразие и неповторимость отчего края, лирический герой ощущает себя неотъемлемой частью окружающего мира и потому способен воспринимать и видеть его в таких взаимодействиях и взаимосвязях, которые заметны не каждому. Природный мир, чувственно воспринимаемый поэтом, является не только выражением своеобразия лирического «я», но и способом передачи образа родины, открытия ее пространств, средством отражения диалектики этнического мировидения, мироощущения степного народа, что заставляет задуматься о глубинной сути понимания связи человека и родной земли.
Среди ряда поэтических образов Насунова особенно ярко выделяется образ коня. Как отмечает Е. Е. Балданмаксарова, «известна особая роль коня в культуре кочевых народов Центральной Азии, где он имеет ритуально-культовое значение и несет особую символико-семантическую нагрузку. Среди ряда поэтических образов Насунова особенно ярко выделяется образ коня. Как отмечается, «известна особая роль в культуре кочевых народов Центральной Азии, где имеет ритуально-культовое значение и несет особую символико-семантическую нагрузку. В пантеоне божеств конь возглавляет культ животных и считается, что он связан с космосом, в частности, с солярным культом и, соответственно, со стихией воздуха, поэтому образ коня ассоциируется с полетом, ветром, скоростью. Общеизвестны крылатые мифологические кони. Культ коня нашел отражение в разнообразных обрядах и обычаях, в сказаниях и песнях. Кочевник-степняк относился к коню с большой любовью, как к близкому другу, называя его «эрджи» — драгоценность, «хуляг» — скакун. У монгольских народов конь считался символом ума. Все это способствовало тому, что образ коня превратился в один из самых популярных и возвышенных мотивов, с которыми связаны чувства преданности, добра и любви» [Балданмаксарова 2006: 8−9].
Именно эта семантика образа раскрыта в стихотворении Д. Насунова «Случай в кино», где автор сумел показать искреннюю любовь человека к коню, восприятие его как близкого и верного друга. Воинственный напор коня отождествляется автором с «яростью льва», стройность и быстрота бега — с легкой поступью лани. Описание этих свойств контрастирует в произведении с взволнованным состоянием старика, потрясенного внезапной гибелью «буланого красавца». Несмотря на то, что действие происходит в фильме, гибель коня герой воспринимает обостренно, как если бы это на самом деле. Автор показывает, какие сильные чувства вызывает невосполнимая утрата коня. Все произведение выдержано в едином эмоциональном и интонационном ключе. В зачине стихотворения поэт выразительно передает душевную боль, сожаление, которые испытывает герой, сознающий постепенного исчезновения из жизни значимой для него и его народа составляющей — коней, которых прежде в степи было много. Затем действие невысказанную, но очевидную мысль героя о вине в этой утрате людей, их жестокости:
О скакунах в степи легенд немало, Они отводят мусов Мусс — злой дух и беду, Но вот коней у нас почти не стало, Пожалуй, с ними время не в ладу" -;
Так думал дед, увидев на экране Буланого красавца, дончака…
В нем ярость льва и легкость лани, И как несет в атаку казака Звенят клинки, и ржут надсадно кони, Вдруг вскрикнул он, прикрыл глаза ладонью:
Буланый в кадре рухнул на скаку [Насунов 1982: 19].
Все произведение выдержано в едином эмоциональном и интонационном ключе. Не только жестокость, но и нерациональность, неразумность свершившегося вызывает у старого калмыка сильную эмоциональную реакцию:
Погас экран, мы шли из зала рядом, Дед тер виски и, чувствую, ослаб:
Какой коня!.. Такой стрелять не нада И сокрушенно выдохнул: «Яглаб» Яглаб — (рус.) боже мой Он цену знал, наверно, аранзалам, И снова тряс отчаянно меня:
Как он упал… какой коня не стала, Зачем стрелять хорошего коня [Насунов 1982: 19].
В речи старика-калмыка обращают на себя грамматически неправильные выражения: «какой коня… такой стрелять не нада», «какой коня не стала…». «Какой коня» — буквальный перевод калмыцкой фразы «ямаран мориг?». «Ямаран» (русск. `какой, какая, какое' — несклоняемое в калмыцком языке прилагательное, обозначающее оценку качества чего-нибудь, в данном случае, имеющее восклицательный характер, выражает негодование, возмущение и сожаление. Словосочетание «какой коня» имеет отклонение от норм, в чем сказывается незнание старым калмыком правил склонения русского языка. Появление гласной «а» в конце слов «не надо», «не стало» («Какой коня не стала…») характеризует особенности освоения русского языка иноязычными представителями, а в целом способствует составлению правдивого портрета старшего поколения, представителя старшего поколения, которым является главный герой стихотворения. Кроме того, употребление этих слов, возможно, восстанавливает в сознании поэта образ его деда, который знал именно такой «ломаный» русский язык. Национальный колорит воссоздается и употреблением автором калмыцких слов. Этим словам Д. Насунов дает объяснение в сносках. Так, «аранзал» определяется им как «самый быстрый скакун». Слово «яглаб», выступающее в тексте в качестве междометия, переводится автором как «боже мой». В разговорной, повседневной речи восклицание «яглаб», наряду с другими словами («хяярхн», «дярк»), выражает чувства душевной взволнованности, восхищение, испуг, тревогу и т. п. Согласно исследованиям ученых, в частности Д. С. Дугарова, изначальная семантика слова «хяярхн» связана с представлениями о божестве-предке и может быть определена как «божество, предок, повелитель грозы, огня, молнии» [Дугаров 1991: 68], при этом символика слова «хяярхн» связана с табуированием имени архаического божества. Позднейшее снижение статуса данного слова обусловило употребление его в качестве прилагательного, хотя в молитвах оно имеет значение обращения. Подобное произошло с названием божества «Дара эк» (Тара-мать), превратившимся в «дярк», слово, которое получило значение эмоционального междометия и зачастую переводится как «боже мой».
Итак, изобразительная лексика в произведениях Д. Насунова выполняет особую функцию: накладываясь на русскоязычную основу и обладая при этом этническим своеобразием, она придает сообщает тексту некоторый заряд национально-стилевой самобытности, отображает образ мышления героя. Этнически-окрашенные речевые вкрапления, используемые поэтом, отражают реальное бытие калмыцкого языка в условиях двуязычия. Их употребление в тексте органично и естественно, благодаря мастерству поэта, его бережному воссозданию народной ментальности, что характерно для этностилевой специфики творчества Д. Насунова.
В стихотворении «А Маныч манит здешних и нездешних…» Насунов, используя одно из самых распространенных поэтических средств — сравнение, основанное, как известно, на сопоставлении двух предметов для пояснения одного другим, делает явления, предметы более видимыми и выразительными. Так, сравнение «дети — кони («как дети скачут кони на рассвете…») дает предельное очеловечение образа. Через это интересное уподобление («дети — хорошо с просматривается нежное, необыкновенно трогательное, бережное отношение поэта к этим животным. В очередной строфе («вожак и тот похож на пацана») сравнение развертывается и еще более конкретизируется. Таким образом, в насуновских художественных образах, несомненно, просвечивает глубокая смысловая доминанта, в основе которого национальное видение мира. Поэт мыслит традиционными образами, выражая то характерное, что свойственно калмыцкому менталитету.
В стихотворении «Награда» автор затрагивает период «жестокого произвола» — выселение калмыцкого народа в далекую Сибирь — время, когда на родной язык был наложен запрет:
Вдруг земляка негаданно, случайно Я повстречал в калмыцком далеке, Но сам не мог спросить, как ни печально:
Чей будешь ты на нашем языке.
Я знал, что есть калмыки по-наслышке, Но отродясь не слышал свой язык, И русский друг, отчаянный мальчишка, Мне раз сказал: «Какой же ты калмык? [Насунов 1982: 26].
Слова сибирского друга ранят сердце юного лирического героя. В следующих строках прослеживается передается натиск стремительно сменяющихся чувств: боль от унижения выплескивается в взволнованных восклицаниях. «Вспыхнувшее» чувство лирического героя следует рассматривать как проявление трансформационного процесса, происходящего у нас на глазах с личностью, меняющейся в критической ситуации и создающей в себе новую идентичность: этническое самосознание героя в корне меняется. Умение героя держаться на коне, по мысли автора, является неотъемлемым признаком принадлежности к национальной, родной культуре. Проявление такой способности героем становится отправной точкой отсчета его новой жизни, динамично трансформирующейся под воздействием окружающего мира. Лирический герой, несмотря на невладение родным языком, одним из признаков калмыцкой национальной идентичности, является в душе калмыком. В его образе явственно прослеживаются автобиографические черты самого поэта, точно переданы чувства, эмоции, переживания автора, связанные с поиском и утверждением своей национальной идентичности. В стихотворении «Награда» мы видим, как в современной поэзии через образы, характерные для традиционной культуры, можно проявить и оттенить самые глубокие и тончайшие переживания человека. Особой лирической экспрессии полны последние строки:
И чувство, неизвестное доселе, С такою силой вспыхнуло во мне:
«Я докажу, что я калмык, Валера!
Я усижу на диком скакуне!".
И я скакал, и свесившись, и стоя, Скакал, как на учениях джигит, И что-то слышал близкое, родное В гуденье ветра, в грохоте копыт…
Я выбирал труднейшие преграды, Я был на все готовым в этот миг ?
И принимал от друга, как награду:
«Ты настоящий, истинный калмык!» [Насунов 1982: 26].
Сказанные сибирским другом слова являются для героя поистине наивысшей «наградой».
Образ коня, как один из компонентов национальной картины мира, в стихотворении раскрывает глубинную психологическую связь прошлого и настоящего. Поэт мыслит национальными образами, его генетическая память еще свежа, ибо он «ощущает присутствие, видит их внутренним зрением» [Гачев 1988: 98]: «Вдруг гикнул я, как предок мой когда-то,/ В степь направляя дикого коня» [Насунов 1982: 26].
Детство поэта, как уже отмечалось, прошло в далекой Сибири. То было послевоенное время — труднейшие, голодные годы, полные при этом радостей и яркости впечатлений, свойственных юности. Отец, истинный степняк, и там не расставался с профессией коневода. Его сыновья, Виктор (Джангр) и Иван, а с ними и дочь Зоя, находились постоянно возле лошадей. Детские впечатления «объездки» коня, обучение навыкам езды оставили яркий след в памяти будущего поэта, ведь именно тогда закладывались основы характера, шло формирование личности:
Твержу себе хотя бы повезло, И я тогда мальчишкам докажу…
Но сброшенный каурым, как назло, Я под кустом освистанный лежу.
Ты подошел, отец, и, горячась, Прикрикнул раздраженный на меня:
«Ты думаешь о том, чтоб не упасть, А не о том, чтоб укротить коня!».
Мне этот день до смерти не забыть -;
Когда я мчал на диком скакуне С единственным желанием укротить, И значит — удержаться на коне [Насунов 1982: 29].
Укрощение коня Р. С. Липец определяет как «нешуточное испытание и даже подвиг… Это своего рода инициация, доказательство того, что юноша созрел и как воин… Мускульная сила, выносливость, мужество, интеллект, быстрота реакции — все должно быть противопоставлено человеком укрощаемому животному в этом поединке» [Липец 1984: 203].
Мотив испытания конем помогает автору раскрыть, в определенном смысле, жизненную функцию каждого человека, суть которой заключается в созидании вечных ценностей, бесконечном завоевании неизвестного, упорстве, преодолении невзгод и препятствий: «Сесть на коня — не сложная задача,/ Труднее удержаться на коне» [Насунов 1982: 29], — пишет поэт в стихотворении «Трехлеток был горяч и необучен».
Подводя итог сказанному, можно отметить, что образ коня в поэзии Д. Насунова соотнесен с традиционными ценностями народа. Через его символику автор показывает не только роль и значение этого животного в жизни кочевого народа, его истории и культуре, но и раскрывает особенность социализации предков, обусловленную комплексом обычаев и верований, связанных с конем. И это особенность является в его стихах одной из важнейших характеристик национальной идентичности.
В стихах Д. Насунова с образом коня связано обостренное восприятие глубоких перемен в социальной сфере общества, вызванных научно-техническим прогрессом. В связи с формированием новых условий жизни, по мнению автора, народ может отойти от истоков, утратить самобытность:
В те времена без лишних назиданий И сам отец, и дети, и жена Шли к дончаку, что бился на аркане, И укрощали злого скакуна.
Теперь в степи меняется картина И как-то слышал реплику одну:
«И на аркане бравого мужчину Ты не притащишь нынче к скакуну [Насунов 1982: 17].
Эта же тема звучит в стихотворении «Свидание», в котором поэт с сожалением констатирует, что в современной жизни нет места коню:
Он пренебрег возможным наказаньем, Надеясь, что понять его должны.
На тракторе он едет на свиданье, А за хотоном бродят скакуны.
А за хотоном бродят вороные, Резвятся, как столетие назад, Но в наши дни наездники иные -;
На скакунов садиться не хотят.
А где-то от селения в сторонке Данара размечталась при луне О том, как ненаглядную девчонку Жених умчал на диком скакуне…[Насунов 1982: 17].
В сознании кочевника образы коня и человека неразрывно взаимосвязаны и, дополняя друг друга, составляют единое целое. Использование анафоры («А за хотоном бродят скакуны,/ А за хотоном бродят вороные») усиливает мысль о том, что цивилизация оттесняет природное начало, угрожая тем самым не только природе, но и цельности и силе национального характера. Для того чтобы не утратить в стремительно меняющейся действительности, в которой приоритет отдается результатам развития науки и технологии, «живую душу», человеку необходимы некие духовные ориентиры. Животрепещущим остается вопрос, сумеет ли калмыцкий народ под влиянием новых условий жизни сохранить национальные традиции предков. В стихотворении звучат нотки жалости к отжившей, но дорогой сердцу поэта стихии кочевой культуры, воплощенной в образе коня.
В этом контексте можно провести параллель с произведением С. Есенина «Сорокоуст». Русскому поэту, также как и Д. Насунову, казалось, что новая жизнь, воплощенная в поэме в образе «железного коня», нарушает извечную гармонию человека с природой. Он испытывал не столько неприязнь к «железу», сколько жалость к тому, что безвозвратно уходит из жизни. Образ маленького беззащитного «красногривого жеребенка» в поэме символизирует не только исчезающий уклад деревенской жизни, но и все живое, одухотворенное, прекрасное. Как известно, С. Есенин писал свои стихи-ламентации, заботясь о ценностях духовных, нравственно-этических. Отсюда его враждебное отношение к «железному гостю»:
Скоро заморозь известью выбелит Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гибели, Никуда не уйти от врага.
Вот он, вот он с железным брюхом, Тянет к глоткам равнин пятерню…[Есенин 1990: 259].
Своеобразная национальная форма миропонимания, связанная с образом коня и основанная на фольклорно-эпической традиции, проявляется в лирическом произведении Д. Насунова «Тишина», в котором необычайно тонко передается ощущение покоя и безмятежности:
Как хорошо, что рядом тишина.
Она во мне, она опять со мною, И в сердце очень нежная струна Поет о тишине и с тишиною.
И в тишине парит моя земля, И нежится в объятиях апреля, Прохлада ветерка. Шум ковыля.
Свист сусликов и жаворонка трели.
Пасется тихо белый-белый конь, И кажется он где-то во Вселенной…
И так тиха в моей твоя ладонь, И на душе ни бурь и ни сомнений" [Насунов 1982: 48].
Выразительный лирико-романтический эффект несут конкретные и точные образы (шум ковыля, прохлада ветерка, свист сусликов, трель жаворонка, белый конь), метафорическая лексика, (объятия апреля, нежная струна), четырехкратный повтор лексемы «тишина»), а также скопление в звуковой ткани стихотворения шипящих, глухих, свистящих согласных. Эта удивительная инструментовка как нельзя лучше передает картину тишины с ее приглушенными шорохами и звуками, отчетливо слышными в стихотворении (св-вс-п-х-ж-ш). Д. Насунов подчиняет поэтическому замыслу каждое слово, стремясь в точности передать величавый покой, естественность и бытие природного мира, состояние умиротворения. Неслучайно автор вводит образ белого коня («пасется тихо белый-белый конь»). У монгольских и тюрских народов кони светлой масти (белой, бело-желтой) считаются священными. Во время калмыцкого праздника начала лета Урюс Сар священнослужители окропляли молоком белых кобылиц; подобный обряд сохраняется у якутов, где во время национального праздника Ысыах, также связанного с началом лета, белых лошадей окропляют кумысом. По сведениям Л. П. Потапова, кочевники приписывали таким коням небесное происхождение и относили к пантеону божеств [Потапов 1977: 164?178]. Определение «белый-белый конь» включает в себя экспрессивный оттенок, в данном контексте подчеркивается не цвет, а чистота, возвышенность чувств, первозданность бытия. Сакральный белый цвет, олицетворяющий в культуре монгольских народов чистоту, благополучие, счастье и используемый «в качестве фактора эмоционального и эстетического воздействия, переносит в литературу свой символический код» [Дампилова 2005: 22]. Именно через образ белого коня создается идиллическая картина стихийной первозданной природы, обнажается ее хрупкость и беззащитность, основной при этом становится мысль о ее первоначальном единстве и органичной связи с человеком. В строках «пасется тихо белый-белый конь» выражена мысль о том, что в мире все ладно, гармонично и спокойно. Кроме того, этот образ, возможно, олицетворяет внутренний мир лирического героя, его состояние успокоенности и безмятежности. Обращение автора к образу белого коня связано, вероятно, с тотемистическим представлением калмыков об этом благородном животном.
Анализ произведений показывает, что образ коня в поэзии Насунова является символом спокойствия, силы, красоты, а также выражением традиционных ценностей калмыцкого народа, важнейшим средством отражения его этнической культуры,, его национального самосознания, мировосприятия, а также некоторых типичных этнопсихологических черт — стойкости, мужества, терпимости, выражением традиционных ценностей калмыцкого народа.
В образной системе калмыцкой поэзии одно из основополагающих мест занимает образ сайгака. В творчестве Д. Насунова, как и других калмыцких поэтов, этот образ часто ключевой в рассмотрении взаимоотношений человека и природы. Данная тема, связанная с бережным отношением к сайгакам, поднималась многими калмыцкими поэтами, например Д. Кугультиновым («Смерть сайгака, или расстрелянное утро»), Г. Кукарекой («Что ждет?», «Сайгаки», «Наша беда», «Моя вина», «Где сайгак?»).
Мировоззрение скотовода-кочевника, как представителя традиционной культуры, глубоко экологично, для него характерны представления об органичном единстве, равнозначности природы и человека. В духовной культуре народа, построенной на традиционной системе взглядов и воззрений, мир антропоцентричен, вся природа одухотворена. В центре этнического пространства — человек с его представлениями, верованиями. Он символически является центром Вселенной, как очаг кибитки, маркирует ее центр. Кочевники с «младенчества усваивали мудрость: будь добр с природой, со степью, бери, не разрушая…» [Хайрулин 1999: 52]. Однако алчность, жестокость по отношению к животным превращают человека в убийцу, заклятого врага природы. Безжалостный браконьер Эмер, пытаясь убить бедное животное, обрекает в итоге себя на смерть, при этом автор акцентирует внимание и на подлости друга, струсившего и покинувшего его в смертный час:
Бросок. И все смешалось на минуту.
И браконьер по имени Эмер, Весь пылью обжигающей окутан, В сайгака бил ножом, но почему-то Себя под сердце ахнул браконьер…
Лежит в степи и дышит хрипловато, Но прочь бежит багровым ковылем, Покинув умиравшего собрата, Добытчик подловато-хитроватый, Тот, что сидел все время за рулем [Насунов 1982: 35].
Люди нарушают священные заповеди предков, и начинается действие закона круговой взаимозависимости. Губя живую природу, человек совершает предательство, зло по отношению к ней, а итогом является трагическая гибель самого человека, неотвратимость наказания, расплата за надругательство над матерью-природой. Такова идея «Степной баллады».
Страшная сцена гибели сайгака показана в стихотворении «Подранок». Бездушный браконьер, издеваясь над раненным животным, пытается загнать его машиной. С гневом описывает Д. Насунов действия озверевшего человека. Обрекая природу на уничтожение, он не задумывается о том, что нельзя брать от нее больше, чем требуется, делая ее источником наживы. Тревожную интонацию в произведении передают олицетворения: «кричала степь», «прыгали барханы», «качалась степь», кроме того, для усиления экспрессивности используется прием тавтологии, окрашенный эмоционально: «спасительные барханы», «спасительная река». Особая лирическая напряженность создается звуковым строем всего произведения, например, повтор резкой, грубой, повторяющейся на протяжении всего текста звука «р» — прием «звукового символизма или ономатопеи, который выражен в повторе звука», как пишет Э. Лубинецкий. «Частое повторение звука [р] — [р,] создает тревожную интонацию и является фонетическим выражением ярости, грубости, трагичности» [Лубинецкий 2007: 117]. Природа требует к себе целомудренного отношения — так прочитывается разрешение конфликта природы и человека, и в этом художественная ценность и пафос произведений Д. Насунова.
Стихотворение «Выстрел», вошедшее в число лучших произведений калмыцкой литературы, посвящено памяти инспектора службы охраны сайгаков Улдису Кнакису, погибшему в расцвете сил при исполнении служебных обязанностей от рук браконьеров. Стихотворение строится на антитезе благородства животного и безответственности человека. Дистантный повтор строк («Что тот, кто нынче выстрелил в сайгака, тот завтра может выстрелить и в нас») в первой части стихотворения, служащего в качестве вступления, обнажает главную мысль автора о том, что суть преступления не меняется того, против кого оно совершено, будь то растение, животное, человек. Экологические проблемы влекут за собой неотвратимые разрушительные процессы, приводят к нарушению морального здоровья человека и общества.
Основная мысль стихотворений Д. Насунова «Степная баллада», «Подранок», «Выстрел» — чтобы сохранить и продолжить жизнь на земле, нужно бережно относиться к ней, сохранять чистоту нравственных устоев. Поэт создает коллективный портрет бесчинствующих «нелюдей-браконьеров», забивающих сайгаков. Нравственно-эстетическая позиция поэта состоит в утверждении личной ответственности каждого человека за все живое на планете.
В калмыцком эпосе «Джангар» верблюд Хавшил, «сохраняя космогоническую характеристику», является ужасающим чудовищем, с которым сражается богатырь. Мифы о небесном (часто огнедышащем) верблюде распространены у различных народов Центральной Азии. Так, верблюд считается ездовым животным бога-громовержца (тенгрия). При этом верблюд был едва ли не самым востребованным и полезным животным в кочевом быту. «Верблюд использовался кочевниками самым универсальным способом: молоко и мясо в качестве пищи, шерсть превращалась в ткань и одежду, шкура — в кожу и ремни, навоз — в топливо. Можно все передать словом „портативный“, созвучный латинской пословице „omnia mea mecum = все свое ношу с собой“, чем мудрость неприхотливости философская знаменовалась. И таков верблюд: зерцало потребности в малом и философской самоудовлетворенности… Кочевник же прост, неприхотлив и аскетичен как верблюд» [Гачев 2002: 73?74].
Столь большое значение верблюда в жизни степняков наряду с его мифологическим образом породили уважительное, бережное отношение к этому животному, которое отразилось в фольклоре, обрядах и современной литературе.
В «Балладе о покинутом верблюжонке» Д. Насунова проникновенно, с любовью к народным обрядам старины, говорится о принятии верблюдицей своего детеныша. Иногда случалось, что новорожденного верблюжонка отказывалась принять мать-верблюдица. Страдания маленького верблюжонка переживались людьми как истинная драма («Проклятая верблюдица! Что делать?/ Как верблюжонку малому помочь? [Насунов 1982: 33]). И лишь «бабки», «наивные, как дети» и в то же время «мудрые», находят особый способ принятия верблюдицей своего верблюжонка: исполняемая ими грустная песня-плач, вбирающая в себя «печаль столетий целых», трогала за сердце матерь-верблюдицу, и она подпускала к себе маленького:
Верблюдицу журили до рассвета Печальной песней, сложенной давно…
Верблюдица внимала ей послушно, Застыла, сострадания полна.
Я не был там, но верю тем старушкам, Что видели, как плакала она [Насунов 1982: 34].
Как отмечает другой калмыцкий поэт К. Эрендженов, описывая этот обряд, «грустную колыбельную» песню степняки исполняли почти до самого утра. Только к рассвету верблюдица, глубоко вздохнув, с крупными слезами на глазах и дрожа всем телом, подходила к верблюжонку. В это время молодые люди поднимали его и подносили к вымени матери… Верблюдица, приняв родного верблюжонка и накормив его, уходила с ним в степь" [Эрендженов 1990: 29]. По случаю принятия верблюдицей своего детеныша, люди устраивали в хотонах своеобразный праздник, веселились от души. Таким образом, опираясь на традиции устного народного творчества Д. Насунов создает произведение, отличающееся неповторимой национальной самобытностью, проникает в народную фольклорную стихию, отражая при этом вековые традиции монгольских народов.
В стихотворении «Бумба» поэт описывает другой калмыцкий обряд — очищение огнем.
Как и все монгольские народы, калмыки относились к огню как к источнику жизни, более того воспринимали его как живое существо, поклонялись хозяину огня, совершая жертвоприношение чаем, маслом, водкой. Оперение обитающих в степи птиц (дроф) они сравнивали со следами пепла от потухшего костра, оставленного предками-кочевниками, преобразовывая, таким образом, традиционный для кочевого сознания образ огня. По обычаю, перед уходом с места стоянки степняки разжигали в двух местах костры, через которые проходили сами, а затем прогоняли скот. Именно это действо упоминается в «Бумбе». Обряд проводился с целью очищения от действий зловредных духов, преодоления их негативных последствий и намерений. Существовала вера в то, что невыполнение обряда очищения огнем влечет за собой беды и невзгоды, добавление соли в костер и возникающий при этом треск и шум символизировали подавление злых духов и их козней. Прием анафоры, используемый в стихотворении, усиливает эмоциональную составляющую и приближает монологический текст к жанру молитвы:
Чтоб не ныли душевные раны, Чтоб остались здесь горе и боль, Чтоб не шла за кочевьем холера, Чтоб не мерла в пути голытьба, И молились, чтоб полною мерой, Оделила их счастьем судьба [Насунов 1982: 42].
Таким образом, творчески осмысляя народные традиции и обычаи, автор воспроизводит подлинную атмосферу жизни народа в недалеком прошлом, давая возможность читателю глубже понять его воззрения, духовные ценности.
В стихотворении «Дядя Федя» говорится о значении калмыцкого чая (джомба) для степняка. Джомба — традиционный напиток калмыцкой кухни, приготовленный особым образом, с добавлением молока, масла, соли, мускатного ореха. Это излюбленный напиток степняка, придающий человеку силы, бодрость духа, согревающий в холода и утоляющий жажду в знойную жару. Много прекрасных слов, посвященных чаю, можно найти в пословицах и поговорках, в сказках, в героическом эпосе «Джангар», а также в произведениях калмыцких поэтов и писателей. Так, в одной из пословиц говорится: «Чай, хоть жидкий, — начало всех блюд. Бумага, хоть и тонкая, — начало науки и учения».
В стихотворении «Дядя Федя» тема чая как символа родины вплетена в другую, сквозную для его творчества тему — депортации калмыков:
И понимал я бабушкину грусть, В тот миг припомнив сказанное ею:
«Без хлеба я неделю продержусь, А вот без чая столько не сумею.
А чай входил, он был уже в сенях, И дядя Федя вырос у порога:
«Я чай принес. Я был вчера в Ложках, Но, правда, чай надпиленный немного [Насунов 1982: 28].
У кочевников существовал в степи древний обычай, согласно которому появление любого гостя в кибитке сопровождалось варкой молочного чая, поскольку «чай всему начало», и только после угощения начиналось общение, любые разговоры. Именно об этой традиции, бережно хранимой калмыками в тяжелый период ссылки: если есть чай — должны быть гости, — говорится в стихотворении. Повтор строки «Обычай древний бережно храня» акцентирует внимание на теме гуманности народных традиций, верность которым помогает сохранить лучшие качества души в любых ситуациях.
В стихотворении звучит еще одна тема — нерасторжимость дружеских уз калмыцкого и русского народов. Через метафорическое словосочетание «А чай входил, он был уже в сенях» вводится еще один герой — сибиряк дядя Федя, который, отдав свой паек и «калоши новые впридачу», привозит друзьям-калмыкам подарок — брикет настоящего плиточного чая. На чужбине, в далекой Сибири, чай для калмыка Ї это символ горячей, неистребимой любви к малой родине, которая ассоциируется с запахами родной степи, кизячного дыма полыни. И русский друг хорошо понимает эту любовь и сочувствует ей.
Стихотворения Д. Насунова («Чуткость», «Дядя Федя» и др.), так же как и посвященные депортации произведения других калмыцких поэтов: Д. Кугультинова, В. Нурова, В. Шуграевой, С. Байдыева, Е. Буджалова, — являются отражением незаживающей раны в душе каждого калмыка, а также выражением исторической памяти народа, которая, как писал Д. Н. Кугультинов, всегда была, есть и будет, пока на земле останется хоть один Человек, ибо Человек без памяти не Человек.
Тема депортации в творчестве Д. Насунова тесно перекликается с темой Великой Отечественной войны, которая, как уже отмечалось, воспринимается автором через связанные с ней впечатления детства и послевоенной юности, оставившие неизгладимый отпечаток в его душе. Одной из своих задач в освоении данной темы поэт считает изображение и осмысление подвига. Так, стихотворение «Где шли бои» посвящено памяти Эрдни Деликова, первого калмыка, получившего звание Героя Советского Союза, погибшего во время обороны Дона от немецких захватчиков. В произведении отчетливо тенденция, как слияние образов поэта и героя, о котором он рассказывает, что придает особую эмоциональную убедительность поэтическому повествованию.
Правдиво и драматично живописуя батальную сцену, Насунов не просто описывает исторические события, но передает сам дух сражения. Он погружает нас в атмосферу войны, густо насыщенную болью, неистовством, ожесточением, страданием, кровью. Силой воображения поэт представляет себя на месте своего героя, каждый нерв и каждая его мысль заняты боем. Мы словно ощущаем тот накал, то напряжение, которое висит в воздухе.
Травой заросшая воронка, Не шелохнется тишина…
И всем доступна эта сопка, А для меня идет война.
Я унесен воображеньем В те полыхающие дни И сам участвую в сраженье, Я не Джангар, а я Эрдни.
Вокруг меня гремят разрывы, И снайпер целится в меня, И по лицу мне хлещет грива, Стрелой летящего коня…
И впереди враги, и справа, И небо нам источник зла…
И взбухшей веной переправа На теле Дона пролегла [Насунов 1982: 22].
Автор раскрывает образ своего героя в его гражданственной, гуманистической сути. Эрдни Деликов предстает носителем высоких нравственных качеств: верности, стойкости, непоколебимой твердости. Это величие проявляется в дерзком бесстрашии, в гордом презрении смерти. Готовность идти до конца — это для поэта высшее начало, которое делает человека человеком:
Фашисты прут осатанело -;
И кто-то бросился бежать.
Мое искромсанное тело Хрипит бойцам: — Не отступать.
Свист бомбы падающей долог, И надо мной все резче он, И в сердце бьет мне тот осколок, Которым Деликов сражен [Насунов 1982: 22].
Через метафорический образ «хрипящего», «искромсанного тела» и саму фразу «не отступать» автор передает всю жестокость и тяжесть сражения. Убедительно показаны мужество, несгибаемость лирического героя, и шире — нравственная сила человека на войне, проявленная в утверждении справедливости, в защите других от грубого, чуждого, страшного, трагического, от всего, того, что несла с собой война.
Описывая подвиг Э. Деликова без пафоса, сохраняя верность суровой правде жизни, Д. Насунов считает своей обязанностью рассказать людям о горькой участи тех, кто не дожил до победы. Прием слияния с образом лирического героя позволяет предать силу и остроту страдания, боли героя и донести мысль о духовных и нравственных связях поколений, позволяющих осознавать значение и уроки потерь:
В раскрытие военной темы Д. Насунов прибегает не только к описанию событий, но и к воссозданию символических сцен и образов. Так, трагизм войны и ее влияние на души людей психологически точно и тонко переданы в стихотворении «Я не забыл, я помню сорок пятый»:
Я не забыл, я помню сорок пятый Далекое таежное село.
Вот на закате в сторону заката Упала женщина неловко, тяжело.
Она, упав, лежала без движенья.
Застывший взгляд и рот полуоткрыт, И на земле белело извещенье Со словом убивающим? «убит» [Насунов 1982: 22].
Поэт напоминает, что война — это не только битвы, сражения, фронт, но тыл, ожидания близких, трудовой подвиг женщин и детей. Образ «лежащей без движенья» женщины — это, безусловно, олицетворение всех солдатских матерей и вдов, потерявших мужей и сыновей в годы Великой Отечественной войны, скорбный символ бездны человеческого горя и непоправимых потерь, неизбежных на войне. Эмоциональную напряженность, трагичность поэтического повествования усиливает эпизод, связанный с проходящим мимо человеком. Он отвергает саму необходимость сочувствия и сострадания, не пытаясь ни понять случившееся, ни помочь. Здесь Насунов поднимает еще одну тему: враждебность войны человеку, сердце которого может ожесточиться, перегореть, не выдержав нравственных нагрузок. В этом тоже, по мнению автора, скрывается обжигающая реальность военных дней, трагизм войны и ее неоднозначное влияние на людей. Таким образом, трагедийное начало, по Насунову, не всегда связано с гибелью героя. Оно — и в искажении морали, нравственности человека, которое приводит к не менее печальным последствиям:
Слоном протопал мимо и изрек:
У, напилась. Не знает меры, стерва.
И женщину поднять нам не помог.
А я был хил, и дедушка был стары, А женщина подняться не могла, И если был в тот день я санитаром, Она бойцом израненным была [Насунов 1982: 21].
Описывая случай, возможно, редкий, но по-своему показательный, автор не конкретизирует, кто это был, он пишет: «какой-то серый тип в тулупе сером», считая, что ценность человека в бою измеряется и его нравственными качествами. Таким образом, особое значение в стихотворении приобретает такая сущностная особенность человеческой личности, воссозданная поэтом, как умение остаться человеком в бесчеловечных обстоятельствах.
В произведениях, посвященных теме войны, поэт через воспроизведение локальных ситуаций и отдельных душевных переживаний показывает истоки стойкости народа, который в минуту самых тяжких испытаний сохраняет гуманизм, патриотизм, нравственную активность, способность к подвигу.
Д. Насунов обращался в своих произведениях и к более далекому историческому прошлому своего народа, осмысляя его непростую, полную драматических коллизий судьбу. Так, например, в стихотворении «Рандул и Галдан» Насунов рисует жестокую борьбу двух династийных группировок за власть после смерти хана Дондук-Омбо, умершего в 1741 г.
Согласно историческим фактам, умирая, торгутский хан Дондук-Омбо назначил своим преемником десятилетнего сына Рандула от своей второй жены, кабардинской княжны Джан (Жан), дочери кабардинского князя Кургоки Атажукина. После смерти Дондук-Омбо в 1741 г. наместником хана стал Дондук-Даши, внук Аюки — и в калмыцких улусах началась борьба за власть. Ханша Джан хотела возвести на престол своего сына Рандула.
Другим явным претендентом на ханство был Галдан-Норбо (Галдан-Нарма), старший сын Дондук-Омбо. По мнению историка, восстание сына против отца носило «скорее характер внутрисемейной ссоры, так как преследовало личную цель ханского сына — захват ханской власти или желание получить в свое распоряжение половину ханства» [Митиров 1998: 182]. Галдан-Норбо неожиданно скончался в июле 1740 г. [Митиров 1998: 186]. Правление Дондук-Омбо долгое время сопровождалось постоянными междоусобицами в битве за ханский трон между родственниками.
В произведении Д. Насунова Рандул возглавляет дербетов, его сводный брат Галдан — племя торгутов. Как отмечает Р. Ханинова, историзм стихотворений Д. Насунова служит более художественным задачам, нежели точному воссозданию исторических событий прошлого калмыцкого народа. Примечательно при этом, что поэт обнаружил и озвучил знание структуры этноса. В условиях советской цензуры, когда интерес к проблеме субэтносов не приветствовалось, это требовало известной смелости и независимости мышления.
Одержимые целью завоевания престола, объятые злобой и ненавистью, братья не прислушиваются к словам своих матерей:
Лязг сабель, визг, воинственные крики, Один другого в поединке сшиб, Вдруг вопль взлетел: «Мы все калмыки За что мы друг на друга! — долгий хрип…
Побитые лежат на поле брани, На волжском льду, что искровавлен весь, Лишь воин одинокий с тяжкой раной На берег лез, на жесткий берег лез.
Убит Галдан расчетливым орудом, С копьем в груди Рандул навек затих, И солнце, словно лик святого Будды, Сквозь тучи смотрит на убитых их [Насунов 1982: 75].
Изображение битвы воссоздано автором через средства художественной речи: «использование специальной лексики (сабля, воинственные крики, поединок, поле брани, искровавлен, тяжелая рана, копье, убитые), приемы поэтической фонетики — аллитерации („И солнце, словно лик святого Будды, / Сквозь тучи смотрит на убитых их“), консонанса — повтора согласного, заканчивающего слово (лязг… визг; лез… лез), звукового символизма или ономатопеи — семантически окрашенного звукового повтора, создающего „слуховой“ образ (выделен в тексте), являющихся фонетическим выражением темы войны, ярости, подчеркивающих жестокость кровопролития» [Лубинецкий 2007: 124]. Ослепленные страстью к власти, ставшие лютыми врагами и до последнего дыхания ненавидящие друг друга, Рандул и Галдан расплачиваются собственной смертью:
Убит Галдан расчетливым ударом, С копьем в груди Рандул навек затих, На волжском льду, искрошенном, кровавом, Они лежат средь воинов своих [Насунов 1982: 75].
Р.М. Ханинова, рассматривая данное произведение Насунова, обращает внимание на семантику и символику Волги «как реки жизни и реки смерти, льда как непрочного фундамента семейных отношений, символа племенных распрей и междоусобиц» [Ханинова 2012: 67]. По мнению исследовательницы, образ Волги способствуют углублению главной идеи произведения. «Погибли оба сына, обескровлены два племени, обессилены войска, участвующие в защите южных рубежей Российской империи. Авторская интенция усилена финальным аккордом: турецкий лазутчик нашел убитых братьев на поле брани, отсек им головы, привез своему падишаху и вытряхнул из мешка, как доказательство межплеменной вражды, которая выгодна врагу» [Ханинова 2012: 67?68].
Впечатляющ и символичен на фоне описываемых событий образ солнца, сравниваемый с «ликом святого Будды» («И солнце, словно лик святого Будды, / Сквозь тучи смотрит на убитых их»)". Уподобление солнца «лику святого Будды» связано не только с общим для них признаком — «светоносностью» [Лубинецкий 2007: 11], но и с обожествлением, которое приобретает данный космоним (солнце) в картине мира не только буддистов, но и других народов. Так, например, в исламе солнце — око аллаха, а для славян — символ Христа [Энциклопедия символов 2004: 465].
«В традициях Востока солнце — это свет Будды» [Энциклопедия символов 2004: 467], поэтому сравнение солнца и Будды, с одной стороны, отражает сострадание, скорбь по пролитой крови, просветление, вносимое в беспросветную тьму отчаяния, а с другой — связана с нравственным ориентиром буддизма, заключающим в своей основе учение о нормах поведения человека. Перечень поступков, связанный с десятью недобродетелями. В данном случае это, во-первых, недобродетели ума — зависть и злонамеренность, проявляемые в посягательстве князей Рандула и Галдана на престол, в их желании завоевать его во что бы то ни стало, а во-вторых, физическая недобродетель — грех убийства, совершенный обоими братьями на почве алчности и ненависти. Таким образом, идейно-нравственная проблематика стихотворения, безусловно, связана с буддийской этикой. Напоминание о Боге вносит в поэму стихотворение высокий нравственно-философский смысл, озаряющий духовный свет, в котором особеноно удручающим выглядит бездуховное, низменное, пошлое содержание душ погибших героев. Кроме того, образы солнца и Будды, подчеркивая драматизм сюжетной ситуации, с особой силой выявляют основную идею произведения Ї о трагизме и бессмысленности любой войны, в которой ненависть, ожесточение, звериная злоба, корысть, страсть к власти нередко сталкивают людей родных по крови и делят их на два непримиримых лагеря, что неизбежно приводит к гибели обоих. Скорбное, молчаливое солнце, проглядывающее из-за туч, присутствует и в «Слове о полку Игореве». И в этом произведении образ небесного светила, традиционно символизирующего жизнь, подчеркивает трагический конец войны, выражает всепоглощающую тоску и глубокую драму происходящего.
Еще одна тема, характерная для творчества Д. Насунова, как и для всей советской, в том числе калмыцкой, литературы 1970;х, это тема дружбы, единства между народами. Она звучит в таких стихотворениях, как «Плясал цыган на тротуаре…», «Татарские друзья», «Гости с Кавказа» и другие. С особой полнотой эта тема раскрыта в стихотворении «Украинскому другу», в котором олицетворением «нерушимого» прекрасного чувства выступает образ круга:
Уверенно натянут каждый лук, И тридцать стрел взлетели в небо вместе.
Воткнувшись в землю образуют круг Те стрелы, возвратясь из поднебесья.
В кругу калмык и добрый гость стоят.
И этот круг — как символ вечной дружбы.
Но позабылся древний наш обряд, Тугие луки нам уже не служат [Насунов 1982: 47].
Форма круга имеет в калмыцкой культуре особое значение, связанное с солярным культом. Символика круга проявляется в обычаях обязательного обхода (чаще троекратного) по направлению движения солнца во всех обрядах, в круговом расположении кибиток у кочевников и многом другом.
Описанное в стихотворение действо имеет аналогию с историческим фактом, имевшим место при встрече Петра I и калмыцкого хана Аюки. Согласно бытующему в народе преданию, после вручения Петром Великим золотой сабли Аюке-хану, хан приказал построиться лучникам в круг и выстрелить. Стрелы, воткнувшись в землю, образовали круг, и хан поклялся, что эта сабля и стрелы всегда будут готовы к защите Отечества. В стихотворении «Украинскому другу» круговое построение несет в себе высокий смысл единения и защиты. Круг является символом сплочения, укрепления «вечной дружбы» между украинским и калмыцким народами, олицетворением «извечного межнационального круга человеческого братства» [Тартаковский 1991: 43], что особенно подчеркивается в заключительных строках произведения, полных неиссякаемого оптимизма:
Дай обниму тебя, мой добрый друг, Когда мы вместе, мы непобедимы.
И крепкий круг тебя обнявших рук Есть символ нашей дружбы нерушимой [Насунов 1982: 47].
Подводя итог, можно сказать, что в своих произведениях Д. Насунов сумел передать традиционные представления о значимых для степняка-кочевника силах, объектах и стереотипах поведения, обусловленных как национальным характером, так и всей духовной культурой народа, что придает его поэзии национальную конкретность и неповторимость.