Поэтика образов дерева и леса в лирике А. Ахматовой и Л. Костенко
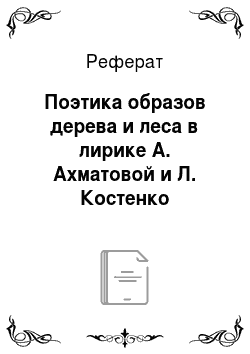
Образы дерева и леса как таковые в лирике А. Ахматовой не представлены как природные феномены, хранители тайн бытия. Более того, эти образы в их обобщающем значении крайне редко являются частью пейзажа и в весьма немногочисленных случаях используются в значениях символических или близких к ним: " … если белым солнцем рая /В лесу осветится тропа… / Я знаю: Это ты, убитый…", «По волнам блуждаю… Читать ещё >
Поэтика образов дерева и леса в лирике А. Ахматовой и Л. Костенко (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Аннотации
Лимонова Л. В. Поетика образів дерева й лісу в ліриці А. Ахматової та Л. Костенко; 21 стор.; кількість бібліографічних джерел — 13; мова — російська.
У статті проаналізовано архетипні, символічні, пейзажні значення образів дерева і лісу в ліриці російської та української поетес. Визначено суттєві відмінності в художньому втіленні цих образів, обумовлені специфікою поетичного світобачення. Підкреслено типологічні паралелі й точки перетину. Детально розглянуто образи дерев, пов’язаних із національною символікою та особливо значущих у ліричному світі А. Ахматової (береза, верба — рос. «ива») та Л. Костенко (калина, верба).
Ключові слова: А. Ахматова, Л. Костенко, образи природи, архетип Світового дерева, символіка лісу, національні символи, тропи; образи берези, «ивы», калини, верби, компаративістика.
Людмила Лимонова.
Поэтика образов дерева и леса в лирике А. Ахматовой и Л. Костенко В статье проанализированы архетипические, символические, пейзажные значения образов дерева и леса в лирике русской и украинской поэтесс. Определены существенные различия в художественном воплощении этих образов, обусловленные спецификой поэтического мировидения. Подчеркнуты типологические параллели и точки соприкосновения. Детально рассмотрены образы деревьев, связанных с национальной символикой и особенно значимых в лирическом мире А. Ахматовой (березы, ивы) и Л. Костенко (калины, вербы). пейзажный образ лирика лес.
Ключевые слова: А. Ахматова, Л. Костенко, образы природы, архетип Мирового дерева, символика леса, национальные символы, тропы; образы березы, ивы, калины, вербы, компаративистика.
Ludmila Limonova.
Poetics of tree and forest images in lyric of A. Akhmatova and L. Kostenko
Archetipic, symbolic, landscape senses of the images of a tree and a forest in Russian and Ukrainian poetess lyrics are analyzed in the article. Essential distincvions in the artistic embodiment of these images are to the specificity of the poetic world-view are indicated. Typological parallels and points of contact are pointed images of the trees connected to the national symbols and particulary significant in the lyric world of A. Achmatova (birck, weeping willow) and L. Kostenko (arrounwood, pusky villow) are examined in detail.
Key words: A. Achmatova, L. Kostenko, images of nature, archetype of the World tree, symbolic of forest, national symbols, images of birch, weeping willow, arrouwood, pussy willow, comparative study/.
Компаративные исследования лирики А. Ахматовой и Л. Костенко дают возможность выявить как типологические параллели, так и яркие черты индивидуального поэтического мировидения каждой из поэтесс. Если художественное осмысление и воплощение таких категорий, как Время, Память, Творчество, вполне сопоставимы на разных уровнях: от философской интерпретации до специфики тропов, — то природные феномены в поэзии А. Ахматовой и Л. Костенко представлены принципиально по-разному. Тем интереснее немногочисленные, но яркие типологические переклички и совпадения, свидетельствующие о родственных чертах лирических систем двух великих поэтесс.
Ни пейзажная, ни натурфилософская лирика не составляют отдельного тематического пласта в поэзии А. Ахматовой, хотя образы природы являются неотъемлемой частью ее художественного мира. Уже у юной Ахматовой, с ее несомненной чуткостью к природе, пейзажные образы неотделимы от сферы чувств лирической героини, при этом «интимная жизнь рисовалась на фоне не только многозначительных связей с вещами, природой, но с городом, с жизнью людей, иногда с историей. Петербург…, Царское Село, Павловск — все это свидетели и участники того, что переживает героиня ахматовской лирики — не как пейзаж, а как неразрывное целое…» [13, с. 163].
Характерная для поэта-акмеиста точность отбора, конкретность пейзажных образов и деталей в сочетании со знаменитой ахматовской лаконичностью в значительной мере присущи и ее зрелому творчеству. Нарастающая метафоризация и символизация образов природы придает им все большую емкость, глубину, многозначность: они естественно вписываются в разные тематические и жанровые контексты (любви, творчества, смерти, истории, воспоминаний, снов, философских медитаций, эпитафий, посвящений), однако практически не становятся выделенными самоценными объектами художественной рефлексии в пределах отдельного стихотворения или цикла.
У Л. Костенко, как и у А. Ахматовой, образы природы гармонично переплетаются с непейзажными темами, являясь частью общей картины мира. Однако, в отличие от ахматовской, лирика природы в поэзии Л. Костенко представляет собой отдельный и очень богатый тематический слой, где удивительным образом сочетаются художническая зоркость и чуткость ко всем проявлениям жизни природы, внимательная и любовная детализация с характерными для натурфилософской лирики глобальностью мировидения и масштабностью образности. Бытие природы в целом и в ее конкретных проявлениях становится объектом художественного осмысления и переживания, источником оригинальной образности и философских обобщений: " Несказанний камертон природи" [6, с.17], " Природа мудра. Все створила мовчки" [6, с. 182], " Одплачеться природа. Їй стане легше…" [9, с. 254], " 1 є природа. І немає смерті. Є тільки різні стадії буття" [9, с. 193].
Говоря о наиболее важных «образных универсалиях» в поэзии А. Ахматовой, соотнося их с проблемой архетипов, исследователи выделяют обычно небо, солнце, звезды, землю, воду, дом, дорогу, не рассматривая в этом аспекте интересующих нас образов дерева и леса, поскольку и в прямом, и в символическом значении они достаточно редко встречаются в ее произведениях. Так, масштабная образность картины мира, воплощенной в лаконичном четверостишии " В каждом древе распятый Господь" [1, с.209], восходит не только к библейскому, но и к более глубинному архетипу Мирового дерева. Родственна ей и сохраненная «злой памятью» в «Мартовской элегии» " … огромных библейских дубов / Полуночная тайная сходка" [1, с. 235]. Однако подобные образы единичны в ахматовской лирике, хотя и позволяют уточнить отдельные характеристики ее поэтического мировидения.
В поэзии же Л. Костенко буквально «оживает архетип Мирового дерева» [11, с.29], именно оживает, материализуется, объединяя в индивидуально-авторской интерпретации прямо названную универсальную духовную сущность с качествами живого природного дерева: " Всесвітнє дерево струснулося дощами./… На цьому дереві і людство-горобець" [9, с. 220]. В основе других образных вариантов лежит идея равенства микрокосмоса и макрокосмоса, согласно которой мировое дерево символизирует человеческую природу: " В лісах блукають згорблені колоси-/дерева, неприкаяні, як ми" [9, с. 32]. Попутно отметим, что фундаментальные символические значения архетипа Мирового дерева заложены и в образах гор («де чорний беркут з крилами наопашки / хребет землі до сонця поверта» [6, с. 180]), и в образах храмов («Мені сниться мій храм. Мені сняться золочені бані. / У високому небі обгорілої віри хрести» [6,с. 198]), поскольку дерево «соответствует Кресту Искупления, и Крест в христианской иконографии часто изображается как Дерево жизни» [4, с. 172], а сама архитектоника храма соответствует трехчастной структуре дерева.
В иронических и даже саркастических контекстах, не снижающих общего трагического тона постановки современных проблем, Л. Костенко использует переосмысленные, сниженные образные варианты библейского Древа познания и Боянова «мысленного дерева», достигая при этом предельной афористической выразительности: " їмо плоди із дерева незнання" [6, с. 547], " Древо мислі вродило — цитати, цитати, цитати" [6, с. 542]. А рядом — и восходящее к дарвинизму: " Душа ще з дерева не злізла" [6, с. 64].
Образы дерева и леса как таковые в лирике А. Ахматовой не представлены как природные феномены, хранители тайн бытия. Более того, эти образы в их обобщающем значении крайне редко являются частью пейзажа и в весьма немногочисленных случаях используются в значениях символических или близких к ним: " … если белым солнцем рая /В лесу осветится тропа… / Я знаю: Это ты, убитый…" [1, с. 132], " По волнам блуждаю и прячусь в лесу, / Мерещусь на чистой эмали…" [1, с. 226]. В «Эпических мотивах» с эпиграфом " Я пою, и лес зеленеет" [1, с. 155] из поэмы Б. Анрепа лирическая героиня в юности " любила только солнце и деревья" [1, с. 156]. В драматическом стихотворении «Все расхищено, предано, продано…» веющий " дыханьями… вишневыми / Небывалый под городом лес" [1, с. 158] дарует предчувствие просветления и чуда. Эпитет «небывалый» выводит образ леса из ряда просто пейзажных и включает в сферу «чудесного», таинственного, желанного. Условен образ леса и в зачине сказочно-автобиографической «Колыбельной» .
Антропоморфизация образов природы, в том числе и леса, деревьев, наиболее ярко выражена в характере метафор и специфических формах диалога, где одним из участников «бывает природа в своих явлениях — „шепот осенний“, „кто-то во мраке дерев незримый“ [3, с. 410]. По верному замечанию В. В. Виноградова, в раннем творчестве А. Ахматовой это — „своеобразный прием эмоционального напряжения, так как героине приходится выслушивать повесть о своей личной драме от сочувствующей природы и откликаться на ее изъявления“ [3, с. 410]. Если в раннем балладном „Сероглазом короле“ » …за окном шелестят тополя: /Нет на земле твоего короля" [1, с. 44], то в позднем творчестве природа — уже не диалогический «двойник» лирической героини, а самостоятельный собеседник: " Для меня комаровские сосны / На своих языках говорят…" [1, с.289] или " Не здороваются, не рады!" [1, с. 279].
Осмысляя природу как вечный источник вдохновения и самой поэзии, раскрывая «тайны ремесла», А. Ахматова иногда обращается к образу леса, включая его в соответствующий образный ряд: " И две в лесу скрестившихся тропинки./Любовно-кротко в сердце берегу" [1, с. 28]; «Подслушать у музыки что-то./ А после подслушать у леса, / У сосен, молчальниц на вид…» [1, с. 190]; «…в этой бездне шепотов и звонов /Встает один, все победивший звук. / Так вкруг него непоправимо тихо, / Что слышно, как в лесу растет трава…» [1, с. 189].
Особого внимания в этом контексте заслуживает «эпитафическая» лирика А. Ахматовой в цикле «Венок мертвым», где «непосредственное обращение и мертвым как к живым обусловливает… установку на диалог» [5, с. 40]. В связи с этим и природный фон, природные реалии как бы двоятся, принадлежа одновременно двум мирам: " И по тропинке я к тебе иду. / И ты смеешься беззаботным смехом. / Но хвойный лес и камыши в пруду / Ответствуют каким-то странным эхом…" [1, с. 240] («Памяти Бориса Пильняка»); " Темная, свежая ветвь бузины… / Это — письмо от Марины" [1, с. 243] («Нас четверо»). Названия произведений адресатов («Воздушные пути» Б. Пастернака и «Бузина» М. Цветаевой) в контексте эпитафии «выполняют еще и роль диалогических посредников», «ветвь бузины» — это «послание оттуда, материализованное через знаковый код природы» [5, с. 44].
В «триптихе», посвященном Б. Пастернаку, в обрамлении библейской и античной образности акцентируется не столько облик поэта, сколько сущность его творчества и связанная с нею масштабность утраты: " …нас покинул собеседник рощ. / Он превратился в жизнь дающий колос / Или в тончайший, им воспетый дождь./ … Но стазу стало тихо на планете." [1, с. 242].
Здесь представляется уместным сопоставление со стихотворением Л. Костенко «Гілочка печалі на могилу Пастернака» из цикла «Силуэты». В жанровом отношении произведения этого цикла достаточно разнообразны, однако некоторые явно тяготеют к «эпитафическому» жанру, сходному с ахматовским, поскольку в пространстве памяти адресат мыслится как живой, а в данном случае автор «озвучивает» голос поэта в форме монолога.
Костенковская «эпитафия» и более интимна — в воссоздании окружающих реалий, жизни на переделкинской даче, размышлений и воспоминаний о поэтах-предшественниках и современниках, и более развернута, подробна в оценке творческой позиции Пастернака: " Мій спір із часом, із державою / не вирішить і куля в лоб. /Хай краще вб’ють мене опричники. / Ліси…" [6, с. 245].
Думается, что далеко не нейтрален здесь и природный контекст, хотя образы берез, обрамляющие монолог, — это, несомненно, часть реального пейзажа, однако их ассоциативный ореол гораздо шире. Дача в Переделкино — " … казковий теремочок / у білих привидах беріз" — это не просто дом поэта, но и его убежище. В общеславянской народной традиции «береза может выступать как „счастливое“ дерево, оберегающее от зла» [2, с. 216], а в народных легендах «береза — благословенное дерево, укрывшее Богородицу и Христа от непогоды… или св. Пятницу от преследований черта» [2, с. 218]. Кроме того, в русской фольклорной и литературной поэтической традиции береза воспринимается как один из национальных символов. А заключительные строки — " І цвинтарик, дес я лежатиму, / обнявши корені беріз" [6, с. 245], — это не только образ пантеистического единства поэта с природой — в жизни и в смерти, — но и знак единства микрои макрокосмоса, поскольку береза в данном контексте может быть интерпретирована как эквивалент Мирового дерева, а слившийся с нею поэт вписывается в эту духовную вертикаль, оставаясь в вечности.
Для А. Ахматовой — не только вследствие тематических предпочтений, но и в силу жизненного опыта, воспитания, культуры — природа, в том числе деревья, рощи, леса, — это, прежде всего природа в городе или в его окрестностях. Это — сады, скверы, парки (именуемые тоже садами), деревья возле дома (гораздо реже — у дороги или в поле), кустарники или ветки за узорной оградой.
Поскольку образ сада в лирике А. Ахматовой и Л. Костенко — это тема отдельного исследования, ограничимся лишь указанием на то, что частично образные значения и функции, которыми в лирике украинской поэтессы наделен лес, в ахматовской поэзии обретает именно сад — Эдем и Элизиум, источник вдохновения, свидетель любовных встреч, хранитель памяти и истории, воплощение красоты и гармонии природы в неразрывной связи с культурой.
Образы дерева и леса в поэзии Л. Костенко, в отличие от ахматовской, весьма значимы и многогранны. Можно сказать, что лес — один из главных «героев» ее лирического мира.
Подчеркнем, что символика леса изначально двойственна: с одной стороны, это — «место изобилия растительной жизни, свободной от всякого контроля и воздействия», с другой — «в противоположность городу, дому и обрабатываемой земле, как безопасным территориям, лес дает приют всевозможным опасностям и демонам, врагам и болезням» [4, с. 289]. По Юнгу лес — «символ бессознательного и его опасностей, но в некоторых традициях…- образ убежища» [12, с. 193]. В лирике обеих поэтесс актуализирована только одна — положительная сторона этих значений.
Тотальная одухотворенность образов природы позволяет говорить о пантеистической составляющей в поэтическом мировоззрении автора. Заметим при этом, что лирике А. Ахматовой пантеистическое начало тоже присуще, но воплощено скорее как отдельный мотив в переплетении с другими, в частности, — любви и смерти.
Как констатация факта звучит утверждение Л. Костенко: " Цей ліс живий. У нього добрі очі" [6, с.51]. Лес наделен человеческими чувствами, речью, памятью, мудростью: " Мене ізмалку люблять всі дерева…/Я знаю їхню мову" [6, с. 50], " Правічну думу думають ліси" [6, с. 328], " Ліси і гори /мудрі як Тагори" [6, с. 265].
Лес — свидетель, хранитель и летописец истории: " Дубовий Нестор…" [6, с. 51], " Сосновий ліс… /…багато знає. / Його послухать сходяться віки" [6, с. 108], " У древлянському лісі на пні сиділа Історія" [6, с. 416].
В костенковском лесу и сейчас обитают мифологические и сказочные существа, неизменно дружественные человеку: " У пнях живуть древлянські ще боги" [9, с. 115], рядом — " бузиновий Пан" [6, с. 50], а «гномики заготовляють дрова» [6, с. 335]. Здесь и созданный поэтическим воображением Сувид — " може, бог лісів" [6, с. 48]. В Карпатах уже " умирають міфи. / Чугайстер щез. Покаялись нявки" [6, с. 180], но спутником и собеседником становится тень Сизифа.
Обращение к глубинным национальным мифологемам в синтезе с литературной интертекстуальностью (М. Коцюбинський, Л. Украинка) дает ростки новых индивидуально-авторских мифов: " Співає ліс захриплими басами", а выше — небесная тишина, " І тільки десь Іванова Марічка / із того світу кличе його: — Йва-а-а!.." [6, с. 63]; наступит " ще одна весна" — " Набіжить весела хмарка./ Ліс безсмертний, як душа./Знов простягне руки Мавка/ і - не знайде Лукаша" [9, с. 139].
На пересечении языческой и христианской символики возникают образы, в которых звучит отголосок исторических сведений о священных рощах славян (а возможно, восходящий и к священным рощам античности). Общепоэтический эпитет «священный» в разных контекстах обретает разные оттенки. Так, у А. Ахматовой в контекстах интимном и автобиографическом он придает символическую значимость личному, индивидуальному опыту: " И наконец ты слово произнес…/… как тот, кто вырвался из плена / И видит сень священную берез" [1, 228], " Покинув рощи родины священной / И дом, где Муза Плача изнывала, / Я, тихая, веселая, жила…" [1, с. 157]. У Л. Костенко в стихотворении «Одкам'янійте, статуї античні!» эпитет «священні» объединяет духовный опыт веков как вечный императив, противостоящий угрозам современного мира, с авторской эмоцией (повтор «мої») и пафосом призыва: " Ліси мої, гаї мої священні! /Пребудьте нам вовіки незнищенні!" [6, с. 76].
Своеобразно преломляется в костенковской образности и соединение почитания деревьев с элементами христианского культа, поскольку «для мифопоэтического сознания славян характерно последовательное сближение дерева и храма как священных мест» [2, с. 183]: " Лісів просвітлений Едем" [6, с. 9], " Ліс стоїть у зливі - як в соборі" [9, с. 227], " А ліс несе у вічність зелені корогви" [9, 80], " сосни пахнуть ладаном / в кадильницях світань" [6, с. 289].
Лес в поэзии Л Костенко — воплощение идеальной красоты («Самі на себе дивляться ліси, / розгублені од власної краси» [6, с. 322]), гармонии, часто подчеркнутой музыкальными образами: в звуках леса слышны голоса скрипки, сопилки, арфы, лиры, органа.
Лес — не только источник вдохновения, он и сам метафорически наделен творческим созидательным потенциалом: " сосновий ліс перебирає струни" [6, 108], " ліс дорогу пише" [9, с. 127], " У лісі ліс виходить з-за куліс./Стоять ансамблі сосен і беріз" [9, с. 215], " Там все друкує ратички й копита / і вишиває хрестиком сніги" [9, с. 115], " риплять дубові кросна, / парчеву зливу виткавши з небес" [9, с. 147].
Лес в одноименном стихотворении выступает как сказочный прообраз идеальной мудрой державы, где " … сонце — найвищий Коран, /І крона — найкраща корона" [6, с. 124]. А еще лес осознается как национальное богатство и национальный символ, неотделимый от других, составляющих образ родины в душе лирической героини, в поэтическом мире Л. Костенко, где природные, национальные, общечеловеческие феномены объединены в поэтическую картину императивным требованием: " Віддайте мені дощ./Віддайте мені ліс і річечку…/… сад і зірку вечорову. /1 в полі сіяча, і вдячну щедрість нив./. Віддайте мені мову, / якою мій народ мене благословив" [6, с. 537].
Глубоко личностное, эмоциональное переживание поэтессой национальных и социальных проблем закономерно распространяется и на весьма болезненные — экологические, осмысленные и в национальном, и в планетарном масштабе. Угроза гибели природы, исходящая от технократического потребительского общества, резко возрастает, приобретает апокалиптические черты после чернобыльской катастрофы.
Развернутые драматические картины, но все-таки с проблеском надежды («Одкам'янійте, статуї античні…», «Ластівки тікають із Європи», «Ми прилетіли вранці у Європу») сменяются более лаконичными и трагедийными в «Летючих катренах» и «Інкрустаціях», и, судя по целому ряду новых произведений в сборнике «Річка Геракліта», тема Чернобыля остается актуальной и мучительной для Л. Костенко.
В русле конкретного исследования мы обратим внимание только на соответствующие тексты, но и этого достаточно, чтобы почувствовать и масштабы трагедии, и глубину боли автора: " Ми — атомні заложники прогресу / Вже в нас нема ні лісу ні небес" [6, с. 260], " Мій добрий ліс моя любове / Тепер ти тільки мої сни…" [6, с. 264], " Загидили ліси і землю занедбали" [6, с. 538], " Поховані чорнобильські ліси! Не забувайте наші голоси!" [9, с. 209], " В лісах тремтять налякані гриби. / З дерев стрибають підозрілі груші. / Епоха зашморгнулась, як Дункан. / Спиніться, люди" [9, с. 77].
Многие стихотворения Л. Костенко о лесе по тону, по эмоциональной окрашенности воспринимаются почти как интимная лирика:" Цілую всі ліси!" [6, с. 10], " На білий вальс запрошую дерева./ О покладіть гілки мені на плечі…" [9, с. 91], " А вже мене ліси ті виглядають,/ і я вже виглядаю ті ліси" [9, с. 125], " Над полем ніч. І над лісами праніч. / Добраніч людям. І лісам добраніч" [8, с. 27].
Это полное взаимопонимание афористически закреплено в строках, выражающих и пантеистическую слиянность с миром природы, и редкостное для современного человека чувство духовной и душевной укорененности в ней, соизмеримости с нею: «Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. / І, може, це і є моя найвища сутність» [6, с. 10].
В этой же образной сфере найдены и поэтические формулы неотделимости поэта от родного народа: я — " мого народу гілочка тернова" [6, с. 17], " Народ не вибирають. /І сам ти — тільки брунька у нього на гіллі" [6, с. 406]. Тем трагичнее звучат поставленные рядом двустишие и одностишие:
Я на планеті дерево людське.
Мене весь час підрубують під корінь.
В мені щодня вбивають Україну. [7].
Обратим внимание и на отдельные образы конкретных деревьев, весьма многообразно представленных в лирике А. Ахматовой и Л. Костенко. Как и другие образы природы, они запечатлены в смене времени суток и времен года, «вписаны» в контекст интимных переживаний, в пространство памяти и истории, став частью уникального художественного мира каждой из поэтесс.
У А. Ахматовой это — ива, береза, сосна, тополь, клен, ель, дуб, рябина, черемуха, ракита, вяз, осина, ольха, черешня и экзотические — кедр, кипарис, мимоза, чинара, персик, гранат. У Л. Костенко — верба, калина, акация, тополь и осокорь, дуб, ясень, клен и явор, липа, бук, граб, сосна, ель («ялина», «ялиця», «смерека»), береза, яблоня, груша (преимущественно — дикая), рябина, шелковица, черешня, орех и тоже редкостные — гинкго, миндаль, агава.
Безусловно, особенно значимы в лирических системах обеих поэтесс образы деревьев, являющихся неотъемлемой частью национальной картины мира, национальной символики. Независимо от контекста такие образы в читательском восприятии ассоциативно связаны с мифологическими, фольклорными, поэтическими, культурными традициями народа. В лирике А. Ахматовой это, прежде всего, береза, в образной системе Л. Костенко — калина и верба.
Общий для обеих поэтесс образ березы, естественно, художественно осмыслен по-разному, однако в его поэтическом воплощении можно выявить и точки соприкосновения. Так, у А. Ахматовой березовая ветка — атрибут обрядовой символики («С душистою веткой березовой /Под Троицу в церкви стоять…») [1, с. 263], береза — часть исторического пейзажа («…вихрь, листы с березы свеяв,/ Кричит и мечется среди ветвей,/А город помнит о судьбе своей:/ Здесь Марфа правила и правил Аракчеев» [1, с. 98]). Горький жизненный опыт, преломляясь даже в восприятии природы, превращает метафорическую деталь в символ времени и эпохи: " И как будто отбывшая срок/ Ковылявшая в поле береза" [1, с. 235], " И гнались за мною/ Сто тысяч берез" [1, с. 290]. В лирике военных лет закономерно актуализируется традиционное для русской поэзии значение образасимвола родины: ". родные березы / Тянут руки, и ждут, и зовут…" [1, с. 200], " Пора, пора к березам…" [1, с. 236].
В стихотворении «Три осени» «танец» берез знаменует наступление ранней осени в природе и в жизни человека. Образ предельно очеловечен, светел, динамичен и одновременно является первым предвестником смерти: " И первыми в танец вступают березы, / Накинув сквозной убор, / Стряхнув второпях мимолетные слезы / На соседку через забор" [1, с. 211]. Так оживляется и трансформируется народная символика, ведь в России береза «символизирует весну, девичество, является эмблемой молодых женщин» [12, с. 24].
В эстетическом аспекте родственны ахматовскому образы Л. Костенко, акцентирующие изящество, гармонию, а также женскую символику березы: " білі вальси радісних беріз" [6, с. 51], " Сосна березі руку подала,/ і тихо йдуть, так наче в полонезі" [8, с. 58]. В уже упомянутом стихотворении «Гілочка печалі на могилу Пастернака» березы — и часть поэтического пейзажа, и многозначный символ. Но чаще в костеновской лирике береза — образная параллель или знак душевных переживаний лирической героини: " Ловлю твоє проміння/ крізь музику беріз" [9, с. 261], " Моя пам’ять плаче над снігами, / де стоять берези і хрести" [9, с. 128], " Подаруй мені, доле, у вікнах березу. Хай спочине душа в оберігах беріз" [8,.
Как национальные символы в поэзии Л. Костенко осмыслены преимущественно калина и верба, также воспринимающиеся в «ауре» культурных традиций, поэтому можно говорить, например, о многогранности и содержательной глубине маленького четверостишия («летючого катрена»), казалось бы, фиксирующего дорожные впечатления и размышления:
Калина міряє коралі а ти летиш по магістралі
Життя — це божевільне раллі
Питаю в долі а що далі? [6, с. 263]
Каждая строка здесь предельно значима, в каждой — новый аспект по этической мысли. Первая определяет контекст вечных и национальных ценностей: калина — символ жизни, Украины, «вогню, сонця; неперервності роду українців;… дівочої чистоти і краси; гармонії життя та природи; … єдності нації; потягу до своїх традицій, звичаїв» [10, с. 63]. Во второй строке акцентируется мотив жизненного пути («магістралі»), а форма выражения субъектности «ти» в значении «всякий, каждый» включает в этот «полет» любого читателя как представителя народа, нации, человечества. Далееобобщенная формула с отнюдь не оптимистическим определением: «Життя — це божевільне раллі». И наконец вечное и сиюминутное, всеобщее и личное объединяются в вопросе лирической героини: " Питаю в долі, а що далі?" [6, с. 263].
Естественная ассоциация сока калины с кровью, преображенная личной памятью, рождает горестный образ: " Із твого невидимого серця/ кров калини капле у сніги" [9, с. 128]. (Ср. с ахматовским: " И окровавлены кусты/ Неспешно зреющей рябины" [1, с. 94]). Интеллектуальный и эмоциональный диапазон костенковского стиха позволяет поэтессе совершенно свободно объединять разные культурные пласты. Так в «Лейтмотиві щастя» полнокровность жизни и любви включает и «любові тропічну зливу», и интертекст гетевского «Фауста», но итог человеческой жизни (как и ее истоки, ее сущность) связан с национальными корнями: " Аж поки мене понесуть із калиною/ туди ну, звідки. Тоді вже що ж…" [6, с. 311], потому что «провожали у вирій на вічний спочинок теж із калиною» [10, с. 63].
Богатым и ярким образным спектром в поэзии Л. Костенко наделена верба — тоже один из символов Украины. В народном сознании верба издавна символизировала долговечность и полноту жизни, была символом Мирового дерева. В средневековой Европе ее считали деревом поэтов, певцов и ораторов. Древние греки посвящали вербу Гекате и Персефоне, связанным с идеей гибели [см.: 10, с. 20]. Эти и другие символические значения образа воплощены в стихотворениях Л. Костенко.
Именно верба «приветствует» в лесу лирическую героиню: " …верба, від крапель кришталева, /мені сказала: «Здрастуй!» [6, с. 50]. В ней воплощена высшаямузыкальнаягармония природы, находящая отклик в человеческой душе: струны дождя " торкне… пальчиком верба./ Сумна арфістко — рученьки вербові!../ Зіграй мені мелодію любові. / … Зіграй усе, що я тебе прошу…" [6, с. 325]. Как вечный символ жизненных сил народа верба связана с его прошлым, настоящим и будущим. Характерная для Л. Костенко идея исторической памяти, которую хранит природа, воплощена по-разному в контексте воспоминаний о героическом прошлом («І тільки верб зеленим водоспадом / стара фортеця пам’ять обніма» [6, с. 391] и в связи с «печальной истиной» («…життя зникає, як ріка Почайна./ …І тільки верби знатимуть старі:/ киян хрестили в ній, а не в Дніпрі» [6, с. 77]). А вплетенный в тему будущего украинского народа мотив Рождества создает очень яркий, неожиданный эффект: образы национальной культуры, фольклора («льоля», «підкова», «доля», «казка») возвышаются до уровня библейских, более того: " Не східні царі, не волхви, не підпаски, — / жоржини прийшли поклонитись йому./ І верби прийшли…" [6, с. 110].
Противоречивость символических значений образа вербы, его потенциальная связь с мотивами гибели, смерти актуализируется в поэзии Л. Костенко в связи с «экологической» и особенно чернобыльской проблематикой и неизменно воплощается в образе черной или сухой вербы: " Ще назва є, а річки вже немає./ Усохли верби." [6, с. 53]; " Чорні верби над ставом./. Цезій гусне в крові" [9, с. 153]; " Страшні корчі вербових ікебан./ Зникаєм, як етруски і ацтеки" [9, с. 154], " На березі Прип’яті спить сатана, / прикинувся, клятий, сухою вербою" [9, с. 207].
В украинском фольклоре верба «оказывается причастной к сфере чудесного, ср., например, мотивы „золотой вербы“ („де не повернешся, золоті верби ростуть“) и „груши на вербе“ [2, с. 213]. Контаминация фольклорных образов в стихотворении о пути Украины, где » на шляхуто прірва, то стіна" , воспринимается как символ не чуда, а кошмара, как крик души поэта: " На вербах золотих вродили дикі груші./ Зникає мій народ, як в розчині кристал" [7].
Пристального внимания заслуживает близкий, но далеко не идентичный образ ивы в поэзии А. Ахматовой. И дело не только в частоте его употребления, но и в особой роли в образной системе. Если в ранней ахматовской лирике ива, как и другие деревья — липа, клен, тополь, — становится частью, образной параллелью, фоном, деталью конкретной лирической ситуации («Ива на небе пустом распластала/ Веер сквозной./Может быть, лучше, что я не стала/ Вашей женой» [1, с. 29]), то позже обретает статус своеобразного природного «двойника» лирической героини, ее спутницы по жизни, начиная с детских лет: " Я лопухи любила и крапиву, / Но больше всех серебряную иву./ И, благодарная, она жила/ Со мной всю жизнь." [1, с. 182]. В стихотворении «Ива» с пушкинским эпиграфом гибель ивы («там пень торчит» ') воспринимается пережившей ее героиней драматично. И хотя трансформированный пушкинский мотив («Другие ивы что-то говорят/ Под нашими, под теми небесами» [1, с. 182]) утверждает идею вечности и непрерывности жизни в смене поколений, но именно та, единственная ива сохранена в поэтической памяти, и торчащий «пень» становится «заветным». После страшных жизненных испытаний, пережитых вместе со всем народом, А. Ахматова упомянет этот образ в строке «Реквиема» среди знаковых в ее жизни мест, но в трансформированной общенародной трагедией системе ценностей дорогой сердцу образ «уступит место» другому. По-ахматовски царственным и трагическим местом «указано» место для памятника, который, возможно, воздвигнут поэтессе «в этой стране»: «… не ставить его / Ни около моря, где я родилась. / … Ни в царском саду у заветного пня. /.А здесь, где стояла я триста часов / И где для меня не открыли засов» [1, с. 300].
Очень важен образ ивы в контексте «царскосельского мифа» А. Ахматовой. Здесь ива — неотъемлемая часть пейзажа («У берега серебряная ива» [1, 212]) и символ связи времен. А потому царскосельская ива обретает бессмертие, запечатленная и преображенная поэзией: " Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли,/ Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ" [1, с. 232]. Царское Село у Ахматовой — один из образных вариантов «сада поэзии», и хотя " все души милых на высоких звездах" [1, с. 212], но их поэтические голоса — Пушкина, Анненского, Гумилева и многих других — живут здесь, ведь даже " .Царскосельский воздух/ Был создан, чтобы песни повторять" . Библейский интертекст вносит в стихотворение ноту неизбывной вековой печали («Здесь столько лир повешено на ветки.»), но эта печаль по-пушкински светла, ведь солнечный дождик — " утешенье и благая весть" [1, с. 212].
" Ивы по берегам Вавилона, на которых иудеи развешивали свои арфы, и плакали, вспоминая Сион (Псалом 136), возможно, и не были плакучими, но в легендах это дерево с тех пор всегда ассоциируется с печалью" [12, с. 125]. В стихотворении «А вы, мои друзья последнего призыва.» ветхозаветный образ «плакучей ивы» как символа погребального плача подчеркивает, что А. Ахматова «свою задачу видит не в пассивной скорби., а в поэтической памяти как сакральном „действе“ воскрешения и спасения мертвых» [5, с. 39]: " Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, /А крикнуть на весь мир все ваши имена!" [1, с. 199]. Более того, отказавшись от названия сборника «Ива» и назвав его «Тростник», поэтесса «модифицировала его жанровый ореол: книга плача стала книгой воскрешения» [5, с. 39].
Наиболее частый ахматовский эпитет, характеризующий и реальный цветовой оттенок ивовой листвы, и его символическую составляющую, «серебряный». К уже процитированным добавим еще один пример: " И ворвалась серебряная ива/ Седым великолепием ветвей" [, с. 186]. Возможные образные ассоциации связаны с символикой серебра («чистота, целомудрие и красноречие» [12, с. 391]), а также представлениями о нем как атрибуте богини луны Артемиды (Дианы) и металле королев.
Поскольку в исследовании больше внимания было уделено архетипическим и символическим значениям образов, обратимся к специфике тропов, выявляющих особенности не столько поэтического мировоззрения, сколько творческого метода, тяготения к определенным приемам художественного воссоздания картин природы.
Так, ахматовская акмеистическая (позже — реалистическая) зоркость, внимание к природным деталям, а также дар лаконизма обусловили точность и конкретность пейзажных образов, часто только названных или сопровожденных единственным эпитетом преимущественно «зрительного» характера. Заметим, что изначальное существование в читательском сознании образов различных деревьев (их очертаний, формы кроны, листьев) позволяет автору обойтись минимальной характеристикой, определяющей объект созерцания по сути («еловая роща» [1, с. 153], " рождественская ель" [1, с. 266]), уместной в контексте произведения («тюремный тополь» [1, с. 296]) или подчеркивающей особенности конкретного образа («корявая ель» [1, с. 35]).
Ахматовские эпитеты (в том числе и цветовые) преимущественно просты и скупы, лишь изредка эмоционально окрашены: клены — " широкие «[1, с. 60], тополя — » высокие" [1, с. 201], " тенистые" [1, с. 115], осенние березы — «жидкие» [1, с. 82]; рябина — " желто-красная" [1, с. 63], листва " бесцветна и тонка" [1, с. 96], " черные елки" [1, с. 95], липа — " сумасшедшая" [1, с. 243].
На этом фоне весьма заметны метафорические эпитеты с оттенком торжественности, возвышенности. Это уже упомянутый излюбленный ахматовский эпитет «серебряный», чаще всего относящийся к иве, реже — к луне («серебряная луна» [1, с. 203]), ассоциативно — к звукам природы, музыки, эмоций («голосом серебряным олень… говорит» [1, с. 62], «голосом серебряным волынка. поет» [1, с. 156], как вариант — плач «серебристый» [1, с. 84]. Из того же ряда липа — «блаженная» [1, с. 255], «царственная» [1, с. 231] и «царственный карлик — гранатовый куст» [1,202], и «заветнейший» кедр [1, с. 224].
Характерным и для поэзии Л. Костенко лаконизмом обусловлено использование сходных с ахматовскими приемов. Так, и в костенковской лирике деревья могут быть просто названы или охарактеризованы единственным уточняющим определением («дві сосни» [9, с. 44], " старі дуби" [9, с. 85], " старий" граб [6, с. 39]) или более ярким эпитетом («рожеві сосни» [6, с. 335], " вишні чорноокі" [6, с. 39], " янтарні спини стовбурів" [9, с. 34], " листя різьблене дубове", «крона царствена сосни» [6, с. 264]). Необычный эффект — прояснения сути явлений — создает ряд тавтологических эпитетов: " Тут сосни соснові, берези березові,/ і люди людяні" [6, с. 411]. Оригинальны и изысканны эпитеты и метафоры, основанные на индивидуальных художественных ассоциациях: " готичні смереки" [6, с. 62], " мовчазлива готика тополі" [6, с. 208], " Будую мовчання, як зал філармонії./ Колонний безсонний смерековий зал" [6, с. 62].
Ахматовское пристрастие к эпитету «серебряный» сопоставимо с использованием в лирике Л. Костенко эпитета «смарагдовий»: " смарагдова діброва" [6, с. 113], " смарагдовий ліс" [6, с. 539], " смарагдова тиша" [6, с. 416] в лесу, а еще — " смарагдові луги" [6, с. 123], гриб " в смарагдовій куфайці" [6, с. 51]. Оба эпитета — «серебряный» и «смарагдовий» метафоричны, но передают и реальный цвет природных объектов, а главное — создают особое впечатление «драгоценной» украшенности пейзажных картин.
Метафоры и сравнения в пейзаже А. Ахматовой своеобразны, часто антропоморфичны, эмоциональны и преимущественно тоже весьма лаконичны: " Тополя тревожно прошуршали,/Нежные их посетили сны" [1, с. 36], " Осень ранняя развесила/ Флаги желтые на вязах" [1, с. 34], " А на закат наложен/ Был белый траур черемух" [1, с. 183], " И застывший навек хоровод/ Надмогильных твоих кипарисов" [1, с. 176], " …высокий клен./. слушает долгий стон." [1, с. 145], " И тополя, как сдвинутые чаши,/ Над нами сразу зазвенят" [1, с. 180].
В лирическом мире Л. Костенко богатый, любовно выписанный пейзаж становится существенной частью большого произведения (например, «Древлянского триптиха»). В основе лирического сюжета отдельного стихотворения может лежать развернутая метафора, обогащенная образными деталями и характеристиками («Ліс», «Цей ліс живий. У нього добрі очі»). Поскольку природный мир в костенковской поэзии представлен многообразнее, чем в ахматовской, то и связанный с ним круг метафор и сравнений шире и функционально богаче. Так, в лесу стоят " храми беріз" [6, с. 124] и " дубів хороми" [9, с. 79], " дерева — як рогаті олені" [9, с. 81], а " плечі сосен в срібних еполетах" [9, с. 124]. Заметны и характерные для поэтессы образы, основанные на мифологических ассоциациях: " .досі моляться Стрибогу/ високі в сонці ясени" [6, с. 123], " І явори просили Христа ради/Хоч жменьку тиші." [6, с. 115]. Более ярко выражено в костеновской метафоре и эмоциональное личностное начало: «У груші був тоненький голосочок,/ вона в дитинство кликала мене./Ми з нею довго в полі говорили…» [6, с. 42], «Сосновий світ здивовано вивчаю» [6, с. 291], «І сосни, сосни, SOS! — тону у їх красі» [9, 79], «Твій силует за соснами, твій голос за ялинами…» [9, с. 80].
Деревья, как и другие природные явления, в поэзии Л. Костенко предельно очеловечены:
" Ідуть мої супутники — тополі" [9, с. 126], " Ходила яблуня і стукала у вікна" [9, с. 119], " Старенька груша дихає на пальці,/ їй, певно, сняться повні жмені груш" [6, с. 41], " І в чорних сльозах стояла,/ в солодких сльозах шовковиця" [6, с. 105], " І дика груша журиться: одна…" [9, с. 37]. В подобных образах запечатлена и драма опустевших, вымирающих сел («Хутір Вишневий»), покинутих хат, забвения истоков, а " бальзам на занедбані душі" - «спогад криниці, і спогад вікна,/ спогад стежини і дикої груші…» [6, с. 15].
Подводя итоги, можно сказать, что интересующие нас образы дерева и леса в ахматовской лирике осмыслены и воплощены прежде всего как пейзажные — в широком диапазоне символических значений, в ореоле библейских реминисценций, мифологических ассоциаций, лирических эмоций, исторической памяти, — оставаясь при этом частью запечатленной картины жизни. В поэзии Л. Костенко — это огромный самоценный мир, очеловеченный и мифологизированный. А потому и исследуемые образы представлены гораздо богаче и многообразнее, как в характеристиках, уже названных в связи с ахматовским пейзажем, так и в натурфилософском осмыслении: и в глобальных архетипических, «космических» и даже апокалиптических образах, и в тончайших нюансах «родовой» и эмоциональной связи человека с природой.
- 1. Ахматова А. А. «Узнают голос мой…»: Стихотворения. Поэмы. Проза. Образ поэта/ Анна Ахматова. — М.: Педагогика, 1989. — 608 с.
- 2. Берегова О. Символы славян/ Ольга Берегова. — М. -СПб.: Диля, 2007. — 425 с.
- 3. Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски) // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. Избранные труды. М., 1976. С. 369—508.
- 4. Керлот Х. Э. Словарь символов/ Х. Э. Керлот. — М.: REFL-book, 1994. — 608 с.
- 5. Кихней Л. Г. Жанровое своеобразие «эпитафической» лирики Ахматовой / Л. Г. Кихней // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. — Вып. 3. — Симферополь: Крымский Архив, 2005. — C. 33−46.
- 6. Костенко Л. В. Вибране/ Ліна Костенко. — К.: Дніпро, 1989. — 559с.
- 7. Костенко Л. В. Коротко — як діагноз/ Ліна Костенко// Літ. Укр. — 1998. — 14 жовтня.
- 8. Костенко Л. В. Мадонна Перехресть/ Ліна Костенко. — К.: Либідь, 2011. — 112 с.
- 9. Костенко Л. В. Річка Геракліта/ Ліна Костенко. — К.: Либідь, 2011. — 336 с.
- 10. Словник символів/ За заг. ред. О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. — К.: Ред. часопису «Народознавство», 1997. — 155 с.
- 11. Ставицька Л. «О скільки слів, і скільки снів мені наснилося.» / Леся Ставицька//Дивослово. — 2000. — № 3. — С. 26−30.
- 12. Трессидер Д. Словарь символов/ Джек Трессидер. — М.: ИТД «Гранд», 2001. — 444 с.