Смерть.
Пустота.
Венецианские стихи И. Бродского
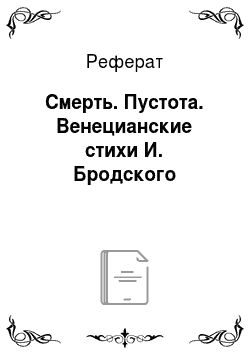
Центральные персонажи стихотворения «С натуры» — это совокупляющиеся на карнизе дворца Минелли голуби. Об этом говорит не только каламбур в названии стихотворения, но и то, что Бродский планировал назвать английский вариант стихотворения «Pigeons». Мы уже говорили о голубях в этом стихотворении в связи с введением личного пространства в публичное; здесь же обратим внимание на другие функции этого… Читать ещё >
Смерть. Пустота. Венецианские стихи И. Бродского (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Подробный разбор мотивов смерти и пустоты сделан, в частности, в биографии поэта, написанной Львом Лосевым, и в статье М. Ю. Лотмана «Поэт и смерть». Последний называет смерть семантической координатой поэтического мира Бродского.
Поэт пережил первый сердечный приступ в 1976 году, а уже два года спустя ему была сделана первая из двух операций на сердце. Как мы видим, не считая «Лагуны» (1973), все венецианские стихотворения Бродского начиная с «Сан-Пьетро» (1977) написаны после его первого сердечного приступа, на фоне обостряющихся проблем со здоровьем. В стихотворениях этого периода мы обнаруживаем постоянные упоминания и рассуждения автора о собственных болезни и смерти. В римском стихотворении 1995 года «Корнелию Долабелле» Бродский метафорически рассуждает о смерти как о способе присоединиться к вечности (представленной мраморными статуями): «И мрамор сужает мою аорту» (II, 224). В 1989 году он начинает стихотворение «Fin de Siиcle» словами:
Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорее — влиянье небытия
на бытие. Охотника, так сказать, на дичь —
будь то сердечная мышца или кирпич. (II, 131)
О собственной смерти Бродский может говорить, испытывая благодарность за прожитую жизнь (например, в «Римских элегиях»), обращаясь к пережившим его современникам (к Постуму в «Письмах римскому другу») или по-горациански рассуждая о долговечности поэтического слова («Aere perennius»). Часты у Бродского упоминания о смерти как о физическом процессе и рассуждения о продолжении жизни после его смерти. Так, мотив «мира без меня» появляется в финале «Венецианских строф (2):
Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня. (II, 65)
Лев Лосев отмечает, что в стихотворениях, написанных после операции на сердце, «исчезли мотивы мрачной резиньяции», характерные для ранних произведений Бродского. Напротив, утверждает друг поэта, тон автора стал жизнерадостным и мажорным. В качестве примера он называет как раз итальянские стихотворения: «Пьяцца Маттеи» (1981), «Римские элегии» (1981), «Венецианские строфы» (1982).
Мотив смерти в Венеции, связанный с апокалиптическими предсказаниями о судьбе города, достигает своего расцвета в новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции» (1912) и одноименном фильме Лукино Висконти (1971). Образ стареющего писателя в Венеции роднит новеллу Томаса Манна с романом Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев». Бродский читал первое и мог читать второе произведение, и не мог не примерять этот образ на себя. Лев Лосев обращает внимание на то, что мотив «смерти в Венеции» мог быть заимствован Бродским не столько у Манна, сколько из классической русской литературы: «между тем знаменитая одноименная новелла написана в период особенно глубокого увлечения Манна „святой русской литературой“, и невозможно представить себе, чтобы такой чуткий читатель, как Манн, не уловил у своего любимого Достоевского этой сложной апокалиптической символики: гибнущая Венеция как самое прекрасное создание гибнущей европейской цивилизации, куда стремится движимый волей к смерти художник». Мотив смерти в Венеции встречается в «Братьях Карамазовых» Достоевского, «Накануне» Тургенева, стихотворениях Вяземского. У последнего, бывшего одним из любимых поэтов Бродского, гондолы сравниваются с гробами: «Экипажи — точно гробы» («Венеция»), «А на гондоле кузов черный / Как гроб страшилищем стоит» («Гондола»). Что касается «Смерти в Венеции», известно, что Бродский невысоко оценивал как книгу, так и фильм:
Потом приятель, давший романы Ренье и умерший год назад, взял меня на полуофициальный просмотр пиратской и потому черно-белой копии «Смерти в Венеции» Висконти с Дирком Богартом. Увы, фильм оказался не первый сорт, да и от самой новеллы я был не в восторге. Тем не менее долгий начальный эпизод с Богартом в пароходном шезлонге заставил меня забыть о мешающих титрах и пожалеть, что у меня нет смертельной болезни; даже сегодня я могу пожалеть об этом.
Несмотря на это, характерно то, что поэт называет «Смерть в Венеции» в числе тех немногочисленных вещей, по которым он составил свое представление о городе, находясь еще в СССР. Отметим и тематическую связь начального эпизода фильма с первыми строками его стихотворения «Посвящается Джироламо Марчелло»:
Однажды я тоже зимою приплыл сюда
из Египта, считая, что буду встречен
на запруженной набережной женой в меховом манто
и в шляпке с вуалью. (II, 143)
Слово «тоже» отсылает — намеренно или нет — к фильму «Смерть в Венеции», герой которого также прибывает в город по воде. Стихотворение повествует об отношениях автора с собственным прошлым, рисуя картину венецианской набережной «тогда» и «сейчас». В прошлом «набережная выглядела бесконечной / и безлюдной»; сейчас же:
Набережная кишит
подростками, болтающими по-арабски.
Вуаль разрослась в паутину слухов,
перешедших впоследствии в сеть морщин,
и болонок давно поглотил их собачий Аушвиц.
Не видать и хозяина
Неслучайно упоминание об исчезновении болонок и хозяина (представляющих прошлое) соседствует с изображением подростков. О том, что Бродский считал перенаселенность планеты главной опасностью для цивилизации, неоднократно пишет Л. Лосев. М. Ю. Лотман отмечает связь образа детей и мотива разрушения в стихотворениях поэта: «о детях обычно говорится не столько в связи с образами зачатия и рождения, сколько с темами вытеснения — дети требуют пространства, тема детей — это тема смены поколений (т. е. опять-таки смерти); дети — своего рода варвары, завоеватели, разрушители, убийцы».
В стихотворении «В Италии» тема смерти, исчезновения человека возникает на фоне мотивов ностальгии и одиночества. В стихотворении описана личная трагедия автора: человеку незачем жить, если его некому любить («Но тех, кто любили меня больше самих себя, / больше нету в живых»). В финале стихотворения автор заговаривает об уходе из жизни, привычным для себя образом говоря о возвышенном с помощью «низших» (по выражению М. Ю. Лотмана) терминов, т. е. геометрии:
Человек, дожив до того момента, когда нельзя
его больше любить, брезгуя плыть противу
бешеного теченья, прячется в перспективу (II, 106).
Смерть как прыжок в перспективу упоминается и в других стихотворениях. В «Похоронах Бобо» появляется идея о связи мотива смерти и образа перспективы (представленной улицей Зодчего Росси в Петербурге):
Твой образ будет, знаю наперед,
в жару и при морозе-ломоносе
не уменьшаться, но наоборот
в неповторимой перспективе Росси. (I, 325)
Подобием «перспективы Росси» является и «бесконечная набережная» из стихотворения «В Италии». Напомним, что речь в этой части стихотворения идет об идеализированном прошлом, а в изображенной Венеции явно проглядывает Петербург. Такая же бесконечная перспектива создается движением аэроплана над покрытым туманом городком из «Сан-Пьетро». При этом перспектива движения аэроплана сравнивается с перспективой гостиничного коридора:
Ровный гул невидимого аэроплана
напоминает жужжание пылесоса
в дальнем конце гостиничного коридора
и поглощает, стихая, свет. (II, 49)
Приведенное выше сравнение напоминает ностальгические описание Ленинграда времен детства поэта из более позднего стихотворения «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки».
В том конце коридора
дребезжал телефон, с трудом оживая после
недавно кончившейся войны. (II, 212)
Сам туман из «Сан-Пьетро» имеет не только функцию обезличивания города, о которой мы говорили ранее, но и ряд других, связанных с мотивом смерти. Туман олицетворяет пустоту, образ которой занимает особое положение в творчестве Бродского. Пустота — это отсутствие жизни, смерть; она означает у Бродского «абсолютный конец, конец всех концов». Белый цвет (цвет тумана) чаще всего означает у Бродского отсутствие цвета, символизируя, таким образом, пустоту. Белому цвету, символизирующему кроме того и бумагу, обычно противопоставлена «чернота» письма. Туман из «Сан-Пьетро» является идеально точной репрезентацией пустоты, «ничто», смерти. Ему противопоставлены черные деревья, которые после ряда оптических иллюзий оказываются оградой, а затем человеком (конечно же, лирическим героем):
Деревья в черном саду ничем
не отличаются от ограды, выглядящей
как человек, которому больше не в чем
и — главное — некому признаваться. (II, 51)
Последнее венецианское стихотворение, написанное в 1995 году, «С натуры», пронизано темой смерти и увядания. Лирический герой страдает головной болью, его легкие представляют собой «сильно скукожившуюся резину». Этими легкими он вдыхает.
чистый, осенне-зимний,
розовый от черепичных кровель
местный воздух, которым вдоволь
не надышаться, особенно — напоследок! (II, 225)

Помимо этого весьма категоричного утверждения, стихотворение содержит следующее лаконичное и ироничное предсказание скорой смерти:
Удары колокола с колокольни,
пустившей в венецианском небе корни,
точно падающие, не достигая
почвы, плоды. Если есть другая
жизнь, кто-то в ней занят сбором
этих вещей. Полагаю, в скором
времени я это выясню. (II, 225)
Здесь Бродский словно переворачивает городской пейзаж с ног на голову (во всяком случае, изменяет направление гравитации). В первой строке вероятна также и отсылка к картине Рене Магритта «Глупость Альмайера».
Подобное происходит и в стихотворении «1983», причем «плодами» как тут, так и в позднем стихотворении, скорее всего, выступают круглые купола Сан-Марко:
Колокола
выпускают в воздух воздушный шар за воздушным шаром (II, 251)

Центральные персонажи стихотворения «С натуры» — это совокупляющиеся на карнизе дворца Минелли голуби. Об этом говорит не только каламбур в названии стихотворения, но и то, что Бродский планировал назвать английский вариант стихотворения «Pigeons». Мы уже говорили о голубях в этом стихотворении в связи с введением личного пространства в публичное; здесь же обратим внимание на другие функции этого образа. С. Турома пишет о том, что «Brodsky uses the utterly worked-out conceit of sexual activity as a metaphor of creativity». Помимо этого, половой акт голубей противопоставлен образу стареющего, умирающего литератора — неотъемлемой составляющей мотива «смерти в Венеции». Наконец, выбор обсценного глагола (по сравнению с английской версией стихотворения, где Бродский использовал нейтральное copulating) служит средством для развенчания привычного поэтического клише.
Итак, в этой главе мы показали разнообразие мотивов в венецианских стихотворениях Бродского. Некоторые из них являются типичными для всего его творчества, но раскрываются по-иному в венецианском топосе. Близость Венеции к воде, ее репутация музея под открытым небом и сходство с Петербургом способствуют тому, что венецианский текст Бродского превращается в средство выражения философских, этических и эстетических взглядов поэта.