Заметки о Марке Шагале
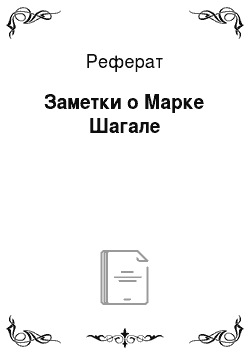
Отстраненное отношение Шагала к мировым событиям может быть чем угодно, но только не равнодушием к своему времени. Быть может, пропитанные болью краски умирающих деревень и бездомных беженцев на полотнах Шагала несут в себе больше печали и страдания, чем прославленная «Герника» Пикассо. Шагалу недостает монументальности потому, что любая жесткая, монументальная форма обязательно растворится… Читать ещё >
Заметки о Марке Шагале (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Марк Шагал. Этот странный художник из Витебска, по общему мнению, является романтиком, живописцем-фольклористом. Одни делают ударение на «детскости» или примитивности его натуры, другие — на его идиллической юности, проведенной в маленьком городе, или на его еврейском происхождении. Но во всех этих объяснениях упущена суть.
Он не принадлежит к тем великим художникам, которые, развиваясь, постепенно вбирают в себя все большие и большие участки внешнего и внутреннего миров. Он также не принадлежит и к художникам — «вулканам», типа Ван Гога, которые восторженно видят рождение нового мира в каждом кипарисовом дереве в Провансе. Но он уникален глубиной своего чувства, которое провело его от поверхностных проявлений его личностного существования до фундаментальных мировых символов — основы всего личностного существования.
Его картины называли поэмами, образами сновидений, подразумевая под этим, что целью его живописи был выход на план, живописи недоступный — даже живописи нашего времени. Пожалуй, только сюрреалисты, которые по этой причине и называют Шагала первым сюрреалистом, ставили перед собой такую же цель, которую, в определенном смысле, можно назвать отсутствием цели. Но (и в этом суть дела) Шагал — не сюрреалист, работающий со слепым бессознательным фрейдистских свободных ассоциаций. В его работах чувствуется глубинная, но ни в коей мере не бесформенная, реальность. Волшебный закон его живописи рожден единством чувств, которое отражено не только в цветовом развитии, но и в отношениях между символами, выстраивающимися вокруг символического центра его картины. Эти символические центры картин Шагала, вне всякого сомнения, являются порождением его бессознательного, а не конструкциями его эго. Создающее его картины сознание следует настроению-бессознательного и вдохновляется им. Единство и убедительность его картин являются выражением того послушания, с которым он относится к намерениям своего бессознательного. Подобно медиуму, защищенному от воздействия окружающего мира, он следует за внутренним голосом, говорящим с ним языком символов.
Здесь мы касаемся главного еврейского парадокса в Шагале: пророчества, которое божество облекает не в словесную форму, как это повелось с незапамятных времен, а в форму таинственного образа — явный признак сдвига, произошедшего в еврейской душе.
Корни языка, а к языку религии пророка это относится более, чем к любому иному, действительно находятся в бессознательном, вместе с его потоком образов; но иудаизм и еврейское пророчество были сформированы этическим аспектом сознания, которое черпало свою главную силу из своего аналога, связанного с главной силой Единого Бога. Властные указания этой пророческой воли настолько обострили намерения стоявших за ней сил бессознательного и настолько раскалили их, что образы утратили свои цвета; разнообразные цветы психической жизни превратились в пепел. Но у Шагала образами и красками впервые говорит то, что зарождается в той же самой психической среде, откуда происходит и еврейское пророчество. В той новой исторической ситуации, в которую попал еврейский народ, и которая трансформирована в глубинах его бессознательного, пророчество говорит на новом языке и обретает новое содержание — начала нового еврейского послания миру. Еврейская душа, загнанная обстоятельствами в раковину изолированности, высвобождается, запускает свои корни глубоко в землю и проявляется в первом новом цветке.
На первый взгляд, в еврейском провинционализме Шагала нет ничего впечатляющего. Фольклор, деревенская идиллия, мелкобуржуазный еврейский городишко, бесконечные детские воспоминания. Кому интересен этот еврейский городишко, эти родственники, молодожены, эксцентрики, скрипачи, праздники, обычаи, субботние свечи, коровы, свитки Торы и деревенские заборы? детство — вот страна, из которой Шагал так и не сумел убежать и в которую он возвращается снова и снова, невзирая на Париж, Европу, мировые войны и революции. Все это может быть очаровательным и трогательным, но кому-то может показаться тошнотворно-сентиментальным. Любой человек имеет право задать вопрос: и это все? Из-за чего весь этот шум? Разве это не еще один вариант современного примитивизма, всего лишь вид яркого, романтического популярного искусства? Шагал не дает ответа; возможно, он и не знает его; он просто улыбается и продолжает рисовать свой яркий мир, те же самые домишки, те же самые детские воспоминания, те же самые цветные фрагменты первых лет его жизни: коров и скрипачей, евреев и ослов, канделябры и невест. Но посреди всего этого — ангелы и луны, пылающие костры и глаз Бога в деревне. Ибо, что есть детство, как не время великих событий; время, когда великие личности находятся рядом и выглядывают из-за угла соседнего дома; время, когда самые сокровенные символы души являются повседневной реальностью и мир все еще светится своим самым глубинным светом. Это детство возвращается в праисторию и обнимает ангелов Авраама также нежно, как и соседского ослика; оно воспринимает свадьбу и поцелуй жениха и невесты с таким же восторгом и в таких же ярких красках, как и весну, и освещенные луной ночи первой любви. В этом детстве личное и сверхличное, близкое и далекое, душа и внешний мир еще не отделены друг от друга; жизнь течет по красивой местности единым потоком, в котором слиты божество и человек, животное и мир. Эта одновременность внешнего и внутреннего, постигающая мир в душе и душу в мире; эта одновременность прошлого и будущего, ощущающая надежду на будущее в далеком прошлом и вину миновавших столетий в боли столетия нынешнего — вот реальность детства Шагала и вечное присутствие первичных образов в его воспоминаниях о Витебске.
По этой причине в его картинах нет верха и низа, нет жестких, неодушевленных вещей, нет границы между человеком и животным, между человеческим и божественным. Пребывая в экстазе любви, человек по-прежнему носит на плечах ослиную голову его животной природы, а ангельское спокойствие сияет посреди роковой смуты. Все картины Шагала пронизаны не преломленным призмой понимания задушевным божественным светом, который в детстве заполняет весь мир; вся реальность становится символом; любой осколочек мира трансформируется в божественную тайну.
Вероятно, Шагал «не знает, что находит на него в его картинах», но сами картины знают это и располагают доказательствами этого знания. В них присутствует бесконечная череда образов любимой; душа, ангел и вдохновляющая сила женского начала. На одном из полотен, художник (который, конечно, ничего не знал об осле Люции, падшем человеке из романа Апулея) изображен с головой осла, стоящим перед мольбертом и поднявшим глаза к женской фигуре души; на другой картине палитру держит сам ангел; еще на одной с мольберта глядит сама душа. Каждый раз он выражает бессознательное знание того, что его руку направляет неземная, сверхличностная сила, которая дает вдохновение и указывает путь земным созданиям. Во всех этих видениях, мужское начало — тупое, звериное и приземленное, в то время, как женское сияет всеми цветами неземной радуги.
Это ударение на женском начале отражает нечто совершенно новое в мироощущении еврейской нации, нравственность и дух которой дотоле были настолько патриархальными, что женское начало, угнетенное и почти презираемое, могло говорить только иносказательно. У Шагала, это не просто компенсирующий противоположный аспект, который вырывается наружу подобно мистическим потокам, бурлящим под поверхностью истории еврейской культуры; Шагал, скорее, является пророком нарождающейся новой реальности, сдвига, происходящего в самых глубинах. И уже одно это дает нам основание говорить о пророческой миссии Шагала.
Заполняющая мир Шагала фигура женской души выходит за пределы его личности, да и за пределы любого современного чисто еврейского комплекса; ибо круг, центр которого она образует, является первичным кругом архетипических символов, типа ночи или луны, невесты или ангела, любимой или матери. Но мать с ребенком поразительно редко находится в центре этих картин, и это характерно для ситуации современного человека и еврея. Похожая на мадонну мать с ребенком, появляющаяся на полотнах Шагала, всегда играла значительную роль в еврейской жизни, как коллективная регенерирующая эмоциональная сила женского начала. Но она всегда оставалась символом коллективных сил и никогда по-настоящему не воплощалась, как индивидуальная женская сила в жизни, или, как женская сила, глубоко укоренившаяся в душе еврея. Но главным является индивидуальное воплощение задушевного и женского в мужчине, и именно в таком виде женское начало появляется в картинах Шагала и доминирует в них: как очертания магической и завораживающей, вдохновляющей и восторженной души, преобразующей мир звездопадом ее красок.
По этой причине в центре его работы находится связь мужского начала с этим типом начала женского; и по этой причине в любовниках Шагала вновь и вновь таинственным образом возникает эта загадочная реальность мира цветов. И Витебск, и Париж Шагала полны этими невестами и женихами, которых он никогда не устает рисовать; в них живет темень ночных прогулок и золотой свет экстаза души. Его осел может ковылять или на крыльях воспарять в высшие царства; в виде гигантского, красного ангела, он может держать чашу священного вина опьянения; а луна оказаться так близко к любовникам, что далекий мост, словно край реальности, обозначит границу преображения, в котором любовники, ангелы и цветы держат друг друга за руки, в котором переплетение порыва и души, человеческого и божественного, цвета и света — это всегда одно и то же свидание, встреча жениха и невесты. Только это — свидание трансцендентального Бога с его женской имманентностью; это встреча refer Shekinach, Бога и души, человека и мира, которая происходит во внутренней реальности каждой живой пары.
Здесь каббалистический и хасидский символизм еврейского мистицизма становится реальностью опьяненного любовью человека, богатая палитра которого свидетельствует, что творческий человек создан по образу Бога, и на картинах которого, изображающих земную человеческую жизнь, творение вечно начинается заново.
Любовники — это Божья печать на мире, печать, которая подтверждает его связь с реальностью человека — радугу новой надежды. Ибо, несмотря на весь ужас и отчаяние всех погромов и распятий, несмотря на все пожары и войны, эта земная жизнь является утешением самого божества, если воспринимать ее как символ, каковым она и является.
Белая корова, лежащая рядом с евреем, завернутым в талис своего одиночества — это умиротворение материнского мира; и в ночной деревне, где низкие домишки бедняков скособочились среди полей и заборов, поблескивает гигантский, широко открытый глаз Бога. Он вечно следит за нами, вечно наблюдает за миром и нами в мире и в нем самом; и везде есть центр реальности, который проявляется в спокойствии, как присутствие Бога. Возможно, женщина, доящая под луной голубую корову, обращает на этот глаз меньше внимания, чем она обращает на цыплят и дома; и, тем не менее, этот глаз доминирует в ночном мире и открывается везде, где создания приходят в себя.
Но мир приходит в себя, главным образом, в ночное время, под луной, когда говорит сокровенное и ломается печать на мире тайны. Именно поэтому ночь является временем экстаза, когда жар-птица души, в виде огненного петуха, похищает женское начало и музыка любовников перестраивает мир в совершенное изначальное единство, из которого он и появился на свет.
И все же этот пылающий внутренний мир Шагала, в котором вещи занимают не свое земное место, а место в душе, место, определенное им сотворением, продолжающимся еще и сейчас — этот мир ни в коем случае не является плодом воображения. Он также не является миром чудес и магических заговоров, посредством которых еврейская нация, молитвами притягивающая к земле время Мессии, летает, в экстазе, над историческим временем реальности. Нет, это земной, реальный мир души, ночные корни которой уходят глубже корней простой земной жизни, к первичному потоку образов, питающему бытие любого живого существа.
В символическом мире Шагала, еврей и христианин, индивидуум и коллектив, примитивное язычество и сложный модернизм слиты в одно неразрывное единство. Убитый погромщиками еврей с его амулетами висит как Христос на Кресте страдания и телега, наполненная перепуганными людьми, покинувшими свой пылающий дом, проезжает мимо распятого, соединяющего свои страдания с их страданиями; ибо жертвоприношения и страдания повсеместны и распятое человечество повсюду висит на Кресте сына Божьего. Но рядом с этим существует языческая жизненная сила животных; баран и осел становятся чем-то вроде Пана далекой языческой эры, в которой ангельское пересекается с божественным. Ибо природа есть жизнь, со всей ее непосредственной полнотой цвета и трагической глубиной, проявляющейся в желаниях, инстинктах и диком опьянении экстаза. Пьяное знание исходит от красного светящегося вина и белого женского тела не в меньшей степени, чем от распятия и свитка Торы, и отчаянная смесь высшего и низшего в человеческой природе становится таинственным совпадением противоположностей в едином центре жизни.
Здесь прошлое и будущее, высшее и низшее сливаются в реальность, напоминающую сон; как в заколдованном лесу Шагала, внешнее и внутреннее появляются, словно зеркальные миры, в которых отражается третий мир, скрывающий свою истинную реальность за ними и в них.
Эта реальность так же жива в молящемся еврее и раввине, как и в жалкой официантке и пьянице, в петухе и усталой лошадке. Преображение чувственности в обнаженных любовниках — это огненный петух, экстатический изгиб которого рассекает ночь; и любовники в лодке или под мостом светятся, как свечи дня отдохновения или красное солнце свадьбы.
Все эти планы скрытого Божьего мира стали видимыми на картинах Шагала; они появились в естественном, то есть божественном сочетании, которое определяет мир души: природная вещь и символ; спектр и реальность; балаган жизни и магия любовников; обнаженное желание и религиозный экстаз; солдаты-мародеры и серебро, этот увертливый соблазнитель души; трубы судного дня и бесконечный караван матерей с детьми, Марий, бегущих в Египет; апокалиптический конец света и Октябрьская Революция; свитки Торы, распятия, канделябры, кудахчущие курицы, возбужденные ослы и лучистые скрипки, музыка которых парит между небом и землей. И постоянная луна.
Божество говорит красками и символами. Они являются сердцевиной мира ощущений и истины, истины сердца, подспудной реальности сна, которая, словно сеть разноцветных вен, пронизывает все существование. Ибо «реальный мир» — это, всего лишь, жалкая иллюзия, которая навязывает себя трезвому; только пьяные глаза творческого человека могут видеть подлинный мир образов. На одной из картин Шагала имеется девиз, который для него воплощал тайну всей подлинной жизни или познания Бога: Devenir tlamme rouge et chaude (Стать пламенем ярким и жарким, (франц.)) Только пламя, страстная преданность, пробуждающая тайную энергию человеческой психики и вызывающая ее извержение, может открыть тайну мира и его божественного сердца.
Но все это не должно восприниматься в пантеистическом смысле; это не всемирное заявление о присутствии божества. Как бы произведения Шагала не были близки еврейскому мистицизму и символам, типа riitlahavut (страстная преданность) и devikut (привязанность к божественному), его работу не следует загонять в такие узкие рамки. Глубина и масштаб откровения соответствуют глубине и масштабу психического замысла, который добился этого откровения, перед которым мир, как целое, впервые предстал в качестве творческого секрета. Подобные намерения и бессознательные озарения мы обнаруживаем в современной живописи, современном искусстве вообще и в современном человеке, — повсюду, где он пробирается в самое сердце реальности. Ибо, реакцией современного человечества на механизированные и бездушные силы, как человека, так и машины, на грозящую удушить мир бездушную механизацию, является бунт души и погружение вовнутрь.
Вторжение и нисхождение души в еврейскую нацию — событие, которое Шагал провозгласил и которым он был одержим — готовилось долго. Прошли тысячи лет, прежде чем божество смогло спуститься с холодного величественного трона всевластного закона, с крутой горы Синай, прежде чем оно смогло пробраться через светящиеся духовные миры каббалистических сфер и трансцендентальных божественных секретов в теплый земной порыв хасидского мистицизма.
Посредством диаспоры, замкнутая еврейская община открылась миру, и это нисхождение в мир, начавшееся с изгнания, в то же самое время, (по крайней мере, такова тайная надежда еврейской судьбы) является восходом новой еврейской психической реальности. Весь этот странный народ, с его соединением нового и старого, примитивизма и четких разграничений, пророческого рвения и земного идеала, крайнего материализма и вечной духовности (Шагал является замечательным выражением всех этих черт), задействован в трансформации. Вновь собравшись вместе перед лицом надвигающегося рока, евреи опять бросают в почву зерна, накопленные ими за столетия изгнания. Это век вырождения и гниения; первичный мир поднимается на поверхность, ангелы падают; но посреди всего этого рождается душа. Но, как и любое рождение, это рождение человеческой души происходит inter urinas et faeces (Между мочой и осадком, (лат.)) Рушатся высшие ценности, раскачиваются канделябры, ангелы тщетно дуют в трубы судного дня и бородатые евреи разворачивают пергаментные свитки Торы. Мир летит в пропасть, тянет все за собой, и эта катастрофа, это распятие воплощается в море крови, насилия, боли и слез. Крематории концентрационных лагерей и нагроможденные мировыми войнами горы трупов — вехи на этом катастрофическом и трансформирующем пути. Ибо, катастрофа — это новое рождение.
Судьба еврейской нации — это судьба Европы, падение Витебска — это падение Парижа, а Вечный жид — это скитающиеся бесчисленные миллионы людей, лишившихся корней, христиан и евреев, нацистов и коммунистов, европейцев и китайцев, сирот и убийц. Миграция индивидуумов, бесконечное бегство из бескрайних пространств Азии в Европу, а оттуда — в Америку, бесконечный поток трансформации, глубина которого неизмерима, а цель и направление неопределимы. Но из этого хаоса и катастрофы встает неожиданно величественное вечное, вековое и, в то же самое время, абсолютно новое. Таинственный свет природы, божественный нимб Шекины, утешающий и целительный женский секрет трансформации, светит не снаружи, а изнутри и снизу.
Отстраненное отношение Шагала к мировым событиям может быть чем угодно, но только не равнодушием к своему времени. Быть может, пропитанные болью краски умирающих деревень и бездомных беженцев на полотнах Шагала несут в себе больше печали и страдания, чем прославленная «Герника» Пикассо. Шагалу недостает монументальности потому, что любая жесткая, монументальная форма обязательно растворится в этом бурлящем потоке эмоций, ибо боль слишком велика и ее непосредственность выдолбит любую четко обозначенную форму изнутри. Это растворение разваливающегося мира, вся почва которого разорвана нулканическими разломами; нормы рушатся, потоки лавы уничтожают существующий порядок, но гейзеры творчества брызжут из страдающей земли. Ибо, в результате этого самого распада, проявляется более глубокий план реальности, открывающий свою тайну тем людям, которые, как и мир, рвутся на части, ощущают его первичный психический источник, который является и их источником. Божественное и человеческое идут по тому же самому пути, мир и человек — это уже не дуальность, в которой один противостоит другому; они являются неразрывным единством. Луна восходит в душе каждого индивидуума и дом, на фронтоне которого открывается глаз божества — это ты сам.
Отстраненность Шагала — это отстраненность влюбленного, всматривающегося в нечто неведомое, которое позволяет ему убедиться в том, что он все еще жив. Это древнее соглашение еврея и человека с Богом, который свободен от каких бы то ни было ограничений и не только предлагает свою помощь, но и приносит себя в жертву каждой нации и каждому индивидууму. В каждом человеке горит Синайский огонь, каждый человек распят на кресте; но каждый человек является также и завершенным творением, и сыном Божьим.
Как порыв души современного человека, в главном прорыв Шагала — это не столько деяние, сколько болезненное ощущение обнаженной истины, касающейся человека, с которым эпоха делает то же самое, что она делает с каждым человеком, по-настоящему живущем в ней. Не остается ничего человеческого за исключением того, что является божественным. Отстраненность Шагала — это ощущение человека, которому открылся божественно-человеческий мир, поскольку земной человеческий мир настолько пронизан ужасом и мучениями трансформации, что он сможет сохранить свои чувства только в том случае, если будет постоянно находиться в самом сердце бытия.
художник умиротворение фольклорист