Иероглифический тип символизации в художественном тексте: На материале поэтики Александра Введенского
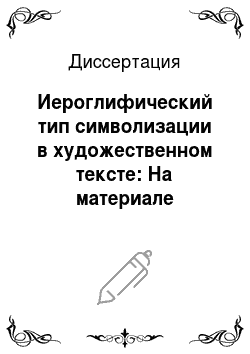
Если бы это было действительно так, то затевать здесь разговор о текстах Пелевина едва ли стоило бы, потому что в таком случае они скорее могли бы быть названы философскими трактатами «в картинках», чем художественными текстами. Но довольно сложная работа с формой в произведениях писателя все же присутствует, главным образом — на уровне организации сюжета. Основной механизм этой работы, на мой… Читать ещё >
Иероглифический тип символизации в художественном тексте: На материале поэтики Александра Введенского (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- 1. Символ в контексте проблемы сознания
- 2. Символ в художественном тексте
- 3. Типы символизации
- 4. Цели и задачи исследования, структура работы
- Глава 1. Иероглифичность: принцип организации поэтики и тип философского дискурса
- 1. Введенский и чинари в контексте эстетических и философских концепций русского авангарда
- 2. Иероглиф как символ особого рода. *
- Глава 2. Диахрония. Эволюция поэтики Введенского как развертка принципа иероглифа"
- 1. Ранние стихи: от стихии литературы к стихии языка
- 2. «Суд ушел»: текст как иероглиф
- 3. Иероглифические функции лирического «Я» и двучленных структур текста в поздних произведениях Введенского
- Глава 3. Синхрония. Структура текста и структура сознания
- 1. «Сюжет переживания» в «Некотором количестве разговоров»
- 2. Время как метатекст в «Елке у Ивановых»
§ 1. Символ в контексте проблемы сознания.
В данной работе речь пойдет о том уровне функционирования художественного текста во взаимодействии с сознанием читателя, который с некоторой долей условности можно обозначить как символический1. Присутствие символического было многократно названо исследователями одним из тех важнейших свойств художественного текста, которые и позволяют выделять его как художественный. И вместе с тем, вопрос о том, что же такое символическое, остается для литературоведения (и вообще для науки) открытым — может быть потому, что возможность «знания» о символе просто-напросто принципиально не находится на той плоскости мышления, по которой обычно движется научная мысль. Подход к разработке этого вопроса, который будет обозначен в этой работе, сформировался в процессе исследования поэтики Введенского. Тексты этого поэта представляют собой явление, в столкновении с которым традиционные методы анализа явно начинают «пробуксовывать». В процессе изучения этого вопроса у меня возникло предположение, что трудности анализа этих текстов напрямую связаны с проблемой понимания символа и что кажущиеся.
1 В вопросе выделения уровней образования смысла художественного текста мне кажется удобным ориентироваться на работы А. Нестерова, который, опираясь на схемы означивания, предложенные Роланом Бартом и Умберто Эко, выделяет в художественном тесте три потенциально доступных восприятию уровня: уровень естественного языка, риторический уровень — уровень, идей, образов и т. д. и символический уровень, трансцендирующий смыслы риторического уровня. См.: Нестеров А. Ю. Проблема символа в литературном произведении: текст и читатель в акте моделирования эстетического объекта. Автореферат дисс. канд филологич. наук. Самара, 2002. мне удачными случаи анализа текстов Введенского могут быть рассмотрены как очень четкая конкретизация того подхода к проблеме символа, который наметился в науке в последнее время, — с появлением посвященных символическому работ М. Мамардашвили и некоторых других исследователей. Работы эти ориентированы на изучение символического не как объективной данности (как структуры текста), а как особого «смысла», порождаемого сознанием, взаимодействующим с объективными структурами текста. Вместе с тем очевидно, что методы выхода на уровень символического в поэтике Введенского совершенно особые, мало общего имеющие с поэтикой традиционной. То есть, применительно к текстам Введенского можно говорить об особом типе символизации (создания символического «значения»). Этот тип символизации назван в данной работе иероглифическим. Как мне хочется надеяться, предпринятое здесь исследование этого типа символизации поможет многое прояснить — как в исследовании творчества Введенского, так и в теории символа в целом.
В той ли иной степени все современные исследователи, уделившие внимание проблеме символа, — А. Ф Лосев2, Э. Кассирер3, Ю. М. Лотман4, Ц. Тодоров5 и др. — оперируют оппозицией символ — знак, чаще всего обозначая символ как знак особого рода, причем особыми оказываются и сам знак, и его означаемое. Говоря об особости знака, обычно отмечают то, что в отличие от обычного знака, форма которого не замечается, поскольку внимание сразу направляется на означаемое, знак-символ вполне может быть воспринят как самоценный вещественно-конкретный образ, способный для неискушенного читателя вовсе заслонить собой свое означаемое. С конкретизацией же особости означаемого начинаются сложности. Оказывается, что разделить символ на знак и означаемое практически невозможно — означаемое не существует отдельно от знака. «Предметный.
I".
2 См.: Лосев А. Ф. Символ и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995.
3 См.: Кассирер Э. Философия символических форм. Т.1−3. М., СПб., 2002.
4 См.: Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М., 1999.
5 См.: Тодоров Цв. Теории символа. М. 1999. образ и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, немыслимые один без другого (ибо смысл теряет вне образа свою явленность, а образ вне смысла рассыпается на свои компоненты), но и разведенные между собой <.> Смысл символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка, он неотделим от структуры образа, не существует в качестве некоей рациональной формулы, которую можно «вложить» в образ и затем извлечь из него" 6, — пишет С. Аверинцев в посвященной символу статье Литературного энциклопедического словаря. «Символ вещи есть тождество, взаимопронизанность означаемой вещи и означающей ее идейной образности, но это символическое тождество есть единораздельная цельность, определенная тем или другим единым принципом, его порождающим и превращающим его в конечный или бесконечный ряд различных закономерно получаемых единичностей, которые и сливаются в общее тождество породившего их принципа или модели как в некий общий для них предел», — пишет А.Ф. Лосев7, тем самым заставляя усомниться в столь решительно сделанном им в начале работы заявлении о том, что всякий символ непременно символ чего-то, какой-то вещи. Получается, что символ скорее создает вещь, чем характеризует ее. И наконец, возникает мысль о том, что символ это не двоичная структура, а троичная, и главным является не символ и не символизируемое, а тот бесконечный поток интерпретаций, который порождают их отношения. «Неисчерпаемая многозначность"8 -определяет С. Бройтман ту особенность символа, которую, каждый по-своему отмечают все исследователи. Все эти построения вызывают очень много вопросов. Так что же все-таки символизируется? Существует ли оно как отдельная сущность? Каким образом существует эта «неисчерпаемая многозначность», что это за «значения»? Что имеется в виду: неисчерпаемость словесных интерпретаций символа, или же то, что.
6 См.: Аверинцев С. С. Символ в искусстве// Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 378−379.
7 Лосев А. Ф. Символ и реалистическое искусство. М., 1995. С. 62−63.
8 С. Н. Бройтман. Символ. //Литературоведческие термины. Материалы к словарю. Вып. 2. Коломна, 1999. С. 77. возможность интерпретировать бесконечно является проекцией на наше словесное мышление какого-то специфического, не семантического значения символа? Тогда что это за значение? Если Лосев говорит о символе как о «внутреннем и внешнем выражении какой-либо идеи"9, то что это за идея, не поддающаяся формулировке в словах, как и где она существует?
Как показал в своей диссертации А. Нестеров10, все эти непроясненности зачастую коренятся в непроясненности или полном игнорировании более общего вопроса — вопроса о том, что такое означивание читателем художественного текста и как оно происходит (то есть, текст анализируется как существующий сам по себе, вне времени и пространства, в отрыве от читателя, в сознании которого он на самом деле только и обретает какой-то смысл). Как не раз отмечалось в традиции рецептивной эстетики, означивание художественного текста не сводится к интерпретации, или к «переводу» текста на свой язык. Эти процессы, конечно, обязательно присутствуют в акте чтения, но если мы говорим о Чтении в полном смысле этого слова, то в конечном итоге читатель означивает текст не словесными интерпретациями, а самим собой, своим состоянием. «Значение текста» возникает в месте «примерки» его структур на метафизическую ситуацию читателя. Рассмотрение А. Нестеровым символа с учетом этого факта — то есть, не как структуры текста, не зависящего ни от чего, а в контексте эстетического объекта, создаваемого сознанием конкретного читателя, — одна из первых попыток применить к литературоведению теорию символа М. К Мамардашвили и А. М. Пятигорского11. Основной тезис этой теории, мне кажется, можно выразить так: значением символа является ничто — то есть, ему не соответствует никакое означаемое, а соответствует 1) состояние сознания, 2) ситуация сознания «как такового», несводимого ни к какому своему содержанию. Такой подход к символу меняет многое — меняет, на.
9 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995. С. 25.
10 См.: Нестеров А. Ю. Проблема символа в литературном произведении: текст и читатель в акте моделирования эстетического объекта. Дисс. канд филологич. наук. Самара. 2002.
11 См.: Мамардашвили М. К., Пятигорский A.M. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. мой взгляд, прежде всего тем, что теперь мы не можем мыслить текст без учета временности акта чтения — то есть, без учета «сейчас» читателя, без учета собственного «здесь и сейчас» — в котором текст только и существует как имеющее смысл целое. (Текст как «объективная реальность» — это просто последовательность букв на сшитых вместе листах бумаги). Следует, однако, сразу оговориться, что такая интерпретация значения символа как отсутствия любого значения нисколько не отрицает вещественности самого образа, который мы склонны наделять символическим значением. Наоборот, здесь речь идет о том, чтобы перестать воспринимать образ (например, свечу, о которой речь пойдет далее) как означающее, которому должно соответствовать какое-то специфическое означаемое — не важно, как его называют разные теории — сверхсмысл или множественность смыслов. Речь идет о том, что есть чувственно воспринимаемый образ, вокруг которого возможна организация особого состояния нашего сознания (включая, сюда, разумеется, и семантические структуры — «смыслы»). Это состояние сознания и можно назвать «значением» символа.
Конкретизируя механизм образования «значения» символа, Мамардашвили и Пятигорский разводят понятия состояния сознания и структуры сознания. Состояние сознания — это нечто привязанное к субъекту, но бессодержательное. То есть, по Мамардашвили-Пятигорскому, есть зрение и есть состояние сознания «осознание зрения», не тождественное содержанию зрения, есть чтение и есть соответствующее этому процессу состояние сознания, не тождественное тому, что мы читаем. Кроме того, возможны состояния сознания, которым не соответствует никакое содержание (и это момент принципиальный) — в буддизме они обозначаются словом «пустота» — то есть, переживание чистого сознания как такового, не связанного ни с какими психологическими процессами. Структуру же сознания философы определяют так: «структура сознания — то содержательное, устойчивое расположение «места сознания», которое обнаруживается в связи с состоянием сознания с точки зрения сферы.
12 -г сознания". Го есть, структура сознания — это некая «реальность», то, как со всеми фактами, данными нашей психике, «дело обстоит» с точки зрения сознания. Есть, например, говорят философы, такая структура сознания «смерть» или «человек — смертен». Но то, что осознает смерть — бессмертно, поэтому эта структура может быть обозначена и оппозицией «смерть-бессмертие». Следует еще раз подчеркнуть, что здесь речь не идет о логических конструкциях — речь идет об осознании, например, процесса умирания. Есть некий мыслительный автоматизм, благодаря которому мы мыслим себя как субъект и все «остальное» как объект, и есть открывающаяся при трансценденции (то есть, осознании) этого автоматизма структура сознания «субъект-объект» или «нет ни субъекта, ни объекта». Для Ницше, по мнению философов, оппозиция Аполлона и Диониса была структурой сознания. Именно чтобы подчеркнуть, что речь не идет о создании новых мыслительных конструкций, авторы «.рассуждения о символе» вводят термин «метатеория», противопоставляя его теории, как системе логических выводов. Результат метатеории содержится не в «выводах» (хотя они тоже делаются), и не в анализе каких-то явлений психики (хотя он присутствует), а только может случиться на уровне сознания — в процессе анализа или в акте чтения текста, созданного по следам такого анализа. То есть, метатеория сама в некотором смысле является символом, дающим сознанию возможность случиться. Мы постараемся придерживаться подобной же методы.
Таким образом, Мамардашвили и Пятигорский говорят о символе как о вещи, «одним концом» погруженной в психику, а другим — в сознание и дающей возможность психике быть включенной в сознание, трансцендировать самое себя. «Символ — это вещь, обладающая способностью индуцировать состояния сознания, через которые психика индивида включается в определенные содержания (структуры) сознания. Или так: при аккумуляции психикой индивида определенных состояний сознания.
12 Там же. С. 77. символ обнаруживает способность введения психики в определенные.
13 структуры сознания". Так, философы говорят о трупе, который в буддийской философии воспринимался как символ и так раскрывают механизм «работы» этого символа: «. в древнейших буддийских текстах на пали труп называли «глупая вещь». в особой разновидности медитации (так называемая медитации «над трупом» или «на трупе») йог знает, что трупэто «всего лишь вещь», а не нечто большее, связанное с каким-то сознательным личностным началом, если таковое есть (ибо смерть прерывает эту связь). Но это — «глупая вещь», ибо твое личностное начало так же нереально, как труп, созерцание которого приучит тебя к нереальности твоего «Я», и к реальности того, что ты — не сущность, а вещь (как этот труп). Но то, что это так, есть сознание (не твое или мое, а — сознание), и потому труп не только орудие йоги (посредством которого ты входишь в структуру сознания «смерть»), но и вещь, относящаяся к сознанию, то есть символ"14.
Заключение
.
§ 1. Поэтика Введенского как единая система.
В этой работе наиболее детальному анализу подверглись три текста Введенского. Показательно, что все они кончаются, в общем, одинаководверью. В «Елке у Ивановых» и в «Суд ушел» мотив двери открыто появляется в конце текста, в «Некотором количестве разговоров» герой шагает за пределы какой-то ограниченности — то есть тоже, можно сказать, выходит в какую-то дверь. Превращение текста со всеми содержащимися в нем структурами в дверь, ведущую за пределы этих самых структур (то есть в иероглиф), и является, как мне кажется, основной целью Введенского. В этом смысле можно говорить о принципе иероглифа в поэтике Введенского, как об ориентации его мировоззрения на освобождение сознания от ограничений языкового мышления, так и как об основном приеме осуществления освобождения в тексте. Прием этот заключаетсяся в замыкании структуры любой сложности на саму себя (не мысль о мире, а мысль, которая и есть мир, не описание действия, а описание, тождественное действию), и превращении таким образом составляющих ее значащих оппозиций в незначащие, обнаружения недостаточности возможностей нашего мышления для создания цельной картины мираза этим обнаружением может последовать освобождение сознания от любых картин мира вообще. Раз наши представления о мире из значащих вдруг превратились в незначащие, мы можем перестать с ними отождествляться.
Стремление постепенно включить в этот процесс превращения все наши «обыденные взгляды» и «исходные обобщения» и определяет эволюцию поэтики Введенского. И только в связи с этим стремлением «за пределы» и можно говорить о лиризме Введенского. На примере стихотворения «Суд ушел» мы видели, что нечто подобное лирическому «я» в стихотворении появляется только с обнаружением героем своей нетождественности ни одной из противоположностей, на которые делит мир разум. Это переживание своей нетождественности ничему, никаким ментальным структурам, только и может быть названо неопосредованным лирическим переживанием в стихах Введенского. Все остальное — так или иначе ложь, миф, галлюцинация, и так это и изображается Введенским. Да и это переживание, по Введенскому, только дверь, через которую можно шагнуть — куда? Возможно, последние произведения поэта какой-то намек на ответ на этот вопрос. Они, как я пытался показать в этой работе, ориентированы уже не столько на «поэтическую критику разума», сколько на чистое пространство сознания, из которого возможен не «омраченный» взгляд на язык и мышлениепотому что они уже никого не связывают — потому, что некого больше связывать. Это та стадия, когда в вопросе исчез сам вопрошающий, а с ним и вопрос. Осталось чистое пространство, наполненное теми же «исходными обобщениями», которые теперь никого не связывают. В нем присутствуют и желание жить, и страх смерти, и осознание своего я, но, как это ни парадоксально, они теперь не привязаны к какой-то личности, которая переживала бы эти желания как свои.
И тогда отпадает необходимость делать из слова иероглиф. Если удалось окончательно выйти за пределы языка, зачем бороться с языком? Так Введенский в последних стихотворениях приходит к формам образности, близким к традиционным, а от «внеэмоционального искусства» возвращается в чувству. Когда прощание с языком и мышлением окончательно совершается, человек оказывается в точке, где даже смерть уже просто смысл, за пределы которого он вышел. И дуализм слова и действия, мысли и мира окончательно исчезает. Все сущее становится тем, чем оно всегда и было — текстом, ничего не выражающим, а просто существующим и потому прекрасным независимо от того, говорится в нем о радости или страдании, о жизни или о смерти. Все творчество Введенского, (да и вся жизнь, не случайно в стихотворении «Где. Когда», которое написано поэтом незадолго до смерти, появляется оговорка «Я забыл попрощаться с прочим, то есть он забыл попрощаться с прочим») — путь к этому мгновению.
§ 2. Иероглифическая символизация в литературе 20-го века. Введенский и Пелевин. Иероглифические функции элементов жанра притчи и басни в романе «Жизнь насекомых».
В завершение работы скажем несколько слов том, как очерченная в данной работе иероглифическая метатеория может быть использована как инструмент для осмысления других явлений литературы 20го века. На мой взгляд, достоинством такого подхода может считаться то, что при его применении наиболее близкими Введенскому окажутся произведения, формально имеющие очень мало общего с поэзией Введенского — что, надеюсь, свидетельствует о глубине уровня, на котором может происходить осмысление текста. Например, перфомансы группы московских концептуалистов «Коллективные действия», описанные в машинописных книгах основателя группы Андрея Монастырского, и ставшие доступными широкой общественности", благодаря, например, статье Бориса Гройса.
Московский романтический концептуализм"111, книге Екатерины.
Бобринской «Русский авангард: Истоки и метаморфозы».
Уже место проведения некоторых из этих перфомансов — на границе поля и леса — апеллирует к мифологическим символическим структурам, а через них — к первичному символу, связанному с троичными структурами.
111 Гройс Б. Московский романтический концептуализм //А-Я. 1979. № 1. С. 4−12.
112 Бобринская Е. Из истории московского концептуализма // Русский авангард: Истоки и метаморфозы. М. 2003. С. 210−228.
Человек на границе поля и леса и есть тот «третий» — посредник между двумя мирами, не обусловленный ни одним из них — то есть, не обусловленный ничем. И именно на переживание, высвечивающее автоматизмы нашего мышления, и ориентированы перформансы «Коллективных действий». При этом важно то, что никаких «новых мыслей» взамен старых участникам акций не предлагается. То, что они могут получить, в чем-то сродни голосу «объективного мира» в поздних стихах Введенского — это ощущение стоящей «рядом» реальности, о которой ничего нельзя сказать кроме того, что она есть. Например, некий прибор, представляющий собой черный кубик с приделанной к небу трубой и кнопкой на ней. Участнику мини-акции предлагалось заглянуть в трубу и нажать на кнопку. Человек заглядывал в черноту трубы, нажимал на кнопку — и раздавался звонок. Вместо ожидаемого зрительного впечатления человек получал звуковое. Звук в этот момент оказывался некоей реальностью, не вписанной в структуру мышления, но, тем не менее, существующей. Переживание легкого шока, когда человек осознает собственные ожидания, и есть мгновение «чистого бытия», когда субъект выпадет из системы мышления в поле чистого осознания, которое он не успевает сразу же заполнить какими-то новыми конструктами.
Еще красноречивее акция «Либлих», очень поэтично описанная автором" большинства перформансов группы Андреем монастырским.
В разосланных приглашениях предлагалось посетить «Либлих». До прихода зрителей (25 человек) в центре Измайловского поля под снег был зарыт включенный электрический звонок, который оставался звенеть и после ухода зрителей и участников с поля"113. Как явствует из описания акции, то, что делали ее участники в парке, было абсолютно неважно. Звук невидимого звонка в таком случае может быть «услышан» как символ чистого сознания, в поле которого каждый из нас появляется с рождением и из которого рано.
113 Монастырский А. Поездки за город. T.I. Машинопись. Цитируется по Бобринская Е. Из истории московского концептуализма // Русский авангард: Истоки и метаморфозы. М. 2003. С. 212. или поздно уходит со смертью — но оно, это поле, никак не зависит от наших психических механизмов. (Ср. со временем в «Елке у Ивановых») При этом важно то, что, хотя данная акция легко может быть подведена под концепцию, подобную изложенной предложением выше, эта концепция не объясняет переживание, а лишь заостряет его. Чем объяснимее механизм работы символа, тем отчетливее не укладывается в наше мышление то, на что он указывает. То есть, концепция лишь ориентирует мышление так, чтобы переживание могло случиться. А без такой ориентированности мышления (вот еще одно немаловажное сходство с иероглифами Введенского) подобные акции полностью бессмысленны — они могут быть восприняты или как апеллирующие к сознанию, или никак.
Но самым близким Введенскому явлением окажется при таком подходе к тексту творчество Виктора Пелевина. Перефразируя Введенского, все творчество этого писателя можно назвать «прозаической критикой разума». При этом методы, которыми эта критика осуществляются, при всей их несхожести со стихами Введенского, как мне кажется, все же имеют с методами поэта общие корни. Мысль о возможности сравнения Пелевина и Введенского возникла у автора данного исследования давно, а с выходом последнего сборника писателя появились и формальные основания для такого сопоставления — весь сборник открывается поэтическим текстом (говоря субъективно, весьма сомнительного качества) под названием «Элегия 2», с эпиграфом, напрямую отсылающем к эпиграфу «Элегии» Введенского: «Вот так придумывал телегу я// О том, как пишется элегия» (ср. у Введенского: «Так сочинилась мной элегия// о том, как ехал на телеге я»). Кроме того, вошедший в сборник роман «Числа» предварен эпиграфом из «Случаев» Хармса.
Но то, что действительно позволяет говорить о применимости к творчеству писателя термина «иероглифический тип символизации», обнаруживается, конечно же, не на уровне цитат из Введенского, а, например, в ходе анализа фабул произведений писателя. Все (без исключения!) фабулы Пелевина можно свести к следующей основе: герой живет в абсолютно неправдоподобном, виртуальном мире, который, однако, всеми его обитателями принимается за единственно реальный. Где-то на горизонте маячит (часто не осознаваемая героем) возможность вырваться из этого мира, но как это сделать, и кто это будет делать, если «я» героя — тоже часть виртуального мира? С предельной заостренностью эта проблема формулирована в эпизоде романа «Жизнь насекомых», когда героя душит его собственный труп. Чем активнее герой борется с ним, тем сильнее труп сдавливает его горло, спасение приходит, когда герой понимает, что борется за свою жизнь, придумывает способ освободиться и вообще думает все его мысли на самом деле не он, а труп. Но кто тогда сам герой? Этот вопрос уводит в плоскость, не определимую словесным мышлением, которое безраздельно принадлежит трупу. Этот эпизод, на мой взгляд, хорошо отражает и бескомпромиссность писателя, для которого ни одна измеряемая словами ценность не является ценностью — что, опять же заставляет вспомнить Введенского. В мире Пелевина просто нет положительных героев, есть, если применять классификацию Введенского, правильные (их очень мало) и неправильные (их большинство). «Правильные» — те кто, понял, что все ценности его мира виртуальны и ищет способ понять «как на самом деле», «неправильные» — все остальные, хорошие и плохие, добрые и злые, развратники и столпы нравственности — все они, с точки зрения «снаружи», спят и видят сны — не важно, хорошие или плохие. Метафор, конкретизирующих эту картину мира в конкретных текстах, бесчисленное множество. В «Желтой стреле» это бесконечный поезд, который никогда не останавливается и в котором проходит вся жизнь героя (тут очень законной кажется параллель с каретой в «Некотором количестве разговоров», которая символизирует ограниченность мышления героев, их моделей мира), в «Затворнике и Шестипалом» это бройлерный комбинат, который воспринимается выращиваемыми на нем курами как гармонично устроенная вселенная, — с таинственными светилами (лампы), с богами (рабочие комбината) и даже с загробным миром, где грешников жарят на сковородах, запекают в духовках, варят и т. д.- в «Принце Госплана» это мир компьютерной игры «Принц», в «Спи» это просто сны, которые все население земли видит круглосуточнов романе «Числа» это отношения двух чисел: «хорошего» 34 и «плохого» 43, сообразуясь с которыми герой действует буквально во всех сферах своей жизни. Вырваться из такой системы кажется невозможным, потому что герой принимает за реальный мир то, что у него внутри — слова и понятия (в том числе и о собственном я). «Чтобы сойти с поезда, нужен билет. Ты его держишь в руках, но кому ты его предъявишь?» — над этим размышляет герой «Желтой стрелы». А нужно «всего лишь» перестать отождествляться с системами, и тогда, как и у Введенского в последних стихах, мысли остаются мыслями, но они никого уже не ограничивают — герой просто обнаруживает, что поезд стоит. Он и был поездом.
То есть, здесь мы находим, в сущности, тот же прием, что и Введенского: любая знаковая структура изображается как указывающая не на реальность, а на саму себя, реальность же вообще становится чем-то находящимся за скобками любых знаковых структур. Только у Введенского данный принцип проявляется чаще всего на уровне организации текстаустановка автора определяет способ пользования знаковыми структурами, у Пелевина же знаковые структуры скорее являются объектом изображении, «действующими лицами» произведения. При этом слов (то есть тоже знаковых структур), с помощью которых он описывает отношения знаковых структур, писатель «как бы» не замечает — отсюда установившееся среди некоторых критиков убеждение, что Пелевин пишет языком школьного сочинения.
Если бы это было действительно так, то затевать здесь разговор о текстах Пелевина едва ли стоило бы, потому что в таком случае они скорее могли бы быть названы философскими трактатами «в картинках», чем художественными текстами. Но довольно сложная работа с формой в произведениях писателя все же присутствует, главным образом — на уровне организации сюжета. Основной механизм этой работы, на мой взгляд чем-то близок методу работы Введенского с двоичными структурами. То есть: большинство структур у Пелевина вводятся в текст так, что при изменении точки зрения они могут превратиться во что-то совершенно иное, наполниться совершенно другим смыслом. Точка зрения, из которой «видны» оба смысла структуры, и есть «третий» в этом двоичном миреточка возможного сознания, точка, на которую указывает вопрос: «а как на самом деле?». Так, в «Где. Когда» Введенского деревья, река, камни появляются сначала увиденные героем, после его смерти они начинают «говорить себя» сами, и, наконец, в конце текста голос героя и голос мира сливаются, объединенные точкой «когда». В текстах Пелевина эти три голоса часто реализуются за счет изменения точки зрения (или возможности изменения точки зрения) на один и тот же голос. Так, в рассказе «Гость на празднике Бон"114 перед нами разворачивается история жизни Юкио Мисимы, вернее, история пути Мисимы к смерти. Мисима полагает, что самоубийство — апофеоз, кульминационная точка его жизни, когда он получает возможность поставить себя выше Бога, ведь Бог — его мысль, и уничтожая себя, он убивает и Бога. И только в момент смерти Мисима обнаруживает, что на самом деле это он был мыслью Бога, и вот теперь мысль исчезает, а Бог (он же пустота) — остается. Мало того, Мисима понимает, что он всегда и был Богом, который почему-то принимал себя за мысль, которую он думает. Другой способ переозначивания структурывведение в текст мифологических символов. Так, в романе «Поколение П» возможность двух точек зрения на структуру создается уже заглавием, которое может быть прочитано как «Поколение Пепси» (в соответствии именно с этим прочтением и строят свою жизнь герои) и «Поколение Пи». Пи, как известно, — иррациональное число, выражающее отношение длины.
114 Пелевин В. Гость на празднике Бон// Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда. М. 2003. С. 355−370. окружности к радиусу, то есть, на символическом уровне выражающее бесконечность микрокосма. Эта возможность двойного прочтения создается и введением в текст романа галлюцинаций героя, в которых он, например, видит древневавилонского бога богатства в виде рыбака, держащего в руках нити, по которым все выше (и все ближе к своей гибели) забираются бесчисленные рыбы — человеческие души. При этом рыбы полагают, что подняться по нити как можно выше — благо и отчаянно борются за эту возможность. Это видение придает некое зловещее измерение борьбе героев за наиболее высокое место под солнцем. При этом что-то изменить не представляется возможным: по нити можно или подниматься, или спускаться, что ничем не лучше. Проблему можно решить, только осознав, что ты — не рыба, насаженная на нить, но это означает полное разотождествление со своими мыслями.
При этом, конечно, стоит оговориться о существенной разнице между Введенским и Пелевиным: поэтическая система и мировоззрение Введенского сложились, судя по всему, главным образом в процессе наблюдений поэта над языком и мышлением, система же Пелевина во многом пришла к нему в готовом виде — вместе с буддийской философиейпоэтому она более предсказуема. Это отмечает Сергей Корнев, в своей статье «Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим?"115 говорящий о том, что все, написанное Пелевиным, «и буквально и по духу вполне укладывается в ортодоксальную традицию Махаяны», и «разоблачающий» скрывшегося под маской постмодерниста классического русского писателя-идеолога. С моей точки зрения скорбь Корнева по поводу мировоззрения Пелевина, обесценивающего все достоинства его прозы, самим же Корневым столь убедительно описанные, несколько непонятна, — по той простой причине, что даже если писателю и «не повезло» познакомиться с буддийской философией и таким образом.
115 Корнев С. Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим?// НЛО, N. 28 (1997). С. 244−259. лишиться возможности дойти до этих идей своим умом, этот «минус» все же компенсируется декларируемой этой философией нулевой ценностью любой философии как системы словесного мышления, ничего общего не имеющей с сознанием. И именно способы указать на сознание «через голову» любой идеологии и философии, в том числе и своей собственной, ищет в своем творчестве Пелевин.
Остановимся на одном из текстов Пелевина подробнее. Роман «Жизнь насекомых» предоставляет нам возможность поговорить о жанре притчи, обладающем очень большим символическим потенциалом. Символизирующая (а лучше сказать, иероглифизирующая) функция этого жанра и его «пародийного двойника» — басни и станет предметом дальнейшего рассмотрения.
Иероглифическая функция элементов притчи и басни в романе «жизнь насекомых» В. Пелевина.
Сопоставление пелевинской прозы и жанра басни напрашивается само собой. «Сюжеты Пелевина просты до примитивности», — пишет В. Курицын, добавляя, что его рассказы «могут восприниматься как наивные дидактические опыты», а повести «поражают незамысловатостью и неизобретательностью фабулы"116. Вопрос в том, насколько осознана писателем эта простота и примитивность. «В постмодернистской интертекстуальности проступают свойства мифологического типа миромоделирования, поскольку именно в мифологии целостность бытия запечатлевается непосредственно в объекте изображения. Структура мира абсолютно адекватна структуре мифа"117 — этот тезис теоретика постмодернизма М. Липовецкого Пелевин, на мой взгляд, активно эксплуатирует. Отсюда, видимо, и вытекает возмущающая критиков примитивность текстов Пелевина — она обусловлена отношением автора к.
116 Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М. 2001. С. 174.
117 Липовецкий М. Русский постмодернизм. Екатеринбург 1997. С. 17. тексту, близким к отношению автора и текста в «Елке у Ивановых».
Писатель не «сочиняет» — он пересказывает готовые мифы, внутри которых живут его герои. Жизнь каждого из его героев оказывается своего рода жанровой формой", мифом о нем самом и о реальности, с которым герой отождествляется — Мария из романа «Чапаев и Пустота» «проживает» жанр мексиканского телесериала с элементами голливудского боевика, Сердюков каноны и жанры древнеяпонской культуры от танка и хокку до кодекса чести бусидо, герои повести «Принц Госплана» живут и умирают по законам любимой компьютерной игры. При этом, как и в «Елке у Ивановых», позиция автора по отношению к этим мифам предельно отстраненная — он пересказывает текст жизни героя, пересказывает так, как пересказывал бы телесериал человек, телесериалы не любящий, но добросовестный. Отсюда и примитивность сюжетов" - сериал бесконечно сложен и интересен для того, кто находится внутри него, скучающий же зритель может передать его содержание в нескольких словах. У героев Пелевина по определению не может быть сложных, необъяснимых чувств. Вернее, они могут быть, но.
118 автор относится к ним как к снам героев рассказа «Спи» — герои этого рассказа спят практически непрерывно, на работе, дома перед телевизором, в автобусе и т. д., но автору не важно содержание их очень сложных и запутанных снов, он акцентирует внимание читателя на том, что герои спят. Эта особенность пелевинского творчества выводит его из круга постмодернистских текстов, в которых, как, например, в «Имени Розы» Умберто Эко на первый план выводится именно бесконечная сложность переплетения разных культурных кодов, самоценным является сам факт сосуществования, диалога разных бесконечно увлекательных и запутанных мифов. У Пелевина, наоборот, всячески демаскируется банальность, примитивность мифов, внутри которых живут героичитателю, как герою повети «Принц Госплана"119, задолго до того как игра, в которую он играет,.
118 Пелевин В. Желтая стрела. Повести и рассказы. М. 1998. С. 342−360.
1,9 Там же. С. 96−147. подойдет к концу, показывают, что в конце в качестве приза его ждет не прекрасная принцесса, а картонная кукла. В этом случае басня, как квинтэссенция жизненной банальности, сама просится в текст. По словам А. А. Потебни «.басня, чтобы не останавливаться долго на характеристике лиц, берет такие лица, которые одним своим названием достаточно определяются для слушателя, служат готовым понятием"120. В басне это чаще всего животные, за которыми в фольклорном сознании закреплена какая-то одна постоянная черта характера. Т. е., басня работает с «типическими характерами», готовыми моделями поведения или, перекладывая эти определения на язык теоретиков постмодернизма, с готовыми дискурсами, с готовыми «жанровыми формами» человеческой жизни. К вышеприведенному высказыванию Потебни я бы добавил, что обращение басни к узнаваемым по названию типам характера определяется не только стремлением к краткости, но и самим ее назначением, которое, по тому же Потебне, заключается в том, чтобы быть «постоянным сказуемым к переменчивым подлежащим (жизни), постоянным объяснением к.
I Л 1 изменчивому объясняемому". Образы басни «способны по первому требованию стать общей схемой спутанных явлений жизни и служить их объяснением"122. Т. е. басня помогает выявить в жизни готовые схемы поведения, которые возможны и существуют постольку, поскольку существуют готовые дискурсы, с помощью которых люди определяются в жизни.
Разговор о собственно авторском начале в текстах Пелевина в таком случае становится возможен только применительно к уровню метатекста — к тому, как автор пересказывает «жанры», в которых живут его герои. И здесь, как будет показано ниже, в Пелевинском тексте и возникают иероглифические структуры, работающие по тому же принципу, что и в.
120 Потебня А. А. .Из лекций по теории словесности// Эстетика и поэтика. М. 1976. С. 479.
121 Потебня А. А. .Из лекций по теории словесности// Эстетика и поэтика. М. 1976. С. 484.
122 Там же. С. 485.
Елке у Ивановых". Одним из способов реализации этих структур в тексте является превращение басни в притчу — но об этом ниже.
На фоне большинства пелевинских произведений вопрос об организации повествования применительно к «Жизни насекомых» делается особенно интересным. Если обычно Пелевин, строя текст, следует за фабулой, то в этом произведении картина принципиально иная. В романе несколько основных обособленных фабульных линий: линия Сэма, Артура и Арнольда, тесно переплетенная с линией Наташи, линия Димы и Мити, линия Марины — к ним по ходу повествования подключаются другие, так сказать, побочные линии, которые, однако, иногда охватывают всю жизнь персонажа, от рождения до смерти, как, например, линия Сережи. При этом сам текст романа разбит на 14 глав (15ая — «Энтомопилог», т. е. эпилог), в каждую из которых укладывается какой-то отрезок или вся жизнь персонажей одной из линий. Персонажи других линий в главе появляются чаще всего мельком (стучат ногами по крыше, проходят мимо и т. д.), но иногда с фатальными для основных персонажей главы последствиями. Главы, соответствующие разным отрезкам из жизни героев одной линии, расположены не по порядку, а вперемежку с главами, посвященными героям других линий. Как видим, конструкция достаточно сложная, и явно логика повествования основана не на логике фабулы, а на чем-то другом. Вот за этой другой логикой, которая проявляется в композиции глав, мы и будем следовать, вернее попытаемся ее выявить, двигаясь от первой главы к последней.
Начнем с начала, т. е., с названия романа, которое явно отсылает нас к многочисленным передачам и энциклопедиям из серии «Жизнь животных». В этих передачах и книгах рассказывается, само собой, о жизни животных, т. е.: об их повадках, о том, как они делают то, другое, третье и т. д. — не столько о каких-то единичных случаях «в лесу», сколько о законах, инстинктах, которые в этих случаях проявляются. Животное тем и отличается от человека, что оно целиком обусловлено своими инстинктами.
Пелевин, сохраняя привычную формулу, со всеми вытекающими из нее коннотациями, вместо животных подставляет насекомых — еще большая степень обусловленности, абсолютное отсутствие свободы воли. Басня, как раз и работает с обусловленностью. Специфичность пелевинского текста, где герои появляются то в облике насекомых, то в человеческом облике, вроде бы действительно отсылает нас к басне, где персонажи — животные и насекомые, воплощают какие-то виды человеческой обусловленности, типичные черты характера — хитрость, жадность и т. д. Но Пелевин переворачивает ситуацию: у него не животные наделены человеческими чертами, а люди к своим чертам присоединяют черты насекомых, например, склонность пить кровь, (впрочем, эти черты тоже можно толковать аллегорически) и считают себя именно насекомыми, а не людьми: «Какой ты комар после этого? Что бы твой отец сказал, если бы увидел?» — упрекает один герой другого123. По-своему логичный поворот сюжета — если человек, в отличие от животного, существо свободное, не обусловленное ни инстинктами, ни даже своим характером (какая разница), то называться человеком мало кто имеет право. Та же точка зрения появляется и в эпиграфе из «Римских элегий» И. Бродского:
Я сижу в своем саду. Горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильныхлишь согласное гуденье насекомых".
Но здесь еще появляется очень важная тема света (горит светильник), к которой мы обратимся в дальнейшем. Пока же мы обратимся к первой главе с названием «Русский лес».
Здесь появляются три героя одной из основных фабульных линийкомары Сэм, Арнольд и Артур. Но сама глава, а значит, и весь роман начинается описанием места, где происходит действие. Им вводится.
123 Пелевин В. Жизнь насекомых. Роман. М. 1998. С. 114. Далее ссылки на это издание осуществляются так: Жн., номер страницы. Напр.: Жн., 45. несколько тем, которые окажутся важными впоследствии. Вот первое предложение романа: «Главный корпус пансионата, наполовину скрытый старыми тополями и кипарисами, был мрачным серым зданием, как бы повернувшимся к морю задом по команде безумного Иванушки». Роман начинается с описания огромного перевернутого здания, чье сходство с избушкой на курьих ножках без окон без дверей усиливается описанием «высоких торжественных дверей», которые «были заперты так давно, что даже щель между ними исчезла под несколькими слоями спекшейся краски» и указанием на то, что на набережную выходит практически глухая стена дома с двумя или тремя окнами. Избушка на курьих ножках, дом без окон без дверей (расшифровывая фольклорный символ — гроб) — атрибуты того мира, мира мертвых. В эту же ноту попадает пустой двор и «обращенные к пустому пляжу обрывки радио предложений», тоже довольно интересные по содержанию: -.вовсе не одинаковы, не скроены по одному и тому же шаблону. -.создал нас равными — не часть ли это великого замысла, рассчитанного, в отличие от скоротечных планов человека, на многие.
-. чего ждет от нас Господь, глядящий на нас с надеждой? Сумеем ли мы воспользоваться его даром?.
-. он и сам не знает, как проявят себя души, посланные им на." (Жн.,.
6).
Опять тема иного мира, но на сей раз не мира мертвых, а мира вечной жизни, вернее, отношений человека с этим миром, которые очень неопределенны, во всяком случае, до нас долетают одни вопросы («Чего ждет от нас Господь?» и т. д.). При всем при том того, кто должен бы услышать эту радиопроповедь, просто нет — репродуктор обращен к пустому пляжу, а герой, стоящий в одиночестве на балконе санатория, из нее (вернее, из сообщения о том, когда выходит передача) извлекает только один вывод: «Сегодня воскресенье. Значит, танцы будут». Тема отсутствующего человека еще раз появится в этой главе, когда автор, описывая вылет трех комаров с балкона санатория глазами воображаемого свидетеля, строит предположения о том, что бы этот свидетель почувствовал и предпринял по поводу увиденного, и неожиданно заканчивает свои рассуждения так: «Не знаю. Да и вряд ли кто-нибудь знает, как поступил бы тот, кто на самом деле не существует, но зато обладает нечеловечески острым зрением» (Жн., 10).
Вот на фоне такого контекста и разворачивается описание приключений трех комаров. На первый взгляд все содержание главы сводится чуть ли не к анекдоту: интеллигентным американским комаром Сэмом, насосавшимся крови русского алкоголика, одурманенного одеколоном «Русский лес», вдруг овладевает, так сказать, дух простого русского народа — он меняется даже внешне, становится очень сильным, теряя, однако, все признаки мыслящего существа, порывается «навести порядок» и побить друзей за то, что они «сосут русскую кровь». Но на фоне вышеописанного контекста и эта история читается как продолжение заявленной вначале темы отсутствия человека: если личность, с которой идентифицирует себя человек, оказывается так легко заменима на совершенно другую, то можно ли говорить о человеке как о субъекте своих действий. (Опять же тема Введенского.) По сути, не человек управляет собой, а дискурс, владеющий им, диктует ему, как поступать. Личность, мировоззрение — всего лишь мертвый дискурс, но есть ли в человеке что-то более глубокое, более подлинное, живое? Если и есть что-то такое, то жизнью героев управляет явно не оно. Так анекдот превращается в аллегорию, а название главы «Русский лес» отсылает не только к одноименному одеколону, но и к мифологической семантике леса как царства мертвых и к названию пьесы Островского «Лес», в которой, как известно, лес оказывается метафорой дикой жизни русского купечества, его темного, закосневшего сознания.
Наметившаяся в первой главе в скрытной форме аллегоричность явно проявляется во второй с многообещающим названием «Инициация». Особенности этой главы прямо отсылают нас к жанру притчи. Здесь нам придется сказать несколько слов о жанре притчи в целом и об его соотношении с жанром басни. Притча, как и басня, двухчастна, т. е., состоит из фабульной части и толкования. Но, в отличие от басни, толкование притчи указывает не на какие-то модели поведения в обычной жизни, не на «мораль», а на «Царствие Небесное», не на время, а на вечность. Как пишут С. 3. Агранович и И. В. Саморукова в своей книге «Гармония — цель — гармония. Художественное сознание в зеркале притчи» «Функция притчи — сделать элементы сознания, описывающие части мира, изначально недоступные чувственному восприятию, принципиально лишенные зрительного, осязательного и т. д. образа, «видимыми и ощутимыми» в повседневной жизни человека.
Притча пытается обозначить априорное и вечностное через апостериорное и временное, подыскать духу телесное подобие, а вечности — временный код"124. Предмет притчи — отношения человека с вечностью, поэтому она куда более условна, чем басня, разного рода детали и даже черты характера (основной материал басни) ей только мешают. Если басня, изображая слепоту человека, одержимого своим дискурсом, предлагает слушателю «прозреть» к здравому смыслу, т. е., на место дурного, неистинного правила предлагает поставить другое, истинное, которое формулируется во второй части, в «морали», то в притче (по крайней мере, в евангельской притче) сам выход за пределы готового дискурса является самоценным. В притче угодным Богу оказывается кающийся грешник, то есть, отказывающийся от своих убеждений и образа жизни (блудный сын, кающийся мытарь), а не праведник, который знает, как надо (старший сын в притче о блудном сыне, фарисей в притче о мытаре и фарисее). Истинно праведным оказывается поступок, мотивированный лишь духом, а не какими-то правилами и нормами, не обусловленный никакими чертами характера. С точки зрения сознания, любая подмена его каким-то.
124 Агранович С. 3. Саморукова И. В. Гармония — цель — гармония. Художественное сознание в зеркале притчи. М. 1997. С. 54. мыслительным содержанием — грех. Поэтому, говоря нашей терминологией, слова «кающийся грешник» здесь оказываются символом, указывающим на определенный способ жить, вынося себя на границы мышления, жить сознанием, а не его содержанием. Покаяние — это переоценка собственного образа жизни, образа мыслей, характера и т. д. — то есть, разотождествление с ним. Кающийся грешник — это способ жизни.
Ситуация во второй главе действительно напоминает притчевую. Во-первых, предельная обобщенность образов героев — два действующих лица, отец и сын не названы по именам и за пределами этой главы потом практически не появляются. Также предельно неконкретна и окружающая их обстановка — они вроде бы идут к пляжу, но вокруг такой туман, что не видно практически ничего. В этой обстановке и какие-то конкретные детали (например, свет, на секунду забрезживший неизвестно откуда) начинают восприниматься как символы, а само положение героев — как аллегория их потерянности в «сумраке земном»: «Слышишь, пап — сказал мальчик, — мне сейчас вдруг показалось, что мы с тобой давно заблудились. Что мы только думаем, что идем на пляж, а никакого пляжа на самом деле нет. И даже страшно стало», «Мальчику померещилось, что они с отцом ползут у подножия главной елки мира сквозь огромные клочья ваты, изображающей снег, ползут неясно куда и отец лишь делает вид, что знает дорогу» (Жн., 25) И, наконец, разговор между отцом и сыном идет об устройстве мира, смысле жизни и проч. (Тут надо отметить, что в евангельской притче отец обычноземная «метафора» Бога). Но для отца все в мире ясно и понятно, и на все вопросы сына он отвечает не как герой притчи, а как герой басни, с позиций обыденного «здравого смысла»: «.Будешь себя так вести, тоже вроде них вырастишь», «Туман — это мельчайшие капельки воды, висящие в воздухе». От некоторых вопросов он и вовсе отмахивается, прибегая к услугам «народной мудрости»: «Знаешь, как в народе говорят, — жизнь прожить — не поле перейти» (Жн., 26). Иначе говоря, отец закладывает в голову сына вполне определенную картину мира, фильтр, сквозь который сын будет смотреть на реальность, — т. е., превращает и его в героя басни. Каждое объяснение отца сопровождается передачей сыну куска навоза — достаточно прозрачная аллегория, которая вдруг в устах отца развивается в целую концепцию мира. Инициация сына заключается в том, что у него появляется W свой Иа", он же навозный шар, состоящий из всего навоза, который мама и папа дали ему с рождения. Главное «таинство» инициации заключается в том, чтобы понять, что ты и есть твой Йа, т. е. твое «Я». И тогда происходит «чудесная» вещь — весь мир тоже становится навозом:
Отец терпеливо улыбнулся.
Я знаю, это сложно понять, — сказал он, — но кроме навоза, ничего просто нет. Все, что я вижу вокруг, — отец широким жестом обвел туман, — это на самом деле Йа. И цель жизни — толкать его вперед. Понимаешь? Когда смотришь по сторонам, просто видишь Йа изнутри". Иными словами, отец здесь излагает концепцию мира, в чем-то близкую Введенскому: мир и есть мое видение мира. Только здесь появляется небольшое, но существенное дополнение: мое видение мира и есть мое «Я». Непонятно, в таком случае, как существует вся эта система, если мир во мне, то как я могу быть в то же время частью мира — отец не знает ответа на этот вопрос. Но, как бы то ни было, превращение мальчика в полноправного жука-навозника завершается, и он понимает,-что на самом деле не толкает свой Иа вперед, а катится, прилипнув к нему. Момент, когда навозный шар ударяет его головой о бетон и проезжает сверху, — сон, момент наверху шара — пробуждение. «Йа вырасту большой, женюсь, у меня будут дети, и Иа научу их всему, чему меня научил папа. И Йа буду таким же добрым, каким он был со мной, а когда Йа стану старым, они будут обо мне заботиться и все мы проживем долгую счастливую жизнь», — думал он, просыпаясь и поднимаясь по плавной окружности навстречу новому дню движения сквозь холодный туман по направлению к пляжу". Мальчик полностью отождествился со «взрослым» дискурсом, превращение завершилось. Остается только вопрос, кем он был до того, как стал «Йа». Вот это и есть выход на уровень символа.
Таким образом в этой главе, действительно, как в притче, происходит приобщение человека к священным ценностям, но на месте Бога оказывается человеческое «Я» — навозный шар, состоящий из законченных представлений о мире и о себе. И кроме этого шара ничего и нет. В таком случае понятно, почему радиопроповедь в первой главе обращена к пустому пляжу — не существует ни Бога, ни субъекта, который мог бы услышать его Слово, ведь оно явно предназначено не для навозного шара. Т. е., в притче реализуется басенная модель обусловленного мира, правда, реализуется со знаком минус.
— все-таки навоз — вещество в какой-то степени самохарактеризующееся. Поэтому перед нами все-таки притча, но притча, не указывающая земное подобие Царствию Небесному, а наоборот, выносящее его за пределы любых подобий и описаний, ведь подобия и описания — часть навозного шара.
Эта притча так или иначе присутствует в подтексте всех остальных глав, недаром почти во всех них так или иначе упоминается навозный шар: то кто-то издали похож на навозный шар, то герой действительно видит, что всю жизнь был навозным шаром.
Следующие четыре главы выделяются названиями, в качестве которых выступают всем известные расхожие выражения: «Жить чтобы жить», «Стремление мотылька к огню», «Третий Рим», «Жизнь за царя». Впрочем, названия вполне соответствуют содержанию главы — так или иначе эти главы посвящены банальностям, управляющим сознанием людей.
Героиней третьей главы «Жить чтобы жить» — муравьиной самкой Мариной, о которой уже говорилось во Введении, управляют две программы инстинкт, который заставляет ее рыть нору, драться с другими самками, разыскивать ночью на рынке продукты, и дискурс французских фильмов, с помощью которого она оформляет свою жизнь изнутри. Собственно, он и позволяет ей не видеть уродства первой программы, не видеть, что она ничем не отличается от встреченной ей на рынке «сраной уродины» — другой муравьихи «в измазанных глиной синих трусах и рваной блузке». (Недаром она боится увидеть свое отражение). И есть еще нечто третье — то беспредметное ощущение красоты жизни, невыразимое словами «ясное обещание счастья, честное слово, которое давала жизнь непонятно по какому поводу». Собственно, оно и оформляется двумя вышеописанными программами. Так что глава опять же превращается то ли в баснюиллюстрацию банального названия: мол, жизнь ценна тем, что она — жизнь, и нужно «делать то, что нужно», бороться за существование и все будет хорошо, то ли в притчу — вопрос о том, соответствуют ли формы, в которые отлилось это «обещание жизни», ощущение ее красоты, самому этому ощущению. Этим вопросом и задается герой следующей главы мотылек Митя: «Раньше было в жизни что-то удивительно простое и самое главное, а потом исчезло, и только тогда стало понятно, что оно было. И оказалось, что абсолютно все, чего хотелось когда-то раньше, имело смысл только потому, что было это, самое главное. А без него уже ничего не нужно. И даже сказать про это нельзя». «Стремление мотылька к огню» оказывается стремлением к этому простому ощущению, наделяющему жизнь смыслом. Но Митя, в отличие от Марины, осознает, что это ощущение первично по отношению к любым объектам желания, будь то мужик из французского кинофильма или ближайший фонарь, к которому тебя тянет инстинкт. Т. е. свет, притягивающий к этим объектам, на самом деле отраженный. Но где тогда источник этого света? Оказывается, что во внешнем мире его вообще нет. Все стягивается вокруг вопроса, который Дима задает Мите: «Луна отражает солнечный свет. А свет чего отражает солнце?». Но ответ на него уже за пределами любых дискурсов и мифов. Всю главу опять же можно рассматривать как своего рода басню, но мораль ее — ответ на Димин вопрос не может быть высказана, она должна быть прожита. По сути, басня здесь превращается в дзен-буддистский коан. Или в иероглиф.
Как бы то ни было, все последующие главы можно рассматривать как неявные вариации того же вопроса. Все герои так или иначе «летят на свет», к чему-то стремятся, что, как им кажется, принесет им счастье, но свет оказывается не настоящим. Марина в последующих главах живет ради счастья дочери, о котором, правда, не может ничего сказать, кроме того, что «ради него надо всю жизнь старательно работать» — муравьиный дискурс, Маринин муж, Николай живет по формуле «жизнь за царя» и «служу магаданскому муравейнику» и в результате становится пищей для своих сородичей и жены, Сэм, как и положено комару, ищет новых впечатлений, секса и проч., муха Наташа мечтает о Сэме и о том, чтобы уехать в Америку, где «много говна» (см. главу об инициации"), Максим и Никита смысл жизни ищут в анаше и в результате сами оказываются персонажами наркоманской «думки» — конопляными клопами, которыми вместе с анашой забивают косяк. И т. д. и т. д. Каждая глава представляет из себя своего рода слоеный пирог, разные слои которого оформлены как разные жанры, каждый слой соответствует определенной точке зрения на изображенное. Самый нижний слой — точка зрения героя, который находится внутри своего мифа, своей жанровой формы в широком смысле этого слова. Здесь присутствует и французский фильм, и американская мечта (своего рода тоже жанровая форма, способ упорядочивания действительности), и разного рода кодексы и правила поведения, от наркоманских примет до пословиц и сентенций вроде «чтобы выбраться к счастью и свободе надо много работать» и многое другое. Второй слой — точка зрения читателя, читающего конкретную главу, т. е., весь текст жизни героя как целостная история, то, как он рассказан автором. Тут, по сути, присутствует только один жанр — байка, иначе эти банальные простые истории не назовешь. Третий слой — здесь мы пытаемся рассмотреть простоту и безыскусность этой истории как прием, введенный автором с определенной целью, т. е., пытаемся встать на точку зрения автора. Тут байка и становится басней или притчей. Вернее, в этом слое чаще всего два подслоя: нижний — басня, поскольку герои обусловлены своими мировоззрениями, и верхний — притча, поскольку мораль этой басни выходит за пределы любых моралей, причем притча особого рода, притча, «сделанная по технологии» иероглифа, абсолютно не предлагающая никаких моделей поведения и картин мира, а призывающая отбросить их все. Но как это сделать?
Этому вопросу и посвящена линия Мити и Димы, как выясняется, основная линия романа, поскольку Митя — единственный герой, который сознательно пытается (под руководством Димы) решить вышепоставленные вопросы. В результате в главе «Памяти Марка Аврелия» Митя понимает, что он и есть свет, который он ранее искал в мире. Вот тут мы и подходим к очень не типичной для постмодернизма особенности Пелевина — в большинстве его произведений существуют такие герои, как Митя, которые задают неразрешимые вопросы и находят на них ответы, — Петька в «Чапаеве и Пустоте», Андрей в «Желтой стреле», Шестипалый в «Затворнике и Шестипалом» и учителя, подобные Диме, Чапаеву, Хану, Шестипалому. То, что эти герои говорят об одном и том же, еще не значит, что они — своего рода резонеры, излагающие точку зрении автора. Но, как было показано выше, все произведение у Пелевина строится как указание на точку, которую нашел Митя. Точку, более глубокую, чем любые дискурсы, концепции и проч., по отношению к которой даже мое собственное «Я» — только иллюзия, навозный шар, который можно столкнуть с обрыва. И в этом ракурсе Пелевин скорее, как и было указано выше, близок Введенскому чем постмодерну. Он не просто считает, что мир это текст. Он уверен, что существует и что-то за текстом, и в своих произведениях, в сущности, только тем и занимается, что указывает на эту точку, бросает читателю самолетики с посланиями вроде того, что получил от Мити Арнольд: ты круг ослепительно яркого света, кроме которого во Вселенной ничего никогда не было и нет".
Так все линии романа (не на уровне фабулы) сходятся к последней главе «Второй мир», где Митя встречается с собственным трупом, осуществляя таким образом неявно заявленные в первой главе мотивы царства мертвых. Труп, как оказывается, и жил за Митю всю его жизнь, и победить его никак нельзя, поскольку он и есть тот, кто думает и хочет когото победить. «„Не помогает“ — подумал Митя и только тут понял, что все, что он думает, думает не он, а труп». Но можно, оказывается, просто стать кем-то другим, вернее перестать быть кем-то, а стать той самой точкой чистого видения, о которой говорилось ранее. И тогда непобедимый труп становится тем, чем он всегда и был — навозным шаром, который к тебе никакого отношения не имеет, и который можно спокойно столкнуть с обрыва.
Так Митя проходит инициацию, противоположную той, которую прошел мальчик-навозник во второй главе, поверивший, что он и есть его «Иа». В результате разделение на двух героев — ученика и учителя, Митю и Диму, исчезает, и появляется новая личность, соединившая их в себе, с новым взрослым именем — Дмитрий.
Соответственно, поскольку главный вопрос решен, заканчивается и роман, который весь становится притчей. Притчей, вырастающей из басни, что открыто демонстрируется в эпилоге. Здесь открыто появляется мотив созданности, литературности изображенного мира: Дмитрий советует убитому горем Сэму (погибла, прилипнув к липучке, Наташа) перечитать двести шестую страницу этой книги, на которой рассказывается о том, что Наташа сама выбрала мушиную судьбурядом появляются муравей и стрекоза — явная отсылка к Крылову. Оба мотивы связаны с Дмитрием — это он советует перечитать страницу, и он видит стрекозу и муравья. Видимо, потому, что отныне он и остальные герои существуют в разных измерениях. Они — в пространстве обусловленности, пространстве басни, как ее персонажи, не подозревающие ни о том, что они сами себя выдумывали, ни о том, что они персонажи баснион — в пространстве притчи, вернее в той нигде не существующей точке, на которую указывает толкование причти. В той точке, где и обитает автор всех пишущих самих себя текстов жизни.
И так, мы рассмотрели, конечно, далеко не все нюансы применения басенного жанра в романе Пелевина. Но, тем не менее, можно сказать, что главная особенность басенного жанра, привлекающая автора, — это работа басни с разного рода обусловленностями (применительно к классической басне, это, конечно, в первую очередь обусловленность, формируемая характером), определяющими поведение басенных героев. «Угол зрения» басни на действительность, (она «смотрит» на нее через призму готовых схем), соответствует постмодернисткой концепции мира Пелевина, согласно которой мы видим мир только через призму того или иного дискурса, т. е., мир для нас и есть система жанров, дискурсов. Соответственно басня, работающая с обусловленностью человеческого взгляда на мир, у Пелевина становится средством оформления дискурсов отдельных героев и объединения их в романное целое. Однако, Пелевин, конечно, трансформирует жанр басни в соответствии со своими задачами. Он стремится прорваться за пределы любых обусловленностей, в результате чего басня у него начинает выполнять функции притчи: басенная коллизиястолкновение разных типов обусловленности, представленных разными героями, служит не выявлению истинных и ложных точек зрения на ситуацию, а становится средством указания (через изображение равной неадекватности всех точек зрения реальности) на надличностное, за пределами любых дискурсов и точек зрения находящееся, на Абсолют. Который, однако, по Пелевину (и в этом его близость скорее авангарду, чем постмодернизму) достижим.
Само собой, внутри романного целого фабульная часть басни теряет свою замкнутость, текст начинает походить на систему взаимопересекающихся басен, а вторая часть басни — мораль, вообще исчезает, на его месте возникает указание не только на невозможность извлечь из фабулы никакой «морали», но и на сделанность, иллюзорность самой фабулы («.хотя давно уже знаешь, что этот мир — галлюцинация наркомана Петрова, являющегося, в свою очередь, галлюцинацией какого-то пьяного старшины» (Жн., 124)).
Благодаря этому роман и читается как история о поисках выхода из придуманной придуманными людьми реальности, как притча, зовущая из пространства текстов и слов шагнуть в. — будем адекватны предмету и умолчим о не имеющем названия.
•• • •.
Подводя общие итоги работы, можно сказать, что в данном исследовании сделана попытка изучить символическое в литературном произведении как специфическое «незнаковое» значение, могущее возникнуть в акте встречи мышления читателя с особым образом ориентированными структурами текста. Специфика этого незнакового значения связана с включением мышления субъекта в структуру сознания, то есть, с выходом субъекта на границу собственного мышления, за которой деление на субъект и объект уже не имеет смысла, трансценденцией семантического содержания мышления его обычно не осознаваемой формой — чистым временем «здесь и сейчас». Исходя из этих посылок, нам удалось провести анализ творчества Александра Введенского — одного из немногих художников, предельно последовательно ориентированных на реализацию в произведении именно символического уровня смысла, по отношению к которому семантического мышление объявляется поэтом вообще не имеющем почти никакой самостоятельной ценности. Придать этому исследованию более-менее целостный характер позволило выделение в его рамках особого типа символизации, названного здесь иероглифическим. Специфика соответствующих этому типу символизации структур текста, определена, на мой взгляд, прежде всего именно бескомпромиссностью ориентации художника на уровень сознания, не тождественного содержанию сознания. Иероглиф так организует включенные в его структуру семантические комплексы, что их непротиворечивая интерпретация без выхода на этот уровень часто становится невозможной. Кроме того, для иероглифа характерно разрушение автоматизма «знак-означаемое» — текст, ориентированный на иероглифическую символизацию, так или иначе стремится сделать стоящие за словом мыслительные конструкции самоценным объектом осознания, а не «прозрачным» средством описания мира.
Используя это понятие иероглифической символизации, нам удалось рассмотреть творчество Введенского как в плане диахронии, выявив какие-то определяющие эволюцию форм его поэтики принципы, так и в синхронии, определив различные способы реализации иероглифической символизации целостностью текста. Все многообразие этих способов, как мне кажется, можно свести к двум базовым разновидностям: к прямому переконструированию словесной и мыслительной структуры (именно так, в основном, работает «бессмыслица» Введенского) и к надстройке над структурами обыденного мышления дополнительных метаконструкций, выявляющих их роль по отношению к структурам сознания.
Кроме того, была сделана попытка показать, что, опираясь на понятие иероглифической символизации, можно выделить целый класс ориентированных на этот тип символизации текстов, к которому могут быть отнесены далеко не только произведения Введенского.
И наконец, данное исследование в той или иной степени воплощает поход к анализу текста, определенный стремлением учесть особенности акта символизации, который может быть завершен только в сознании конкретного читателя (хотя парадокс заключается в том, что сущность акта символизации состоит в выходе на тот уровень, когда сознание становится именно сознанием, а не сознанием того или иного субъекта). С моей точки зрения, исследование подобных текстов не может опираться ни на что, кроме анализа их структуры, но, в то же время, оно должно каким-то образом давать быть той мере «непонимания», которая необходима для того, чтобы структуры текста начали внутри нас работать по своему прямому «назначению» — как вводящие наше мышление в акт символизации, трансцендирующий это мышление — ибо о какой-то адекватности тексту можно говорить только тогда, когда он внутри нас «сбывается». В конечном итоге все введенные в данном исследовании категории выполняют служебную роль по отношению к этой задаче — удержаться в русле «адекватного непонимания». У «смысла», как мы пытались здесь показать, есть только одно настоящее измерение -«здесь и сейчас», и никаких других задач, кроме как давать этому измерению с нами случаться, у текста подобного исследования, по большому счету, быть не может.
Список литературы
- Введенский Александр. Полное собрание произведений в двух томах / Сост.
- М. Мейлаха и В. Эрля. М.: Гилея, 1993.
- Пастернак Б. Доктор Живаго. Куйбышев, 1989. С. 528.
- Пелевин В. Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда. М.2003.
- Пелевин В. Жизнь насекомых. Роман. М. 1998. Пелевин В. Желтая стрела. Повести и рассказы. М. 1998. Пелевин В. Чапаев и Пустота. М. 1996. Пелевин В. Синий фонарь. М. 1991 Хармс Д. Полет в небеса. Л., 1988. С. 459.
- Хармс Д. Полное собрание сочинений в двух томах / Сост. В. Н. Сажина. СПб., 1997.
- Маяковский В. В. Сочинения в двух томах. М., 1987.
- Аверинцев С.С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П.А.,
- Агранович С. 3., Саморукова И. В. Гармония цель — гармония.
- Художественное сознание в зеркале притчи. М., 1997.
- Адаскина Н. Художественная теория русского авангарда: (К проблемеязыка искусства) // Вопросы искусствознания. 1993. № 1.
- Айзлвуд Р. Хармс и Друскин: к постановке вопроса // Russian Studies.1. Vol. 2, № 3,1996.
- Александров А.А. Об изданиях Д. Хармса. Письмо в редакцию.//
- Александров А.А. Чудодей. Личность и творчество Даниила Хармса//
- Хармс Д.И. Полет в небеса. Стихи. Проза. Драмы. Письма. М., 1991. С. 7−51.
- Апресян А.Р. Эстетика московского концептуализма. Автореф. дисс.канд. фил. наук. М., 2003.
- Арутюнова Н. Д Метафора и дискурс// Теория метафоры. М., 1990.
- Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык: к проблеме языковой «картинымира» // Вопросы языкознания. 1987. № 3.
- Байбурин А.К. Ритуал в системе знаковых средств культуры//
- Этнознаковые функции культуры. М., 1991. С. 43−58.
- Барокко в авангарде авангард в барокко: Тезисы и материалыконференции. М., 1993.
- Барт Р. Мифологии. М., 1996.
- Барт, Ролан. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М. 1989.
- Белый А. Символизм как миропонимание.
- Бирюков В. Авангард. Сумма технологий// Вопросы литератуты. 1996.5. С. 38−45.
- Бирюков С.Е. Поэзия русского авангарда. М., 2001.
- Бобринская Е. Русский авангард: Истоки и метаморфозы. М. 2003.
- Валиева Ю. М. Поэтический язык А. Введенского. (Поэтическаякартина мира). Автореф. дисс. Спб., 1998.
- Вахрушев В. Логика абсурда или Абсурд логики// Новый мир. 1992. № 7.
- Генис А. Виктор Пелевин: границы и метаморфозы// Знамя, 1995, № 12.1. С. 210−215.
- Генис А. Виктор Пелевин: границы и метаморфозы// Знамя, 1995, № 12.1. С. 210−215.
- Герасимова А. Проблема смешного в творчестве обэриутов: Автореф.канд. филолог, наук. М.: Изд-во МГУ, 1988.
- Герасимова А. Уравнение со многими незвестными: (личный язык
- Введенского как система знаков) // Московский вестник. 1990, № 7. С. 192−206.
- Герасимова А. Бедный всадник или Пушкин без головы. Реконструкцияодного снаИ http://www.umka.ru/liter/950 221 .html
- Герасимова А. Об Александре Введенском//http://www.umka.ru/liter/930 602.html
- Герасимова А., Никитаев А. Хармс и Голем// Театр. 1991. № 11. С. 3650.
- Гинзбург JI. О лирике. Л., 1974.
- Глоцер В. К истории последнего ареста и гибели Даниила Хармса:
- Глоцер В. Об одной букве у Даниила Хармса// РЛ.-1993.-№ 1.-С. 240 242.
- Глоцер Вл. ОБЭРИУ // Лит. энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 257−258.
- Голан А. Миф и символ. М., 1994.
- Гройс Б. Московский романтический концептуализм //А-Я. 1979. № 1.1. С. 4−12.
- Делёз Ж. Логика смысла. М., 1995.
- Дзуцева Н.В. Проблемы поэтики и эстетики постсимволизма. Иваново, 1999.
- Друскин Я. С. Звезда бессмыслицы // «.Сборище друзей, оставленныхсудьбою». Л. Липавский, А. Введенский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. М.: Ладомир, 2000. Т. 1. С. 323−416.
- Друскин Я. С. Разговоры вестников// «.Сборище друзей, оставленныхсудьбою» Л. Липавский, А. Введенский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. М., 2000. Т. 1. С. 532−585.
- Друскин Я. С. Чинари. // «.Сборище друзей, оставленных судьбою»
- Л. Липавский, А. Введенский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. М., 2000. Т. 1.С. 30−70.
- Друскин Я. Стадии понимания// «. Сборище друзей, оставленныхсудьбою».
- Друскин Я.С. Дневники. СПб., 1999.
- Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс: театр абсурда реальный театр // Театр.1991. № 11. С. 18−26.
- Жаккар Жан-Филипп. Даниил Хармс и конец русского авангарда. Спб.:
- Академический проект, 1995.
- Зеленкова Е. Виктор Пелевин и обэриуты. Диалектика переходногопериода из Ыиоткуда в Микуда: некоторое количество соответствий// Александр Введенский и русский авангард. Материалы международной конференции. СПб, 2004. С. 199−205.
- Иванов Вяч. И. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994.
- Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм.1. М. 1996.
- Йованович М. А. Введенский-пародист: к разбору «Елки у Ивановых»
- Театр. 1991.№ ц.с. 114−123.
- Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского. М., 1990.
- Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1−3. М., СПб., 2002.
- Кацис Л. Пролегомены к теории ОБЭРИУ (Даниил Хармс и Александр
- КерлотХ.Э. Словарь символов. М., 1994.
- Кобринский А. Система организации пространства в поэме Александра
- Введенского «Кругом возможно Бог» // Театр. 1991. № 11. С. 102−114.
- Кобринский А.А. Последние произведения Д.И. Хармса <1940-1941>//
- Кобринский А. А. Проза Д.И. Хармса: Автореф. дисс. канд. филол.наук. СПб., 1992.
- Кобринский А.А. Психологизм, алогизм и абсурдизм в прозе Д.
- Кобринский А.А. Хармс сел на кнопку, или проза абсурда// Искусство
- Ленинграда. 1990. № 11. С. 68−80.
- Кобринский А.А. Поэтика «ОБЭРИУ» в контексте русского авангарда.1. В 2-х. М., 2000.
- Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972.
- Крусанов А.В. Русский авангард: 1907 1932. (Исторический обзор). В3 т. Т. 1. СПб., 1996.