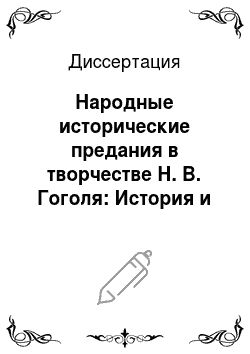ВСТРЕЧА ЭПОХ В СОЧИНЕНИЯХ Н. В. ГОГОЛЯ.
1. .'=,.' ,.
Две поры отечественной истории были излюбленными в творчестве Н. В. Гоголя: давние времена казачьей вольности на Украине и вошедший в биографию старших современников великого писателя 1812-й год. Приверженность Гоголя этим двум эпохам легко открывается читателю, хотя и не засвидетельствована выбором времени действия в его произведениях. Ни в одном из них не представлены вживе и непосредственно героические события отражения наполеоновского нашествия на Россию, и из завершенных его сочинений лишь три повести — «Вечер накануне Ивана Купала», «Страшная месть», «Тарас Бульба» — погружают читателя в то отдаленное прошлое, когда, говоря словами первой из этих повестей, «козаковал почти всякий"1. Между тем, однако, стоило Гоголю в своих творениях обратиться к жизни Украины, повествование — к какому бы веку и десятилетию ни было оно приурочено — почти всегда плотно насыщено напоминаниями о временах казачьей вольности, — прямыми и косвенными, принадлежащими и повествователю, и персонажам.
Отсылки же к 1812 году — тоже и. прямые, и косвенные, -возникают регулярно на страницах обоих томов. «Мертвых душ» и не столь же часто, но никак не бесследно — в других сочинениях Гоголя, не исключая и украинских его повестей.
Из сочинений Гоголя об Украине одна лишь повесть начисто лишена упоминаний, хотя бы малейших, о легендарном казацком прошлом — «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» во второй части «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Тому есть достаточное основание: о Шпоньке рассказал Степан Иванович Курочка — давний и близкий знакомый пасичника Рудого Панька, но не завсегдатай собраний в пасичниковой хатеон живет в отдалении и лишь время от времени наведывается к пасичнику,.Оттого и история, рассказанная Степаном Ивановичем, стоит особняком среди восьми повестей «Вечеров». Сколь резонно основание, столь весомо и следствие: в соседстве с семью повестями, которые изобилуют отсылками к годам и векам казачьей славы/отсутствие таких отсылок становится не менее значимым, нежели их безотлучное присутствие поблизости. Повестио Шпонькё существенно сказывается на смысле обширного содержательного пласта «Вечеров» — на том, что вымышленный’издатель повествует о себе и о вымышленных же рассказчиках — сочинителях повестей. Рудый Панько и его гости радушно привечают Степана Ивановича, когда тому случается навестить хутор близ Диканьки (что засвидетельствовано в предисловии ко второй части «Вечеров»), Повесть о Шпоньке тоже встречена любезно: пасичник, как услышал ее от Степана Ивановича, тотчас попросил «списать в тетрадку» [I, 283]. Люди, охотно принявшие повесть Степана Ивановича, сами сочиняют по-другому: так или иначе проникают взглядом и словом в героические времена украинской истории. Если бы кто 913 них построил свое повествование наподобие тому, что рассказывал Степан Иванович, то, верно, и его бы слушали с охотой и любопытством. Они, однако, всегда находят возможность хотя бы прикоснуться к воспоминаниям о веках казачей вольности, — существует некое согласие на сей счет, не оговоренное словами (по крайней мере, читателю о таком уговоре ничего не известно), но неотменно соблюдаемое. Что такое согласие имеет место — видно и без повести о Шпонькечто оно представляет собой плод выбора (каждый из постоянных гостей в хате Рудого Панька мог бы безвозбранно нарушить молчаливое согласие, но предпочитает соблюдать его) — это обстоятельство оказалось бы затенено. Ничто не мешало бы читателю догадываться о нём, но не было бы и подтверждения ему.. "? '.
Некоторая сторона жизни, не обойдённая вниманием других рассказчиков, осталась не затронутой в повести о Шпоньке, что и вызвало к жизни новый элемент содержания. Такое значимое, смыслопорождающее отсутствие — минус-прием, по терминологии Ю. М. Лотмана, — ещё привлечет наше внимание2.
Герои «Вечеров» испытывают неотразимо радующее состояние, («прикасаясь воображением и словам с прадедовскими или еще более дальними Пс^у^бм^их самих. «Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгульё падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно и года ему и месяца нет, деялось на свете! А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед — ну, тогда рукой махни: чтоб мне поперхнулось за акафистом великомученице Варваре, если не чудится, что вот-вот сам всё это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа шалит в тебе» [I, 181]. Это— из «Пропавшей грамоты»: дьячок Фома Григорьевич3 приступает к очередному рассказу о давнем, занимательном и ЧуДеСНОМ. А ВОТ — ИЗ СОСеДНеЙ' ПОВеСТИ. ИЗ «МаЙСКр^'іІО^Й». гВОСклицания «плечистого и дородного парубка"^ «дюжего повесы»: «Гуляй, козацкая голова! <.> Что за роскошь! Ато за воля! Как начнешь беситься — чудится, будто поминаешь давние годы. Любо, вольно на сердцеа душа как будто в раю» [Г, 163,164]. *.
Дьячок и парубок размещеныговоря фигурально^ на разных этажах словесной художественной постройки. Фома Григорьевич — один из гостей пасичника. Безымянный «дюжий повеса» — из числа действующих лиц повести, сочиненной другим рассказчиком, — по многим признакам (о них речь впереди), тем самым панычом в гороховом кафтане, кому принадлежит и «Сорочинская ярмарка" — с дьячком паныч вечно не ладит. Дьячку, как и прочим друзьям Рудого Панька, отведено место — прибегнем еще к одному сравнению — на просцениуме, и появляется он там часто и подолгу, пользуясь предпочтением перед остальными гостями Рудого Панька. Парубок, «первый гуляка и повеса на селе» [I, 163], действует в глубине сцены и в одном лишь эпизоде в конце третьей главы. В четвертой главе, в самое разгулье, он неразличим в толпе.
Состояния сходны, и сказано о них почти одинаково. Одним и тем же смыслом наделены в речах парубка и дьячка слова старина, давние годы. «Дюжий повеса» явно не о собственном прошлом вспоминает, не о своем детстве, а о тех временах, о каких слыхивал и какие в общей памяти предстают как пора вольности. И старина Фомы Григорьевича — это годы, когда в полной силе были его деды, прадеды, прапрадеды. Слово разгулье, которое столь любовно произносит Фома Григорьевич,.
— аесть и в третьей главе, в первой же строчке: «Что за разгулье такое!» [I, 162]. Это ещё не «дюжий повеса» говорит, а Левко. Четырьмя строчками ниже помянуты и его «разгульные товарищи" — дородный парубок — из их числа. Слова радость в устах дьячка, любо — у парубка выполняют одну и ту же роль: дают имя тому, что они испытывают, соприкасаясь со стариной. Заглядывая в давние годы, они встречаются с тем, что неодолимо привлекает и что не унаследовано их собственным временем. Различие, какое обнаруживается между дьячком и парубком в их упоении разгульем и стариною, вполне объяснимо разницей в возрасте и в общественном положении. Парубку наверняка еще и до двадцати лет далековато: кому бы и проказничать, как не ему, — хотя бы просто от избытка сил и от атмосферы майской ночи. На сей раз представилась и другая причинаі побуйствовать: Левко возбудил парубков против своего отца — сельского головы и имел для того достаточный повод. Хлопцы рады «побесить» голову — тем более когда тот же Левко напоминает: «Он управляется у нас как будто гетьман какой <.>, помыкает, как своими холопйями» [I, 163−164], Да им любой предлог годится, чтобы учинить озорную гульбу. Тот же «дюжий повеса» признается: «Мне всё кажется тошно, когда не удается погулять порядком и настроить штук. Всё как будто недостает чего-то. Как будто потерял шапку или люлькусловом, не козак, да и только» [I, 163]. Впрочем, выходки буйной ватаги хоть и не безобидны, но не переходят в чрезмерно злонамеренное бесчинство. (Левко тоже задет, хотя, может быть, о том и не знает: подстерегши в темноте его возлюбленную Ганну, парубки целуют ее своевольно). Дьячку, между тем, беситься и не по летам, и не по должности: все-таки человек из церковного причта, пусть и с самой низкой ступеньки. К тому же и отличается от многих прочих дьячков: и одет поизысканнее, и держится степенно, а уж «как запоет на крылосе — умиление невообразимое!» [I, 197]. Погружаться в воспоминания столь же естественно для Фомы Григорьевича, как для безымянного парубка — увлекаться дерзкими проделками. При этом оба они исполнены привязанности к памяти об украинской-старине, о временах казацкой вольности* И у обоих поминание старины неотделимо от жажды разгулья. Одному любезно вспоминать о давнем былом — и само собой приходит ощущение разгульядругой с охотою предается разгулью — и мысль о старине столь же неотвратимо овладевает им.
Учтём еще одно обстоятельство — публичность того, что совершают дьячок и парубок и что совершается с тем и другим. «Дюжий повеса» творит разгулье с толпой парубков. Икаждый в этоД то^ір, «поминает давние годы». Воскликнул Левко, возбуждая. друзей против головьі: «Покажем ему, хлопцы, что мы воль-ные^крзщГ^ и)^ьіці|№г дружный отгдоц-, «Покажем!» [I, 164]. И оди^н"^, а вместе с собеседниками предается вос-помй^^м о том, что «давно-давно деялось на свете», а «разгуле падет на сердце», когда «услышишь» нечто — когда, стало быть, воспоминание творится с кем-либо совместно. Что дьячок и парубок переживаюти о чем рассказывают,> то — способны испытать и многие другие, даже совершенно случайно — среди прочих дел — застигнутые атмосферой воспоминаний о казачьей старине, а до тех пор, возможно, и не знавшие друг друга. Пример тому — в эпилоге (XVI главе) «Страшной мести»: «В городе Глухове собрался народ около старца бандуриста и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре. Еще таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист. Сперва повел он про прежнюю гетманщину за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время: козачество было в, силетоптало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним <.>. Кругом народ, старые люди понурив головыа молодые подняв очи на старца, не смели и шептать между собою» [I, 279]. Парубки из «Майской ночи» тоже, конечно, слыхивали такие же песни о вольной старине и казачьей славе. И слепой бандурист, и его слушатели столь же отчетливо и остро ощущают свою разлученность с временами вольности, как и Фома Григорьевич, и «повеса» из «Майской ночи»: «Тогда иное было время», л. г.
Старость соседствует и с детствомпример — один из монологов-воспоминаний Фомы Григорьевича (в «Вечере накануне Ивана Купала»): «Мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости, более пяти лет, с своей печки. Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора- • Кожуха и Сагайдачного не занимали нас так, Как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело» [1,138]. Так, в параллель картине общения современников, обратившихся к национальному прошлому, и в дополнение к ней, эпизоды из разных повестей складываются еще и в столь же обширную картину общения поколений.
2. І— .-о.
На: всем пространстве открывающейся нам картины публичность изображаемого действия сопровождена интимностью- ¦ запечатленного переживания. В фрагменте эпилога «Страшной мести» эти два начала выявились в равной мере полнокрасочно: бандурист поет для всякого, кто захочет слу-шатьри все обступившие его испытывают одно и то же чувство, для каждого глубоко личное, не извне внушаемое, а пробуждающееся изнутри. Признание Фомы Григорьевича, предваряющее «Пропавшую грамоту», отмечено подобным же равновесием публичности и интимности, только повод на сей разне в потрясающем и нежданном впечатлении, как в «Страшной мести» («таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист»), а в привычных, легко предвидимых встречах с милыми душе былями и небылицами. Общение жителей Глухова с бандуристом — событие, вторгшееся в обыденное течение жизниобщение меж рассказчиками на хуторе близ Диканькиодно из звеньев повседневной жизни. Дьячок рассказывает о старом времени, бандурист поет об ином времени/Различие сказывается на всем тоне заключительной главы «Страшной мести» и зачина «Пропавшей грамоты». Старое время — то, с которым человек осознаёт собственную биографическую соотнесённостьдля дьячка это значит: время, когда ещё прапрадед жил. Иные времена — это времена, с которыми не ощущаешь биографической связибандурист и его слушатели могут и не знать, как давно жили Сагайдачный и Хмельницкий: при дедах ли, прадедах или ещё много раньше, — для них это в данный момент не существенно. Хронологически старые времена и иные времена могут совпадать. В Первоначальном варианте «Вечера накануне.» (о нём речь — тремя абзацами далее) рассказ дьячка начат словами: «Лет более нежели за сто перед сим, ещё за малолетство Богдана, говорил дед мой.» [1,350]. С хронологией всё более или менее в порядке. Дьячок стар. «Дивные речи» деда он слушал во второй половине XVIII века — и не в самом конце столетия, а раньше. Откинем ещё сто с лишним лет и окажемся близко к началу XVII века — во временах если не малолетства Богдана Хмельницкого (родившегося ок. 1595 г.), то его молодости. Среди действующих лиц есть и тетка дедова деда — прапрадеда Фомы Григорьевича. В окончательной редакции «Вечера накануйе.:.^ Богдан не помянут, но сохранены слова о столетии с лишним только звучат они более живо: «Лет — куды! более чем за сто, говорил покойный дед и тетка дедова деда все так же выставлена свидетельницей «старинного чудного дейа». Точная историческая в^еМШйая 'веха убрана, бДбг^?фическая веха сохранена. 0 '-Д;
Старое время отли^йо от иного времени не мерой Ьтда-лённости от нынешнего дня, а способом видения. Меж старым временем и современностью протянута нить без обрывовмеж инцм1и временами и нынешними зияет провал. Не в хронологии суть различия, а в-хронотопе *.
При всём том публичность й1 интимность соотнесены в эпизодах из двух повестей вполне сходным образом. Фома Григорьевич готов рассказывать о старине всякому, кто прислушивается, и не может обойтись без того, чтобы сказать, что творится в душе, — что «чудится», будучи притом знакомо и понятно всякому из окружающих.
В эпизоде из «Майской ночи» публичность преобладает над интимностью, но не отторгает ее. Когда дюжий паруббк упомийает о шапке и люльке (потеряешь — и вроде ты «не козак»), читатель заглядывает в его внутренний мирполустраницей позже, услышав признание того же «повесы» о поминаемых старых годах, мы сближаемся с интимным миром гоголевского героя не в меньшей мере, нежели в первом абзаце «Пропавшей грамоты», Да и ведущее слово, — как нынче принято говорить, ключевое — одно и то же в обоих фрагментах: и парубку, и дьячку нечто чудится.
Наконец, в Воспоминании Фомы Григорьевича при начале «Вечера накануне.» общение замкнуто в интимном кружке: внуки слушают деда. Но само-то воспоминание вызвано к жизни обстоятельствами,' имеющими столь прямое отношение к публичности, как никакое иное место в «Вечерах» за исключением предисловий к каждой из двух частей книги вкупе со словариками украинских слов и речений. Рудый Панько рассказал об ¿-" гихобстоятельствах, прежде чем представить читателям «Вечер накануне.». «Один из тех господ», что «нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки, не толще букваря, каждый месяц или неделю, <.> выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней» [I, 137]. Паныч привез на хутор к пасичнику журнал с повестьюРудый Панько принялся читать. Фома Григорьевич поначалу не узнал было свою «быль», а когда удостоверился, что журнал именно его назвал рассказчиком истории о Басаврюке, то воскликнул в неподдельном возмущении: «Так ли я говорил? <.> Слушайте, я вам расскажу ее сейчас».
Имелись в виду обстоятельства отнюдь не вымышленные. Вторая из повестей, составивших «Вечера на хуторе близ Ди-каньки», создана и впервые напечатана раньше семи остальныхона появилась в петербургском журнале «Отечественные записки» весной 1830 г. и именовалась тогда «Бисавркж, или Вечер накануне Ивана-Купала"5 Был и подзаголовок: «Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви». Редактор П. П. Свиньин своевольно обошелся с текстом повести молодого (Гоголю шел двадцать первый год) и никому не известного литератора, что и побудило автора «Вечеров» к сердитой отповеди. Подзаголовок «Бисав-рюка» дал Гоголю возможность от лица персонажа высказать свое мнение о бесцеремонном издателе журнала 6.
Первая часть «Вечеров» была отдана в типографию весной 1831 г. и издана осенью того же года. «Вечер накануне.» был, разумеется, избавлен от переделок, которые произвел Свиньинвнес Гоголь и некоторые собственные изменения в повесть, начиная с имени «дьявола в человеческом облике» [I, 139]- в окончательном варианте он зовется Басаврюком. Главные же изменения касались не построения повести — они связаны с контекстом, окружившим повесть за год с небольшим меж появлением ее в журнале и окончанием авторской работы над первой частью первого гоголевского украинского цикла. Появился Рудый Панько, зачастили гости к нему, и сцены бесед в пасичниковой хате вошли в число привлекательнейших страниц русской литературы. Дьячок приобрел и имя, и отчество, и Ьблик, и образ поведения, и черты биографии, между тем Как в первом варианте «Вечера накануне» он только и изображён в однажды запечатленной роли хранителя памяти и рассказчика. К началу 1830 г сам замысел «Вечеров», по всей видимости, еще не определился в воображении и планах Гоголя сколько-нибудь отчетливо. Тем не менее в журнальной публикации уже обозначилась одна из определяющих черт художественного строя будущей книги.
И в Не^бойачальной редакции «Вечера накануне.», и в окончательной дьячок — прежде чем настал черед припомнить, как дети зачарованно слушали деда, — находит случай пренебрежительно отозваться о «нынешних балагурах», «от которых, -так в тексте „Бисавркжа“, — такая нападает зевота, что хоть из хаты вон» [Iі, 349], а в каноническом тексте «балагур» «гак начнет москаля ёезть1, да ещё и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты вон» [1,138]. vixuJ їй гігі лра і Wi 1 vi і ivi iva" inww іф/раост, w^cpmQI О www Cl Irl зод общений: ясно/^что дьячку не раз случалось иметь дело с такимй собебёдниками. В «Вечерах» фразы о «балагурах» ока-залисьв соседстве и в смысловой связи с рассказом пасичника о господах, которые «нахватают, напросят, накрадут». И в обоих вариантах повести вскользь набросанное упоминание о публичном общении предшествует детализованной и лирически прочувствованной картине общения деда с внуками, завершаемойна что сейчас обратим внимание — новым поворотом к беседам на виду у многих участников и с участием многих.
Описание бесед деда с внуками, знакомое нам по «Вечерам на хуторе близ Диканьки», словесным рисунком заметно отличается от того, что было в «Бисавркже». Вот журнальный текст, соответствующий приведенному ранее фрагменту «Вечера накануне.»: «собирались мы, ребятишки, около старого деда сбЬего, по дряхлости уже более десяти лет не слезавшего с печи. И тут-то нужно было видеть, с каким вниманием слушали мы дивные речи, про старинные, дышавшие разгульем годы.». Прервём цитату, чтобы отметить: вот где берёт начало в сочинениях Гоголя союз двух ключевых слов — старина и разгулье: в «Бисавркже», когда не было ещё ни «Майской ночи», ни «Пропавшей грамоты». Но когда две эти повести появились на свет, первоначальное соединение этих двух" слов в «Вечере накануне.^» стало излишним и заменилось упоминанием «давней старины». Продолжим текст «Бисаврюка»: «.про гетманщину^ про буйные наезды запорожцев, про тиранские мучительства ляхов, про удалые подвиги Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачного. Но нам более всего нравились повести, имевшие основанием какое-нибудь старинное, сверхъестественное предание, которое нынешние умники без зазрения совести не побоялись' бы назвать баснеюно я готов голову отдать, если дед Мой Хоть раз солгал в продолжение своей жизни» [I, 349]. Текстуальные перемены очевидны и никак не бесследны, но существенно нового осмысления сказанного Ерг^рэм они не требуют. Окончательная редакция унаследовала от «Бисзвркжа» и общий тон повествования, и колорит изображения. Тон стал теперь более внятен, колорит проступает, с большею ясностью, и произошло это вследствие перемен в составе и строе речи, избавленной от туманящих картину длиннот и от неуместного и неловкого в устах дьячка обилия дщіжньїх речений и оборотов. Достойно сожаления, что нехранилась гоголевская рукопись, представленная в свое время в «Отечественные записки" — оттого нельзя разобраться, где Гоголь восстанавливал свбй собственный первоначальный текст, убирая то, что вписал Свиньин, а где улучшал этот т^рт. заменяя новонайденным то, что сам же предлагал напечатать, прежде.
Как бы то ни было, движение от интимности к публичности явно налицо в приведенном отрывке. Вначале — общение меж ближайшими родичами, не. предполагающее посторонних участниковв конце — готовность спорить с людьми, не находящимися вблизи и неизвестными ни, а лицо, ни по имени, но способными в любой момент появиться рядом и заявить такое, на что дьячок чувствует себя обязанным решительно возразить. То же самое движение мысли есть и в «Вечерах», но сопряжено там с иным словесным построение^ и благодаря тому-с более богатым порождением смыслов ®. «Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судалл и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки про стой часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы — есть уменье. Им все, что ни расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету! Да чего, — вот, не люби меня Бог и Пречистая Дева! вы, может, даже и не поверите: раз как-то заикнулся про ведьм — что ж? нашелся сорвиголова, ведьмам не верит! Да, слава Богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым провозілґпь попа в решете 9 было легче, нежели нашему брату понюхать табакуа и те открещивались от ведьм» II, 139].
Выпад дьячка в адрес «нынешних умников», занявший в «Бисаврюке» каких-нибудь две печатных строки, разросся теперь в пространную и темпераментную инвективу: смысловое наполнение фрагмента обновилось при этом двумасштабно. Обогатился пласт содержания, вполне обусловленный ближайшим контекстом. Фрагмент оказался также включенным в смысловой (смыслонагруженный и смыслопорождающий) ряд, порожденный более обширным контекстом, сформировавшийся не в пределах одной повести, а в пространстве всего цикла10. Начнем свое рассмотрение с тех текстовых построений, которые вобрали в себя немногословное упоминание об «умниках» в тельной редакции повести. В обоих случаях неприязненные отзывы, обрамляющие картину из детства дьячка, в большей мере заключают в себе самохарактеристики рассказчика, нежели позволяют, разобраться в людях, которых он невзлюбил. Только так и могло быть, коль скоро в тексте 1830 года дьячок поминает «балагуров» и «умников» не иначе как скопом, не различая отдельных лиц, а в окончательном книжном тексте лишь единожды отошел от этого правила, когда обронил несколько слов о «сорвиголове», не верящем в существование ведьм. Кличка «балагура» пристала, полагает дьячок, всякому, кто берегся рассказывать, не умея того и не заботясь об умениичем эти люди могут разниться меж собою — дьячку нет дела. Точно так же к «умникам», заслуживающим лишь презрительного отношения, он причисляет любого, кто, слушая, с порога отвергает то, что услышит, и незачем дьячку знать, схожи ли эти «умники» в чем другом меж собою или не схожи. О себе же, о собственных пристрастиях, влечениях и неприятиях дьячок свидетельствует откровенно и красноречиво на протяжении абзаца, открывающего собою повесть о Бисаврюке, а в составе «Вечеров» служащего началом монолога Фомы Григорьевича вслед за предуведомлением Рудого Панька.
Центр автохарактеристики — и композиционный, и содержательный — воспоминание дьячка о детских годах. Сколь ни обновлено оно в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» в сравнении с «Бисаврюком», эта роль — быть центром автохарактеристики, отведённая ему изначально, не поколебленасохранено и условиесближающее воспоминание с двумя, соседними фрагментами: и здесь рассказчик вводит нас в знакомство с самим собою более, чем с кем-либо иным. Дед представлен в действии, внуки — во внутреннемясостоянии, в той зачаровендасти дедовскими рассказами, которую дьячок, сам состарившийся, воссоздает заново11. Внуки' не изображены поодиночке (что, вполне очевидно, было бы неуместно)12, но о них не скажешь «помянуты скопом»: запечатлено соединяющее их и хранимое в памяти переживание, между тем как вникать в переживания «умников» и «балагуров» дьячок нисколько не намерен.
Из трех фрагментов, содержащих в себе осудительные замечания дьячка-рассказчика и его же упоительные воспоминания, ни один не избежал основательной переработки, а заключительный строки об «умниках» — пересмотрен капитально. Тем более замечательно^ .чгго-объединившая эти фрагменты композиционная конструкция не претерпела какихгбы^р ни было перемен13. В обеих редакциях ядро самохарарерйсрлки дьячка составила картина нерушимого интимного" фоверцрщгь-сного общения, проникнутая настойчиво выраженным стремлением возобновить такое же общение в новое время, а оболочка вокруг ядра — неприязненный взгляд в сторону тех, кто противится доверительному общению, близости к нему не приемлет и кого дьячок сторонится и остерегается. Интимное общение по самой природе своей не бывает иным, кроме как предельно доверительным. Дьячок, становясь рассказчиком, исполнен отрадного и неодолимого желания сохранить доверительность и за общением, вышедшим из границ нерушимой интимности, удаляющимся от нее, перемещающимся в сферу публичности. Иначе говоря, дьячок порывается — и небезуспешно (как-никак Гоголь уже. в «Бисаврюке» наделил его собственною творческой гениальностью) — возобновить интимность в публичном общении. Этот смысловой комплекс уже в «Бисаврюке» присутствует, а истинную широту приобрел в двух частях «Вечеров», с чем и сопряжен расширенный масштаб смыслового обновления зачина повествования дьячка в «Вечере накануне.».
У «балагуров» и «умников» появились собратья и в ближайшем соседстве, и в отдалении. Повесть начинается теперь известием об издателях «книжечек" — у Рудого Панька они вызывают столь же стойкую досаду, как у Фомы Григорьевичадокучливые рассказчики, которых послушаешь — и «хоть берись за шапіу, да из хаты», и слушатели, кому «все, что ни расскажешь, в смех». Только если дьячок знает, как назвать тех и других, то пасичник и имени подобающего не приищет для новоявленных господ — «писаки они, не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках» [I, 137]. Логика ясна: те противились доверительному общению, а эти вредоносно вторгаются туда, куда им следовало бы закрыть вход: «один из таких господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю» да и перепутал всё. «Балагуры» с «умниками», конечно же, тяготеют к публичному общению, но сколько-нибудь отчетливых отражений такого общения в «Бисаврюке» нет: всё, что относится к общению меж современниками Гоголя и удалено от обстановки интимности, оказывается лишенным определенности, смутно видимым. Мир человеческого общения в «Бисаврюке» однополюсный: есть сфера торжества интимного общения и плохо просматриваемая сфера отторжения от него. В «Вечерах» мир общения — двухполюсный: интимному общению противостоит мир печатного слова, где распорядителями становятся «господа» — «то самое, что барышники».
Повествование «Вечеров» в полном своем объеме, кому бы оно ни было доверено авторской волею, — пасичнику или его гостям, — постоянно направляет взгляд читателя в ту обширнейшую сферу общения, где интимность перемежается с публичностью и эти два начала способны и гармонично соединяться, и убийственно враждовать. В этой-то сфере появляется первый по ходу повествования собрат «балагуров», «умников», «барышников», которым место будет отведено попозже, — разрушитель доверительного общения, чья роль отведена одному из гостей пасичника — панычу в гороховом кафтане. Взявшись познакомить читателя с панычом, Рудый Панько с того начинает, что рассказывает (в предисловии к первой книге «Вечеров») о его покушении на доверительность меж гостями пасичника — о ссоре паныча с Фомой Григорьевичем [I, 105−106]14. Второе покушение совершается, когда паныч привёз из Полтавы журнал. На сей раз он ничем не хотел ни ущемить, ни уязвить дьячка, но неволею содействовал тому, что Фома Григорьевич почувствовал себя и ущемленным, и уязвленным. Третье покушение закончилось отлучением паныча от сообщества рассказчиков в пасичниковой хате, о чем рассказано в предисловии ко второй книге цикла. Собственно, никто его не изгонялосерчав в споре, «плюнул на пол, взял шапку и вышел. Хоть бы простился с кем, хоть бы кивнул кому головоютолько слышали мы, как подъехала к воротам тележка с звонкомсел и уехал!» [I, 196]. Кстати, только перед самым этим моментом разрыва паныч получает на страницах «Вечеров» имя и отчества — Макар Назарович.- А повод к спору был пустяковый: надо ли, когда солят яблоки, пересыпать их кану пером?15 г. ^.
Не в канупере, конечно, дело. Не этот случай, так другой какой-нибудь рассорил бы неизбежно Макара Назаровича с Рудым Паньком и его друзьями. Не ко двору он среди них. Однако не только был принят, а «Вечера» начаты повестью, им рассказанной, что сам пасичник засвидетельствовал [I, 137]. И лад доверительного общения задан «Сорочинской ярмаркой». К панычу и его отношениям с завсегдатаями хутора еще вернемся 16, но как бы ни объяснялась двойственность, одно очевидно: обрзначился смысловой ряд, включающий в себя и изображение поступков паныча, и известия об издателях «книжечек», изъявления досады на «балагуров» и «умников» в монологе Фомы Григорьевича.
Все тот же абзац, предваряющий «чудную историю» в «Вечере накануне.», оказался включенным в еще один смысловой ряд, контрастно подобный тому ряду, который мы только что рассматривали и тоже возникший не в рамках повествования, а в просторе цикла 17. Это вереница картин общения, взращивающего и укрепляющего единочувствие18. Иное слово затруднительно было бы подобрать, чтобы обозначить состояние, овладевшее в эпилоге «Страшной мести» слушателями бандуриста или в третьей главе «Майской ночи» парубками^ ринувшимися в разгулье. Об испытанном в детстве единочувствии рассказывает и дьячок в «Бисаврюке», а затем — во втором варианте.повести. Интимному общению единочувствие принадлежит естественно и неотъемлемо, что рассказы дьячйа и подтверждают в обеих редакциях «Вечера накануне. «, но гпрдтверждения разнятся меж собою. В «Бисаврюке» с совершенною ясностью обозначена ситуация рассказывания, что обеспечивают и подзаголовок: «повесть, рассказанная <.>», и обращение: «я хоть сей же час расскажу вам <.>» [I, 350]. Та же ситуация ни в малой мере не обрисована. Мы оставлены в полном неведении относительно того, кому дьячок рассказал историю о поселившемся меж людьми «черте в образе человеческом» [I, 350]: нескольким ли людям или одному-единственному, к которому обращается церемонно на вы, и что это за люди (или человек): из ближайшего окружения дьячка или издалека, понимают ли его с полуслова или щревозмогая затруднения. Ни отторжения, ни недоумения эти обстоятельства не вызывали во времена Гоголя и в наши дни не вызывают: издавна укоренился такой строй литературного повествования, представлен только первый, а вторые — вне пределов текста19. В «Вечерах» избрана другая манера: ситуация рассказывания и указана, и обрисована. И воспоследовал сдвиг в содержательном наполнении эпизода. Чем дьячок неведомо с кем делился в «Бисаврюке», то сохранилось и в «Вечерах»: не умалилось и не пополнилось. Но если прежде мы могли распознать и угадать готовность дьячка возобновить интимность и единочувствие в общении не столь тесному как запавшее в память с детства, то теперь эта же готовность осуществляется у нас на глазах, подхваченная собеседниками 20.
В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» — на разных «этажах» этой многоярусной постройки — разные и многие люди из числа соотечественников и земляков Гоголя 21 застигнуты в момент доверительного общения, руководимого приверженностью национальной исторической памятив этом общении публичность связей меж людьми смыкается с интимностью переживаний и торжествует единочувствие22.
Жизнь родного края, впечатления детства и отрочества дали Гоголю право и возможность писать так о своих земляках и о бродящих среди них воспоминаниях о старине. Сказания и песни о Запорожье и казаках были в те времена известны на Украине старому и малому и любимы повсюдуони распространены на Украине и по сей день. Народное сознание соединило с памятью об эпохе крестьянских войн и казачьей вольности представление о героическом веке национальной истории, о братстве отважныхпрямодушных, во всем согласных меж собою воинов. Некогда запорожцы в массе своей ради такого содружества покидали — на время или на всю жизнь, г давно заселенные места. Идеал, движущий отдельными людьми и множествами людей, никогда не осуществляется вполне в действительной жизнитак было и в старинном Запорожье, отнюдь не во всем схожем с тем содружеством, которое восхваляют предания23. Однако реальное, историческое Запорожье и в' самом деле приблизилось в. пору крестьянских вЬйн какому жизнеустройству, когда воинская дбблесть становится-общим качеством, а братство и равенство прочно — хЬть и не до степени нерушимости — утверждаются в отношениях меж людьми. Этим и вызван к жизни, и оправдан обширный.)круг поэтических преданий о Запорожье, нашедших для себя сотни разных способов быть выраженными в слове — в сказаниях, в песнях % С десятилетиями и веками предания о Запорожье не тускнеют, не бледнеют, а, напротив, обогащаются: чтб в людях и в отношениях меж людьми любо певцу, сказителю, их слушателюто сплошь и рядом начинают приписывать Запорожьюдействуетсозидательная энергия народной исторической памяти.
Обширное народное предание о Запорожье, воШбтив-шееся в множестве устных рассказов, песен, дум, — источник всего, что знают о былом времени казачьей славы герои Того-ля. Сам-то он пользовался и другими источниками, книжными 25, но герои его либо не общаются с письменными источниками, либо — если могут общаться, потому что немало осведомлены в книжной светской культуре (как паныч в гороховом кафтане или неназванный рассказчик «Ночи перед Рождеством»), — ничего явно из этих источников не заимствуют. 3. ¦
Если в «Вечерах» народные предания 6 Запорожье воссозданы в многочисленных, отделенных одна от другой картинах (но не разъединенных, не разрозненных, а сведенных вместе единым, общим для рассказчиков и автора чувством приверженности исторической памяти и единым оценивающим взглядом), то в «Миргороде» — а именно в повести «Тарас Бульба» — запорожское предание запечатлено в картине целостной и многоплановой.
Повесть эта создавалась дважды: в 1835 году она явилась на свет в первом издании «Миргорода», а в конце 1830-х гг. претерпела коренную переработку. Вторая редакция издана в 1842 г. и печатается с тех пор как канонический текст. В обеих редакциях «Тараса БуЛьбы» Запорожье — это вольный союз отважных и прямодушных воинов, который держится единственно общим согласием и не потребна ему никакая иная, принуждающая сила, чтобы сохранить внутреннюю сплоченность и не утратить могущества. Запорожская Сечь в гоголевской повести не только не подвластна какому-либо из прилежащих государств (так оно и было в те века, о которых писал Гоголь), — она и в собственной внутренней своей жизни не знает власти ладают властью ровно настолько, чтобы действовать во исполнение общей воли запорожского казачества и в согласии с мнением большинстваобщественный уклад Запорожья решительно не допускает, чтобы власть употреблялась иным способом и в иных целях. Гоголевскому Запорожью совершенно не знакомо разделение общества на имущих и неимущих, притеснителей и притесненных, обидчиков и обиженных. В обеих же редакциях повесть наполнена любовным, даже завистливым отношением ко всему образу жизни Запорожья.
Тарас Бульба" - единственное завершенное и дошедшее до нас произведение Гоголя, где представлена — в согласии с народным преданием— внутренняя жизнь запорожского товарищества26. В «Вечерах» казацкая вольность была состоянием, к которому герои стремятся, а иной раз могут и прикоснуться и даже приобщиться вполне. В «Тарасе Бульбё» казацкая вольность — это жизнеустройство, представленное с множеством подробностей (во второй редакции значительно более обильных, чем в первой). Гзроическое предание развивается и возрастает также и как предание утопическое. Происходит это лишь в частичном согласий с движением и развитием собственно авторской мысли. В «Тарасе Бульбе», как и в «Миргороде» в целом, представлен рассказчик — лицо, близкое автору, но не вполне тождественное ему. У рассказчика — своя биография, опять же близкая к биографии Гоголя, но не совпадающая с нею. Об основных вехах ее рассказано в первой и последней повестях «Миргорода». Этот рассказчик, подобно персонажам «Вечеров», полон привязанности к народным преданиям о Запорожьеему и принадлежит завистливый взгляд на запорожское жизнеустройство. Он чувствует себя отъединенным от былой героической жизни (состояние, знакомое персонажам «Вечеров» и неизвестное ни одному из участников действия в «Тарасе Бульбе», — рассказчик в действии повести не участвует, хотя порою воображает себя его свидетелем) и восполняет эту отъединенность многосторонним и многокрасочным воссозданием неотразимо привлекательных черт старины, влекущих, однако, вслед за собою и ужасающие черты жестокого века27. Он-то, передавая в собственном изложении героическое предание, выводит на первый план утопию. Снова мы видим осуществление созидательной энергии народной исторической памяти — теперь уже в сочинительстве отдельного человека (и самого Гоголя, и вымышленного им рассказчика), а не в многовековой изустной передаче предания.
В «Миргороде» очерчен и другой тип отношений между человеком и национальным историческим прошлым: память о героической поре может быть не только хранимой, но и утрачиваемойбеспамятство надвигается на память. Так обстоит дело в «Вие». Сотник, отец красавицы ведьмы, прислал за Домою своих людей. В повести они названы «козаками» — и не раз, но тут же дано знать, что они крепостные: по добротной и не лишенной щегольства одежде видно было, «что они принадлежат довольно значительному и богатому владельцу» [II, 190]. Именно так: казаки принадлежат владельцу. Действие повести совершается в самом конце XVII или в начале XVIII века. Для того времени сочетание в одном лице казака и крепостного человека отнюдь не было странным. Землевладельцы из казацкой же старшины закрепощали былых простых вольных казаков. С другой стороны, не забылись времена, когда крепостной легко мог превратиться в казака. Вот и сотник прислал то ли недавних вольных «рыцарей» (слово это было в ходу средь казачества), населяющих его земли и попавших в крепостную зависимость, то ли, напротив, наследственных своих крепостных, с отрядом которых он, бывало, выступал в походы и являлся в казачье войско (в первой редакции «Тараса Бульбы» сказано, что именно таким образом Тарас положил начало своему полку).
Что в походы они ходили — это достоверно известно. «Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне, не без славы» [II, 190]. Отпечаток одной этой фразы ложится на всю повесть и отзывается в понимании всего, что в ней сказано. Фраза отсылает к временам минувшим и совсем иным, нежели те, когда разворачивается действие повести. Были эти люди воинами, защитниками родной земли, отвагу выказывали в боях, но условия жизни изменились и обратили воинов в верных помещичьих слуг в селении, попавшем под вМстьведьмы. Кто ни живёт там — все свыклись с бесовской властью панночки, былые воины — тоже. Со своим собственным славным про/' шлым они разлучены и даже не вспоминают о нем, разговаривая с Хомой. Читателю, между тем, дана возможность узнать об этом прошлом и взглянуть ма него. Если сотниковых казаков настигло время отлученности от вольности и славы, то юноша Хома в это время родился и вырос.
Сотниковы казаки не сплошной черною краской окрашены. Они житейски разумны, общительны, дружественно расположены к Хоме. Да и не к нему одному, а, видать, ко всякому, с кем сводит жизнь и кто не выступает против них недругом. Вот и еврей корчмарь на дороге из Киева «с радостью» принимает их — «старых знакомых» [11,191]. Они с явным удовольствием следуют исконной привычке доброго общения меж людьми. Но как молчит в них память о славном былом, потому что не воплощается в мысли, слове, побуждениях, поступках, так умолкает и добрая привычка, сталкиваясь с панскою волей. Хоме они друзья в тех пределах, покуда приказания сотника не требуют чинить над ним насилия. Правда, в корчме спьяну пожалели его и готовы были отпустить, но на трезвую голову им такое на ум не придет, и что сотник велит — то они исполняют немилосердно. А хозяйскою волей управляет бесовская. Беспамятство, полная отрешённость от прошлого еще не овладели этими людьми, но овладевают, и до какой степени уже владеют ими, — так и остается в повести непроясненным — не по упущению Гоголя, а во исполнение его намерений.
— Впрочем, в «Тарасе Бульбе» вольные казаки — и тоже вопреки своей натуре—творят зло и насилие, и Гоголь на то глаза не закрывает. Об этом — речь много далее.
Что до «Вия», то там о недавнем времени героизма свидетельствуют немые телесные знаки: смысл их внятен каждому, но обесценен житейской практикой новой эпохи.
Чисто вещественные и оттого вовсе невнятные персонажам знаки недавней и уже забываемой героической эпохи наполняют собою «Мертвые души» Более всего буквально взывают к чувству и мысли читателя два портрета: Кутузова — в комнате, которую отвела Чичикову Коробочка, и Багратиона в гостиной Со-бакевича. Внимательно оглядывая комнату в доме Коробочки, Чичйков «заметил, что на картинах не всё были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче» {IV, 47]. Старик — это, скорее всего, коллежский секретарь, покойный муж хозяйки имения. Понятно, почему этот портрет появился здесь, понятно, что с ним связаны воспоминания Коробочки: да и какое-то обрывочное воспоминание вроде исторического вызывает этот портрет. Если портрет старика занимает законное и необходимое место на стене, то остальные картины — это случайный и беспорядочный набор: тут и птицы, и портрет Кутузова. Надо же что-то на стены вешать — Коробочка и украсила комнату тем, что оказалось под рукой. Такое же впечатление случайности возникает и при описании картин в гостиной Собакевича — там «всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост <.>. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион» (VII, 95]. Никаких чувств и никаких воспоминаний о героическом времени эти изображения не вызывают ни у владельцев своих, ни у их гостя. Портреты героев войны, решившей судьбы России, обратились в помещичьих домах в предметы обстановки, в утварь .
Рубцы на лицах казаков и портреты в помещичьих домах суть зримые приметы времени — отнюдь не той поры, когда сотниковы казаки добывали славу в походах, и не «грозы двенадцатого года" — приметы принадлежат годам, когда входил в возраст киевский-бурсак Хома Брут и когда — полутора веками позже — коллежский советник Павел Иванович Чичиков навестил губернский город NN. В самом деле, рубцы — это следы старых, закрывшихся ранпортреты прославленных генералов продаются повсеместно, когда подвиги уже в прошлом и слава успела упрочиться, и освоб&дительное восстание на Балканском полуострове разгорелось в эпоху после наполеоновских войн.
Приметы времени принадлежат действительности за пределами словесного искусства. Сверстники Хомы Брута то и дело замечали на лицах соотечественников отметины, оставленные боевым оружием, и-если современникам Чичикова частенько попадались на глаза портреты полководцев 12-го года и греческих военачальников, то для того бйли й причины, не заслуживающие иронического отношения. Спору нет — напоминания об отпоре нашествию встречаемы бывали и невозмутимым безразличием, но сколь во многих укрепляли они гражданское сознание 29. Вести о борьбе за независимость, ведущейся народами, издревле теснейше и дружественно связанными с Россией «» вызывали на Руси широкие волны сочувствия, и не всегда оно оставалось бездейственным, — напротив, пробуждало гражданственную волю. Но коль скоро действующие лица гоголевской поэмы — омертвевшие люди, то и зримые признаки времени, их окружающие, становятся омертвленными.
В общении и ощущениях гоголевских героев — как и реальных, невымышленных, людей — каждая встреча с разнородными приметами времени (среди которых напоминания о недавней героической эпохе количественно не преобладают) совершается невзначай', именно так обстоит дело в только что приведенных эпизодах. В обилии же своем эти встречи привычны и ожидаемы. Они — неустранимая составная часть того предметного и вещественного мира, с которым художник, сколь бы далеко ни заводили его творческие побуждения и фантазия, не в состоянии разлучиться и не желает расстаться. Воспроизведенные в литературном произведении, те же самые приметы сущностно изменяются, поскольку становятся частью системы образов, организованной художественною семантикой (смыслонагруженностью и смыслопорождением) совместно с художественным же синтаксисом — разнородными внутритекстовыми и внетекстовыми связями.
Рассмотрим одну из таких связей: действием её портреты Кутузова и Багратиона сомкнуты — хоть и разделены изрядным, расстоянием в тексте — о крохотною деталью в шестой главе поэмы. Перечень «всякой всячины», сваленной в беспорядке на бюро в доме Плюшкина, закончен упоминанием о зубочистке, совершенно пожелтевшей, которою хозяин, может быть, ковырял 8 зубах своих ещё до нашествия на Москву французов" [VI, 115].
Замечательным внутренним движением полна картина, включившая в себя эту фразу. Описание — одно из многих ин-терьерных описаний в поэме и, пожалуй, самое причудливое из них32 — начато предметами крупными и массивными («Тут же стоял прислоненный к стене шкап с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором»). Сразу вслед за тем взгляд повествователя сосредоточивается на одном предмете обстановки и не отрывается до тех пор, пока не уловит последней мелочи среди всякого сору. Созерцанию сопутствуют мысли об интервалах во времени: к маятнику остановившихся часов «паук уже приладил паутину», лимон иссох до того, что стал «ростом не более лесного ореха». Когда дело дошло до вещи мельчайшего размера, масштаб времени оказался предельно широк33.
Описание «старинного убранства» продолжено далее — в новом абзаце, что дает читателю знать: произошел некоторый перерыв, как бы дыхание переведено после слов о зубочистке и наполеоновском нашествии. И уже вслед за тем окинуты взглядом стены, потолок, угол. Фраза же, потребовавшей паузы, оказалась особо выделенной. В ней, кстати, тоже можно видеть примету времени, только не материальную, не зримую, а фразеологическую. О чем угодно, что свершалось на глазах живущего поколения, но уже отодвинуто в отдаленное прошлое, можно было сказать в те годы, когда совершалось действие «Мертвых душ»: «Еще до нашествия французов» 34. Будь перед нами человек, делящийся в бытовой обстановке впечатлениями, мы так и Могли бы судить: невзначай проскользнуло речение из часто применявшихся в ту пору — точно так же, как в доме Собакевича Чичиков невзначай увидал портреты/ из числа тех, какие и в других местах не редкость встретить.
Поэма вводит нас в иной, более глубокий смысл, который если б и возник в обыденном бытовом разговоре, то тут же и заглох бы, не поддерживаемый контекстом. Одни И те же годы пережиты Россией и протекли в доме Плюшкина. Москва сгорела и возродилась, Россия отразила иноземное вторжение, а в доме Плюшкина эти же годы ознаменовались тем, что зубочистка вконец истлела. Вырисовался смысл, соединенный с тем, что внушал нам эпизод с портретами. Гоголевские, герои неодолимо отчуждены от всего, что совершается на их веку и имеет силу отразиться в будущем, сказаться добром в жизни предстоящих поколений. Предвосхищается то, что будет сказано в десятой главе: «И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные» [VI, 210]35. Столетие, на которое пришёлся 1812 год, никак не заслуживает такой участи, Гоголь, однако, рисует не завершившуюся эпоху, а длящуюся, и век, не так уж давно начавшийся ко времени, когда совершалось действие «Мёртвых душ», предстаёт перед нами зыбким, двоящимся: то ли он пронйкнут деятельной памятью о 12-м годе, то ли знать не знает о нём. Подступами к такому взгляду на современность отмечейы й некоторые прежние сочинения Гоголя: повести об Иване Федоровиче Шпоньке, о ссоре меж Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем (что в надлежащих местах будет отмечено) — с полной же определенностью этот взгляд развит в «Мёртвых душах». Мало того, что страницы первого тома поэмы заполнены людьми, охотно приемлющими отчуждение от того, что в их же век вершится в национальной истории, — эти люди составляют обширный и, как им самим представляется, самодостаточный пласт русской жизни: по их понятиям, достигнутое ими и устоявшееся жизнеустройство никакого обновления не то что не требует даже не предполагает. Разве что Чичиков иногда позволяет себе судить иначе, да и то мимолётно (о чем также речь впереди). Герои первого тома поэмы все совместно — действием не столь собственной воли, сколько безволия — творят такое столетие, которое ничего иного не станет достойным, как быть вычеркнутым из истории. Поддастся ли век их воздействию? — такой вопрос встаёт перед художником и, в согласии с его волей, перед читатепем поэмы. И не в том дело, что это дурные люди. Широко известны слова Гоголя о собственной его поэме, включенные в «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Герои, мои вовсе не злодеиприбавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы со всеми. Но пошлость всего вместе испугал®чит&телей"|уііі, .293]. И опять надр вспомнить еще одно знаменитое место — на сей раз из седьмой главы, — размышления о «страшной, потрясающей тине мелочей, окутавших нашу жизнь» [VI, 134], Так выявлена в «Мертвых душах» трагическая ситуация гоголевской эпохи36.
Трагическую ситуацию обостряет и обогащает ситуация драматическая. Среди погрязших в «тине мелочей» мы застаем людей, которые еще недавно были причастны истинному движению истории, вершащей национальную жизнь и творящей национальное будущее. Как казаки в «Вие» «бывали когда-то на войне, не без славы», так и полицеймейстер губернского города NN «служил в кампанию 12-го года», как-то даже видел издали Наполеона и может подтвердить* что французский император «ростом никак не будет выше Чичикова» [VI, 206] и складом фигуры схож со скупщиком мертвых душ. На протяжении всего повествования явился один-единственный повод припомнить, что преуспевающий полицеймейстер — «он получал вдвое больше доходов противу всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города» [VI, 149] - из тех, кто в 12-м году соединенною деятельной волей решил судьбу России. Повод же— в том, что сбитые с толку городские чиновники всерьез задумались: не переодетый Ли Наполеон, сбежав с острова в океане, явился в их город под именем Чичикова? Гоголевские герои обратились было к исторической памяти, а уперлись взглядом в анекдот, точнее — в анекдотические объяснения чичиковского «предприятия».
Говоря об анекдоте в сочинениях писателя первой половины прошлого века, необходимо уточнить, в каком значении употреблено это слово: в том ли, такое к тому времени существовало достаточно давно, а ныне воспринимается как устаревшее, или же в том, которое в наши дни признается основным и современным, а при Гоголе только входило в оборот и в глазах ревнителей строгости языка выглядело незаконным? Новейший «Литературный энциклопедический словарь» так определяет эти два значения: «1) короткий рассказ о незначи-. тельном, но характерном происшествии, преимущественно из жизни исторического лица <.>- 2) краткий устный рассказ, злободневного бытового и общественно-политического содержания с шутливой или сатирической окраской и неожиданной остроумной концовкойсвоеобразная юмористическая, нередко гротескная притчаосновной жанр современного, преимущественно городского фольклора"37. То, что мы отмечаем в «Мёртвых душах», явно согласуется со вторым значением слова анекдот.
1 Литературные произведения разных родов и жанров, эпох и направлений сплошь и рядом включают в свой состав анекдот именно в этом смысле слова. Особенно тяготеют к этому новеллистика и сйаз * Гоголь •' даже и в тех его сочинениях, где родство с новёЛлой сказывается лишь в некоторых чертах повествования,'а сказ дает себя знать приглушенно, анекдоту зачастую пределы не поставлены, — уж очень глубоко увлечён художник юМором, парадок.
Мертвых душах", к которому мы обратились. Если парадокс не всегда разрастается в гротеск (что и у Гоголя можно видеть), то гротеск всегда произрастает из парадокса (что Гоголь любил демонстрировать наглядно и обостренно)39. В числе родовых черт гротеска — возрастающая с ходом повествоёания ' причудливость открывающейся читателю картины, усугубляющийся шаг за шагом отрыв от естественных соразмерностей и соотнесенностей. Последовательным приумножением нелепого и чудовищного создается и трагический гротеск, и комический. Гоголь на протяжении всего своего творчества уверенно вырабатывал не опробованные до тех пор возможности гротескного смыслопорождения. Пример тому — и десятая глава «Мертвых душ» с эпизодом, когда чиновники губернского города размышляют о Чичикове и Наполеоне и, как будто приникая к истории, все глубже погружаются в стихию анекдота40.
4. ¦ ' ¦
В тот момент, когда в попытках найти смысл в чичиковской афере истало быть, уяснить, чем же она опасна, воображение чиновников начинает превозмогать какие бы то ни было доводы разума, — как раз перед тем, как возникло предположение о Чичикове-Бонапарте, — снова выходит на первый план народное историческое предание, но далеко не схожее с тем, что было знакомо читателям Гоголя по «Вечерам» и «Тарасу Бульбе». Две несуразности сопровождают в гоголевской поэм©-, «Повесть о капитане Копейкине». Мог ли* калека без руки и ноги предводительствовать, шайкой разбойников? Как это почтмейстер не-сообразил, что у Чичикова руки И ноги целы и уже поэтому он не мог бьіть-^апиті?мстКопейкиньпм?"За странность сюжета об изувеченном капитане- ¡-почтмейстер •ответственности не: несёт! Ьн — лёресяевзырает тор’цто 'довелось Слышать: ^Емупо'дішжности прихвд^сяЛеадсдеяос ямщиками, а те чего не йЗспушаются ПО, дорогам: История 'капитан^ Корякина эстолько поразила благополучного ¡-и простодушного человека Ивана Андреевича, что он, не замечая в ней нескладиц, наделяет её значительностью известия об истинных событиях, распоряжается ею так, как распоряжаются, преданием: наполняет такими подробностями, какие ямщикам на ум не пришли бы, и готов всё, что й" веіре^ тится из ряду вон выходящего, соединять со злоключениями й похождениями взбунтовавшегося капитана. Необычаййое ветре1 тилось — чичиковское «предприятие" — само собой могла мелькнуть и догадка: Чичиков и есть капитан Копейкин. Логика причудливая, гротескная, но объяснимая. Сам же сюжет о капитане Копейкине — плод гоголевского вымысла. Не гулял по Руси рассказ о герое 12-го года, покалеченном, оставленном без призрения и промышляющем разбоями. Есть старинная народная песня о воре КопейкинеГоголю она была, по всей видимости, известна, что отозвалось в поэме41. Суть вымысла Гоголя — не в том, что был, дескать, такой капитан, которого несчастливая доля вынудила взяться за грабежи, а в том, что предание об этом капитане бродит по Руси.
Повесть о капитане Копейкине" сродни в некоторой мере «Тарасу Бульбе». Близость особенно сказывается при сопоставлении двух первых редакций — если мы будем читать «Тараса Бульбу» в том виде, как повесть увидела свет в 1835 г., а историю о капитане Копейкине — в первоначальном варианте, тщательно обработанном, но не напечатанном при жизни писателя (Гоголь этот вариант и в цензуру не представил по причине полнейшей крамольности). Тарас Бульба «носом слышал, где и в каком месте вспыхивало возмущение, и уже, как снег на голову, являлся на коне своём. „Ну, дети, что и как? Кого и за что нужно бить?“ — обыкновенно говорил он и вмешивался. в дело. Однако ж, прежде всего, он строго разбирал обстоятельства, и в Таком только случае приставал, когда видел, что поднявшие оружие действительно имели право поднять его» [II, 284]. А вот каков капитан Копейкин в первом варианте «Повести»: он беспощадно грабит по дорогам, но покушается только на казенное добро и не вредит ничем «проезжающим по своей надобности" — «услышит ли, что в деревне какой-нибудь казенной близко уже платить казенный оброк: он уже там. Требует в тот же час к себе, в некотором роде, старосту: «Подавай, брат, казенный оброк и подати» «[VI, 529}.: Так Копейкин возмещает ущерб, который потерпел от государственной власти, отказавшей ему, изувеченному на войне офицеру, в пособии. В обоих случаях герой легенды насильственным действием-восстанавливает справедливость в условиях, — когда другимпутем правды не достигнешь, и в изображении действия есть заметное сходство. Во второй редакции «Тараса Бульбы» и в печатном тексте «Мертвых душ» близость не столь заметна, но и не исчезает совершенно: мысль о насильственном восстановлении справедливости остается в силе.
Эта же мысль предельно драматично заявлена в финале «Шинели» — в фантастических посмертных похождениях Акакия Акакиевича. Здесь нет обращения к истории, давней или недавней, но обнаженно — с большею ясностью, нежели в «Повести, о капитане Копейкине», — указана возможность, таящаяся в будущем: нынешний униженный-и .обезличенный человек может в некоем инобытии неумолимо и решительно потребовать восстановления своих прав. В повести это инобытие фантастично. Но останется ли оно фантастическим, если читатель взглянет на жизнь в других исторических масштабах?
Другой вопрос: к чему ведёт такое восстановление попранных прав? К торжеству согласия или к новым всплескам раздора? Обнадёживает ли прогностика «Шинели» или предостерегает? 43 К этой проблеме, как и к подобной же прогностике «Повести о капитане Копейкине», ещё вернёмся.
Два типа отношений к народному историческому преданию обрисованы в сочинениях Гоголя многократно и многосторонне: сроднённость, явленная с предельной полнотой в «Вечерах на хуторе бііиіз Дйканьки», и отчуждённость, наиболее настойчиво дающая себя знать в героях петербургских повестей. Гоголь, как и многие другие художники слова, любил достраивать парные антитезы, превращая их в триады. Так произошло^ отношением литературных персонажей к преданиям. Триада-Возникла споявлёййем «Повести о капитане Копейки-не». Почтмейстер Иван Андреевич не сроднен с преданием, но и не отчужден от него, он — первооткрыватель предания, единственный в своем кругу, кто заглянул в мир народного исторического сочинительства и поражён тем, что открылось ему. Общее межбсеми героями Гоголя, так или иначе показанными в отношениях к преданию, — жажда возобновить его. Одни пополняют хорошо знакомый обширный свод новыми изводами. Другие пытаются пробиться к историческому преданию и видят перед собой слабые его проблески и химерические подобия. Почтмейстер сделал первый шаг к тому, чтобы уловить живущее предание (что оно живущее — это вымысел Гоголя, как вымышлен и сам почтмейстер), да и остановился на том.
За сто лет до Гоголя (в 1735 г.) англичанин Г. Болинброк писал: «История — древний автор, опыт — современный язык/ Первая формирует наш вкус, мы переводим смысл и значение, мы впитываем в себя её дух и сутьно мы подражаем лишь отдельным достоинствам оригинала — подражаем в соответствии, с идиомами нашего родного языка, т. е. мы часто заменяем их эквивалентами и далеки оттого, чтобы рабски их копировать» «4. Ёсли учесть, что история не сводится к хронике событий, но вбирает в себя также перипетии развития национального сознания, то и народное предание есть факт истории не в меньшей мере, нежели события, послужившие предметом преданий. Предание переводит речения древнего автора, истории, на язык опыта, наращиваемого и обновляемого из поколения в поколение, и само становится древним автором, только в большей мере приближенным к новой современности. Редко какой человек не испытывает и не переживает хотя бы изредка необходимости переложить в идиомах своего собственного языка удвоенное наследие древнего автора: и то, что принадлежит давно минувшим событиям, и то, что наращивается и хранится преданием. Едва ли не в каждом сочинении Гоголя есть человек, застигнутый в состоянии, когда такая необходимость владеет им или хотя бы в малой мере дает себя знать. Одни оказываются при этом отзывчивы до. виртуозности— как дьячок Фома Григорьевич, соединяющий историческое преданиє с семейным, или до той изощрённости, которою овладевает рассказчик «Миргорода» (лицо^отнюдь не равное Н.В. Гоголю) со своей готовностью предельно’Сблизить приверженность преданию с литературным сочинительством, или до всепоглощающей увлеченности почтмейстера Ивана Андреевича. У других отзывчивость мала почти до неощутимости. Третьи и вовсе беспомощны. При всех трёх этих условиях мера человечности в человеке поверяется как одним из главных критериев его способностью найти в собственном своём опыте «эквиваленты» языку «древнего автора».
ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: 814 т.- М.: Изд-во АН СССР, 1337−135? — т 1 — П 139 И дальнейшем сочинения и письма Гоголя ЦИТИРУЮТся, кроме особо оговоренных случаев, по этому изданиюв скобках указываются том (римскими цифрами) и страница (арабскими цифрами).
Особо следует сказать о слове козак и производных от него в Гоголева ских текстах Русская орфография середины прошлого века предусматривала двоякое их написание: с буквою, а в первом слоге (что отвечает давней русской традиции, но' расходится с украинским произношением и письмом), или с буквою о — в соответствии с украинской нормой. В гоголевские времена написание с буквой, а признавалось основным, а с буквой о — рассматривалось как вариантная форма, что отмечено в Словаре В. И. Даля: и в первом издании (Даль В. И. Толковый Словарь живого великорусского языка, — ТII, — М., 1865. С. 690), и в последующих. Словарь Д Н. Ушакова сопровождает написание козак пометою устаревшее (Толковый Словарь русского языка /, Под редакцией Д. Н. Ушакова — М., 1935 — Т. I.- Столб. 1280), а более поздний Словарь С. И. Ожегова вообще не предусматривает его (Словарь русского языка I Составил С. И. Ожегов, — 2-е изд.-М., 1953. С. 228). Между тем форма козак отнюдь не исчезла из печатной русской речитак, недавно изданная русская книга П. Г. Паламарчука озаглавлена «Козацкие могилы"(М., 1990).
У Гоголя написание козак, не обязательное для своего времени и малоупотребительное ныне, исполняет крайне существенную художественную функцию, почему .и сохраняется всеми издателями его сочинений и исследователями, цитирующими их. Слово это в гоголевских произведениях находится в одном ряду с другими многочисленными украинизмами: и отдельными словами, и развёрнутыми речениями, иначе говоря — есть часть массива украинских цитат в русской речи. Решись какой-либо публикатор заменить давнее напиоа ние общепринятой современной русской формой, он изъял бы из этого массива одно из ключевых слов.
В этой же роли — ключевой украинской цитаты, наделённой богатой смысловой окраской, — написание козак употреблено во многих написанных по-русски (и в прошлом, веке и в нынешнем) сочинениях писателей, историков, этнографовпомянутая только что книга П. Паламарчука — из их числа. Обычно, впрочем, когда авторы русских печатных трудов о Гоголе вводят слово казак в собственную речь, то руководствуются современной же русской орфр
К.- f-Ei-: i го,-. <�¦:.¦> ий-" -." * - ' ' графией. Весьма интересная книга В. Я. Звиняцкрвского «Николай Гоголь. Тай$>інационапьной души» (Киев, 1994) может пщ^еррм. Тому же правилу и мы будем следовать.
Другая украинская цитата, постоянно повторяющаяся на страницах «Вечеров», — написание панич, не наделённое, впрочем, ключевой ролью, какою обладает слово козак. За пределами гоголевского текста будем пользоваться русским написанием паныч. В противном случае читатель^ЙАд бУы принужден Мысленно произносить это слово несвойственным русскому Я3?іку ?Ц^ВДрм.
Заслуживает особого замечания слово пасичник. Строго следуя русской орфографии, надлежало бы писать пасечник. Впрочем, В. И. Дал.^^аряду с написанием пасека, допускает и форму пасикано и он слово пасечник приводит лишь в одном варианте. (См: Дщпь В. Ц. Толковый Словарь, — 2-е изд.- М., І 880 -1882. Т. III.-С. 24). Гоголь сохраняет написание этого слова, близкое к украинскому, что вошло в традицию и в ирследо^аниях о творчестве Гоголя — и не без. основания. Слово -.неиз.широчайще употребляемых, и зрительный образ его не столь устойчив в педщц людей, читающих по-русски, как образ слова казак. В повестях Гоголя оно попадается нам Наказа едва лй не чаще, нежели во всех остальных текстах, с какими. мы имееіідело, вместе взятых, а к тому же и не вводит в затруднение нашу в^утреннюю речь.
2. О минус-приёме см. Литературоведческий Энциклопедический Сло-варь.гMj «Сов Энциклопедия»,. 1987. С. 221. Ссылки в этой связи на труды Ю. М. Лотмана см. в 4-м разделе 4−4 главы 1-й части.
3. Рассказывая о «вечерницах» на хуторе, Рудый Панько постоянно именует Фому Григорьевича дьяком, между тем как в подзаголовках повестей трижды обозначено «Быль, рассказанная дьячком.». Слова дьячок и дьяк употреблялись как синонимы, на что указывает Словарь В. И. Даля (2-е изд.- Т. 1С. 439). Там же отмечено: дьяком может быть назван не только дьячок, но й вообще «церковник, церковнослужитель.». Подзаголовок, в отличие от непринужденного рассказа пасичника, обладает качествами документа. Поэтому и должность Фомы Григорьевича обозначена вполне точно. В разговорах же, не побуждающих к официальности, Рудый Панько прибегает к такому слову, которое, не вводя в заблуждение, позволяет поместить его давнего и почтенного друга в один ряд с церковнослужителем рангом повыше — пусть не с попом, так хотя бы с дьяконом.
4. Т. е. а единстве пространства и времени (точнее — в единстве пространственных и временных отношений и их осмысления, прямого и переносного), которое конструируется во внутреннем мире художественного произведения. См. о том: Лихачёв Д. С. Внутренний мир художественного произведения. «Вопр. литер.», 1968. № 8- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики.- М.: Худож. лит., 1975.. .
5. Персонаж, известный читателям Гоголя под именем Басаврюка, звался в журнальной редакции ібйсаврюком,, что указьшает рщ его связь с нечистой силой (біспо-украир<$ки—бес, чёрт}, ., ,.
6< Об обстоятельствах публикации повести в «С^^чествемнь^с пащеках» и о конфликте ГЬголя с П. Свиньиным см. в книге: Манн Ю. В. «Сквозь видный миру смех.» Жизнь Н. В. Гоголя. 1809−1835. М.: МИРОС, 1994. С. 232−234.
7. В гоголевском тексте это выражение сопровождено сноской, «т.е. лгать».
8. В «Бисаврюке» явлены три ситуации общения, в которых рассказчик участвует непосредственно или Опосредованно: та, о которой он сам вспоминает, та, на которую указывает подзаголовок (если повесть «рассказана» -значит, имеется в виду, что дьячок беседовал с кем-то), и та, наконец, в которой участвует читатель. Первая ситуация обрисована, остальные предполагаются с необходимостью, но никакими живыми чертами не отмечены. (Что до ситуации общения меж персонажами повести, то они нас сейчас не интересуют, так как появление нового контекста — включение повести в цикл — не отозвалось на них столь решительно, как на коллизиях, в которые вовлечены рассказчик и адресаты его повествования).
Ситуация рассказывания (та, что указана подзаголовком) и общения с читателем в новом контексте избавлены от былой обезличенное&tradeи пополнились целым набором промежуточных ситуаций (встречи в доме пасичника, история с публикацией повести). При этом что ни шаг, то обнаруживаются новые повороты диалогов.
9. Здесь снова сноска в гоголевском тексте: «т. е. солгать на исповеди».
10. Говоря о пространстве цикла, имеем в виду пять взаимосвязанных, ноне тождественных явлений:—-полный объем текстов, образующих циклсуммарный охват пространства и времени, совершаемый циклом (это еще не хронотоп цикла — не принадлежащая ему организация времени и пространства, — но внешняя оболочка хронотопа), все, что размещено, и всех, кто размещены в этом пространстве и времени лица, картины, события, размышления (что составляет вещественное наполнение хронотопа), те взаимопритяжения и взаимоотталкивания людей, которые, варьируясь, становятся нормой в сочинениях, составивших цикл (человеческое — социальное и нравственное, прежде всего, — наполнение хронотопа, см. о том также примечание 21), нормы образотворчёства — художественных условностей и смыслопоро-ждения (включающего в себя характер диалогизма, принципы обращения со словом), — осуществленные в хронотопе и обеспечивающие его целостность.
11. Изо всех рассказчиков в «Вечерах» один только Фома Григорьевич владеет ситуацией воспоминаний о воспоминаниях.
12. Индивидуализация лишила бы картину центростремительное&trade- - выигрышного качества многих гоголевских описаний.
13. Каждое из трех звеньев конструкции перестроено, смыслопорождаю-щая соотнесенность звеньев сохранена.
14. Меж остальными рассказчиками Рудый Панько не то что ссор, а и малых недоразумений каких-либо не отмечает.
15. Ничтожный повод — не к месту помянутое словечко — ведет к непот правимо дурному последствию, — предвосхищена ситуация повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче.
В. Это произойдет за пределами «Введения». Само же литературное существование паныча продолжится и вне «Вечеров», черты его личности и биографии найдут воплощение в «Миргороде», между тем как Фома Григорьевич, Рудый Панько и не расставшиеся с ними собеседники так и останутся навсегда в рамках первой прозаической книги Гоголя.
17. Простор цикла выражение отнюдь не метафорическое. Каждая из восьми повестей возникла в общении в пределах пасичниковой хаты Печатная книжка, снабженная предисловием и комментариями пасичника и составившая Цикл, предполагает общение в неоглядно широком просторе — с участием читателей, находящихся в неопределенном отдалении от Рудого Панька и его гостей, во всяком случае — не в близости к Диканьке (читатель, с которым издатель повестей затевает доверительный разговор, и дороги-то к пасичникову хутору не знает). В этом просторе бродят и неприятные люди, нелрошенно вторгающиеся в то доброе общение, к которому приглашает пасичник читателей, — все те же «господа», которых неизвестно как и называть можно, между тем как «умники», помянутые в «Бисаврюке», никоим образом не были прича-стны контакту дьячка с воображаемым слушателем.
В пространстве каждой из повестей протянуты свои смыспопорождаю-щие ряды. В просторе цикла их сеть становится много гуще.
18. Для гоголевских героев «срастание, слияние» (курсив автора — В. 3.) есть «важнейшее чувство, вот отчего почти в каяедой повести присутствует то свадьба, то ярмарка, то шинок — место сбора толпы, где раздаются песни, рассказывают небывальщины, танцуют, ссорятся, мирятся» (Золотусский И. П. Гоголь.- М.: Мол. гв&bdquo- 1984, — С 133−134). Единочувсгвие достигаемое персонажами «Вечеров» и испытываемое рассказчиками, есть высшая степень согласия и слияния.
19. Весьма интересную картину представляет собой развитие такого рода повествований в тот примерно столетний период, на который приходится и творчество Гоголя, — от «Пригожей поварихи» М. Чулкова до «Кавказского пленника» Л. Н. Толстого. У Чулкова ситуация рассказывания — композиционный прием. Мартона характеризует себя откровенными признаниями, изложением событий, но не какими бы то ни было чертами поведения в ситуации рассказывания. Она владеет книжной речью, которая вполне могла бы быть употреблена в повести, где о той же Мартене говорилось бы в третьем лице. Толстой позволяет весьма многое увидеть в личности рассказчика единственно передачею его речи, чем запечатлевается, не будучи изображена непосредственно, и ситуация рассказывания. Ни Чулков, ни Толстой не нуждаются в изображении этой ситуации: первый по той причине, что исключает ее из поля внимания, второй — потому что и без того вводит читателя в эту ситуацию. У Чулкова подразумеваемая ситуация рассказывания чисто условна, у Толстогодостоверна и психологически, и нравственно и при этом представлена в отвлечении от житейских обстоятельств. Гоголя же, начиная «Вечерами на хуторе близ Диканьки», житейские обстоятельства ситуации рассказывания интересуют первостепенно и образуют поле, на котором развертывается художественное исследование. В «Бисаврюке» дьячок изображен вне таких обстоятельств, но ситуация рассказывания, воссозданная в его воспоминании о детстве, предвосхищает собою общую норму «Вечеров», картины общения соединены с живописанием быта.
20. Гоголевские собеседники — это в широком смысле слова сородичи. Встречи в хате пасичника позволяют живо ощутить и осознать связующее родство, что, однако, не всякому дается: паныч противится атмосфере сродненно-сти и, в конце концов, порывает с содружеством рассказчиков^ Готовность возобновить ту же сродненность в общении-в неизмеримо более широком масштабе передана пасичнику.
21. Соотечественники и земляки — не одно и то же. Увлеченность общим национальным преданием — характеристическая черта соотечественников, давняя привычка к доверительному общению прочна у земляков. В хате.
Рудого Панька любой соотечественник принят и будет принят как земляк. Судя по предисловиям пасичника, таким желанным гостем может стать любой его читатель, если только настроен дружелюбно, — не обязательно даже украинец, лишь бы русскую грамоту разумел.
22. В этом отношении начало эпилога «Страшной мести» представляет собой полнейшее подобие собраниям в доме пасичника. С таким пониманием возможностей человеческого общения Гоголь никогда не расстается, с наибольшей полнотой оно явится-восторжествует, позволим себе сказать, — коренным образом обновившись, в «Мертвых душах», «Выбранных местах», «Риме».
23. Предание, в отличие от аналитического исследования, не ставит и не может ставить перед собою задачи создания картины, адекватно соответствующей реальности минувшей эпохи.
24. Обширный свод известий о Запорожье, сохранившихся в устной передаче, — от бесспорно достоверных до самых фантастических и всегда опоэтизированныхиздал более ста лет тому назад харьковский профессор историк и этнограф Д. И. Эварницкий (Эварницкий Д. И. Запорожье в остатках старины и в преданиях народа. — Т. 1−2. — Харьков, 1888). Нелишним будет отметить, что Д Эварницкий был близко знаком с И. Е. Репиным, в знаменитой картине, где изображены запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану, есть и портрет Эварницкого. Профессору Харьковского университета отведено место писаря.
25. Главные из источников — «История Малой России» Д. Бантыш-Каменского, «Описание Украины» Боппана — русский перевод записок французского инженера, служившего в польских королевских войсках в XVII веке (его книга издана в России Ф Устряловым в 1832 году), «История Русов, или Малой России», приписывавшаяся (как доказано к нашему времени, ошибочно) Г. Конисскому. Действительный автор её, — по наиболее вероятным предположениям, — Г. А. Полетика. В 30-е годы прошлого века «История Русов» еще не была издана, но в рукописях распространилась широко и Гоголю была хорошо знакома.
Песни же Гоголь особенно ценил как источник приобщения кнародной исторической памяти «Это народная история, живая, яркая, исполненная красок истины, обнажающая всю жизнь народа <.>. Они — надгробный памятник былого, более нежели надгробный памятник камень с красноречивым рельефом, с исторической надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи <.>. Песни для Малороссии — всё: и поэзия, и история, и отцовская могила» (VIII, 90−91]. Эти прочувствованные строки взяты из статьи «О малороссийских песнях», вошедшей во второй том «Арабесок» (1835 г.). .
Особую привязанность Н. В. Гоголя к народным песням отмечает автор первой обстоятельной биографии великого писателя П. А. Кулиш. См.: Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем — СПб, 1856. Т 2 -С. 210 и след. Впоследствии о том же писали едва ли не все исследователи, касавшиеся сколько-нибудь подробно сочинений Гоголя об Украине. П. АКулиш приводит обширный список любимых песен Гоголя, украинских и русских, с записями некоторых их них (там же, с. 210−215 и 232−234).
РОССИЙСКАЯ.
• ГОСУДАРСТВЕННАЯ ёПБТтГЕКА.
26. Существует подобное же незаконченное произведение Гоголя — роман «Гетьман» и произведение, возможно, и завершенное, но уничтоженное автором, — пьеса «Выбритый ус». О том и другом речь пойдет далее.
27. Несправедливо было бы думать, что контраст вольного и героического жизнеустройства и жестокости, достигающей часто ужасающих масштабов, возник помимо воли автора «Тараса Бульбы» или вопреки его намерению. К этому вопросу вернемся во второй части книги.
28. Иначе говоря, к ним относятся как к утвари, но пока эти портреты существуют,' не исключена и возможность, что для кого-либо из обитателей или гостей барского дома они станут напоминанием, побуждающим к общению, в каком мы застали героев «Вечеров».
Читатель же гоголевской поэмы — уже первого её тома — не только приглашен к такому общению, но, можно сказать, вдвинут в атмосферу всеобщей причастности историческому преданию, не ощущаемой персонажами. Что в «Вие» было для Хомы немым знаком, то становилось для читателя осознанным признаком, что для персонажей ¿-Мертвых душ" молчащие приметы времени — то для читателей становится говорящими свидетельствами.
29. В заключительном фрагменте дошедшего до нас текста второго тома поэмы — речи генерал-губернатора перед чиновниками — вершинные фразы содержат призыв всем и каждому вернуться к тому нравственному и гражданскому состоянию, которое знакомо России по опыту 12-го года. Все предшествующее содержание «Мертвых душ» шаг за шагом. подготавливает и автора, и читателя к этому призыву.
30. Восстание на Балканах против турецкого владычества охватило и сербов, и болгар Бобелина, изображенная на одной из гравюр в доме Собаке-вича была болгаркой (См.: Смирнова-Чикина Ё. С. Бобелина, героиня греческая // Вопросы истории.-1967. № 12);
31. Уместно вспомнить пушкинский «Выстрел». «Сказывают, что Силь-вио, во время возмущенияг Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянамй». «Об участниках сражения под Скулянамй», — писал В. В. Гиппиус, — Пушкин «говорил с недвусмысленным сочувствием». Судьба героя «Выстрела», — продолжает исследователь" , — есть указание «на те возможности, которые в нем были скрыты и, может быть, искажены» (Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. — Л.: Наука, 1966.-С. 31−32).
32. «Литературоведение часто заимствует термины из области искусства. К сожалению, термин «интерьер» для обозначения малого пространства в произведений (помимо театра и кино) не использован. А введение его диктуется потребностью изучения категорий пространства в литературе. Но поскольку «малый» и «большой» миры в произведении существуют в единстве, то следует использовгпгь и парный термин — «экстерьер». Искусствоведение ограничивается преимущественно термином «интерьер», нарушая объективно существующую взаимосвязь Между внутренней и внешней сущностью предмета. <.>
Введение
в литературоведение терминов «интерьер» и «экстерьер» кажется мне необходимым прежде всего потому, что они передают неразрывность малого и большого мйров в произведении" (Макогоненко Г. П. О художественном пространстве в реалистической литературе // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции, — М.: Наука, 1976, — С. 239). Гоголь был весьма изобретателен в осуществлении малознакомых литературе или вовсе неизвестных до него возможностей смыслопорождающего соотнесения интерьериого и эхстерьерного пространства,! пример чему сейчас и встретился нам (см. также примем 33).
33. От категории художественного пространства мы перешли, к понятию хронотопа {см. выше, примеч. 4). Термин хронотоп заимствован из физики, М. М. Бахтин ввел его в литературоведение незадолго, до появления цитированной выше статьи Г. П. Макогоненко, начатой соответствующей ссылкой на исследование М. М. Бахтина. Наши наблюдения, касающиеся интерьериого описания в шестой главе «Мертвых душ», захватывают робою и соотнесенность временной и пространственной точек зрения. Два последних понятия, широко употребляемые в литературоведении, изъяснены в ряде. трудов: Б. О. Кормана, в частности — в учебном пособии «Изучение текста художест-веяного произведения» (М.: Просвещение, 1972. С. 21−27) и в статье «Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов» (Корман В. О. Избранные труды по теории и истории литературы.- Ижевск. Удмурте, гос. университет, 1992.-С. 175 и 181−182). ской точке зрения, а слово пространственная появилось и было узаконено в более поздних трудах Б. О. Кормана.
34. В данном случае сказалась, по терминологии Б. О. Кормана, фразеологическая точка зрения (указ. соч., с. 185−186).
35. Замечательная перекличка с лермонтовской «Думой»:
Толпой угрюмою и скоро позабытой, Над миром мы пройдём без шума и следа, Не бросивши векам ни мысли плодовитой, — а, , Ни гением начатого труда -.n.
36. Выявлена — еще не значит раскрыта, объяснена, оценена, что тоже совершается в «Мертвых душах».
37. Литературный энциклопедический словарь, — М., 1987 — С. 28.
38. О сказе вообще и о сказе у Гоголя см. в 4-м разд. 3-й гл. 1-й части.
39. А. Д. Синявский успешно вникает в эту сторону гоголевской поэтики. Гоголь «решился назвать самую колоссальную, многообещающую и самую внутреннюю, из души произведённую вещь — „Мертвыми душами“. Причём именно с ними, с мертвыми душами своей поэмы, он устанавливает душевную близость и на этом творческом опыте осознает и основывает прочное дело души» (Синявский А. Д. В тени Гоголя // Абрам Терц {Андрей Синявский) Собрание сочинений в двух томах — М.: Старт, 1992. T. il — С. 126). Исследователь с высокой точностью указал на парадоксальность гоголевского замысла, породившего в своем воплощении множество гротескных картин и ситуаций.
40. «Путешествие» в историю, приводящее к анекдоту, предпринял несколько раньше А. С. Пушкин, — о чём рассказал в заметке о «Графе Нулине», написанной в 1830 г. и при жизни поэта не публиковавшейся :(Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т.- М.: АН СССР, 1949, — Т. VII, — С. 226).
41. См.: Степанов Н. Л. «Повесть о капитане Копейкине» и ее источники II Степанов Н. Л. Поэты и прозаики.- М.: Худож. лит., 1966. С. 239−240.
42.: «Капитан Копейкин явно перенял эстафету у Акакия Акакиевича Башмачкина, в обличии мертвеца мстящего сильным мира сего за погублен-^ ную шинель» (Синявский А. Д. В тени Гоголя, — С. 254).
43. Финал «Шинели» навевает впечатление устрашающее и обнадёживающее одновременно. О. Г. ДиЛакторская находит, что «мотивы всеобщей беззащитности, всеобщего страха и ужаса, мотивы слепого произвола, преследующего всех», возникшие в сцене ограбления Акакия Акакиевича, усилены в эпилоге — в эпизоде встречи мертвеца со «значительным лицом» (Дилак-торская О. Г. Художественный мир петербургских повестей Н В Гоголя II Гоголь Н В. Петербургские повести.- СПб: Наука, 1995. Серия «Литературные памятники», [послесловие!.- с. 246). И. П. Золотусский пишет о Страхе (с прописной буквы), владеющем столицей: «Весь Петербург боится теперь Акакия Акакиевича» (Золотусский И. П. Гоголь.^- С. 303, курсив автора — В. 3.). И те же исследователи обнаруживают: «В финале повести намечен утопический мотив социальной гармонии, который так и не был воплощен» Дилакторская О. Г. Указ. соч., с 247), «Что-то трогается в душе у „значительного лица“ после смерти Акакия Акакиевича» и после встречи с мертвецом — «возможность спасения оставлена Гоголем и для этого героя» (Золотусский И. П., там же).
44. Лорд Г. Болингброк. Письма 66 изучении пользе истории.- М.: Наука, 1978, — С. 28., >.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРЕДАНИЕ И ДИАЛОГИ зчик — участник диалога, даже если собеседники йе прерывают его речей ни возражениями^ ни дополнениями, ни вопросами. Он включен в диалог по той уже причине, что непрестанно принимает во внимание, чего ждут от него слушатели, что и как воспринимают в его словах. Явные и скрытые диалоги, возникающие при всяком общении посредством слова, — это лишь малая часть тех диалогов, в которые человек вовлечен повсечасно. Где совершается какой-либо поступок, требующий выбора, — пусть элементарно простого, -там сталкиваются разные точки зрения, и вовсе не обязательно, чтобы одна была для данного человека незыблемо приемлемой, а другая — непримиримо отвергаемой. Когда же дело касается сколько-нибудь сложных вещей, то разные системы понимания и оценки всего, что делает человек и что происходит с человеком, если не оспоривают одна другую, то непременно соизмеряются одна с другою. Человек всегда причастен к диалогическим отношениям, складывающимся в пределах и ограниченных групп людей, и обширных сообществ, и в конечном счете — в масштабах культуры человечества в целом.
Сознание отдельной личности осваивает диалоги межчеловеческого общения, развивает и приумножает их. Рядом и во взаимодействии с ними существуют диалоги самосознания: всякое внутреннее побуждение и всякое движение мысли потому и осознаются, что противоречат иначе направленным внутренним же побуждениям, по-иному совершаемой мыслительной работе. Существуют, наконец, — уже более на уровне подсознания — диалоги непосредственного миропостижения: психика отдельного человека отзывается на все, что причастно самосотворению жизни в не поддающейся учету широте.
Словесное художественное творчество отображает эти три класса диалогов, а главное — пополняет ихстем большею самобытностью, чем значительнее гений художника, и порождает новые диалогические отношения между сочинителем и адресатом произведения — читателем, слушателем, зрителем, а также — что наиболее любопытно и читателю, и исследователю — развивающиеся внутри произведения взаимооспорива-ния разных систем сознания, разных путей общения, разных возможностей постижения мира. В отечественном литературоведении изучение словесного художественного творчества в его диалогйзме приведено в систему в трудах М. М. Бахтина, после чего становится разносторонне разветвленным.
Нам предстоит окинуть взглядом, во-первых, те общекультурные диалоги, которые ближайшим образом и заметнее всего отзываются в заинтересовавшей нас сфере гоголевского творчества, затем — диалоги литературоведческих истолкований, отразившихся на изучении наследия Гоголя, и, наконец, -диалоги, возникающие в художественном мире Гоголя и насыщающие его сочинения. Эти задачи автор намерен исполнить в меру сил в первой части своей книги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
О ГОГОЛЕВСКОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИСТОРИИ.
В духовной культуре любого народа и любого века одну из бязательных составных частей образует ретроспективный чгляд. МЫ с любопытством и пытливо взираем на веществен-ые следы давнего жизненного уклада й совершившихся некода событий, но не можем при этом восстановить минувшее наче как неполно и обрывочно (вспомним Тютчева: «От жизни ой, что бушевала здесь, от крови той, что здерь рекой лилась, то уцелело, что дошло до нас? Два-Три кургана, видимых по-' есь.»). Также и строго документальные, свидетельства тем енее говорят потомку, чем больший промежуток во времени ролег между двумя эпохами.
Предание жедотоле/ доколе оно не разлучается с изуст-ым бытованием и продолжает варьироваться, — возобновляет-я и пополняется. Оно представляет собою своеобразный до-мент не событий и не исторического движения некоторой охи/но хранимой последующими веками памяти о том и дру-м.: Память — тоже факт истории. Память откладывается и в шем понимании современности, и в нашей воле творить бу-щее, и в самом этомтворении будущего. Возобновление тории в предании стащрится и возобновлением истории в растающем движении (ймой действительности.
После всего написанного $ этой книге попробуем хотя бы полНо и неточно, но сжредоточившись на мысли, которая юет право стать центральной, ответить на вопрос: в чем-едовало бы видеть сущность и природу гоголевского зобновления истории? Думается, среди разных возможных ветов! заслуживает внимания и такой: завладевая преданием, Гоголь создает художественный образ также и общения людей, которые усвоили предание и продолжают обновленно творить его. В художественном образе осуществляются такие возможности этой стороны человеческого общения, какие не мыслились прежде до Гоголя.
Культурная деятельность человечества в целом и каждого человека в отдельности — деятельность, рассматриваемая в полном необозримом своем объеме, и любая ее автономная сфера (более всего и в тесной взаимосвязи — религия и искусство) всегда, наряду с многими другими функциями, соизмеряет человеческую практику со смыслом человеческого бытия. Практика принадлежит, если следовать воззрениям М. М. Бахтина, малому времени, см&Сл^- оольшому времени1. Практика познается непосредственно, смысл постигается многократно опосредованно. Акт ознакомления с практикой для каждого человека завершается ответомпостижение смысла завершается вновь возникшим вопросом. Гоголевское обращение с биографией и историей ёсть незнакомый прежде искусству путь такого постижения. ¦¦<�¦-¦
В гоголевских «Вечерах» обладатели преданий очарованы воспоминаниями о героических минувших веках. Собственное же их время не заслуживает, в их глазах, такого же восхищенно поэтического отношения. Оно не удручает, — напротив, в речах Рудого Панька картины крестьянской жизни и встреч в пасичниковой хате идилличны — не в пример описаниям села из «Вечера накануне Ивана Купала». Рассказчик «Миргорода» не избегает изображения жестокостей героического века, сам же им ужасается и именует тот век полудиким. Но новейший гуманныйвек что-то утратил в сравнении со стариной, какой ее запомнили предания. Была тогда у людей свобода выбора участи и утеряна. Некогда, гласят предания, жизнь испытывала людей и часто жестоко испытывала: зато и люди вольны были испытывать жизнь и делали это сколь угодно отважно. В новые времена — утверждается в «Вечерах» — на людей не бывают насланы столь губительные испытания, как это было представлено в «Вечере накануне <."> или в «Страшной мести», но человек не вступает в противоборство с внешними, не всегда понятными и всегда неодолимыми силами, определяющими, кем и каким ему быть, между тем как прежде человеку удавалось пусть не сокрушить эти силы, но преодолеть их в чем-то. Пример такого противоборства—игра в аду в карты (в «Пропавшей грамоте»), когда условлено, что выигрышем для казака будет шапка с зашитой гетманской грамотой, а проигрышем — его собственная жизнь.
Чем ближе к новому времени, тем ниже ставки в состязании с противочеловеческими силами. В молодости дед Фомы Григорьевича ринулся в пекло, откуда мог бы — если б не смелость его и смекалка — и живым не выйти, в старости он же проник в заколдованное место и стоила его игра с нечистью того, что чертмгНаДиНим подшутили. Кузнец Вакула, не рисуя ничем в столкновении с бесом, обладает заведомым превосходством. В «Майской ночи» путешествие в волшебный мир нечисти, где притаилась ведьма, закончилось благополучно, а там и вовсе оказалось сном, хотя и остается непонятно, где Левко раздобыл осчастливившую его записку. В «Сорочинской ярмарке» Грицько не с потусторонними зловещими силами вступает в спор, а с человеческой зложелательнрстью и выручивший влюбленного парубка цыган — при всей загадочности, которая его окружает и отразилась в чертах его лица, — хитроумный, (притом — и небескорыстный) помощник, а не спаситель, явившийся из нездешнего мира.
Напасти, насылаемые судьбою на персонажей, принадлежащих новому времени, — вроде притеснений, какие в «Майской ночи» причиняет вольным казакам голова, попросту ничтожны в сравнении с тем, что претерпевают Данило Бурульбаш и Тарас Бульба. Зато там люди идут, руководимые собственной волею, навстречу смертельным опасностям. Совершается это не только там, где герои предания сражаются на войне. Хома бросил вызов судьбе, подняв глаза на Вия, а Петрусь потому вступил в сговор с дьяволом, что иначе не: мог противостоять обстоятельствам, толкавшим к гибели его возлюбленную. «4.
Не меньше как две повести «Вечеров» («Страшная месть"-, и «ИванФедорович Шпонька <'.>») отмечены собственной-^ оригинальной и развернуто развитой историософией. Своя нравственная философия истории вырабатывается^ как убеждаемся, в цикле, взятом в целомпринадлежит она авторскому обымающему сознанию, но не кому-либо из рассказчиков и не Рудому Паньку: он ведь в тексты повестей, не вмешивается. Если следовать Гумилеву, то сущность этой философии истории можно определить как тоску по утерянной пассионарности.
Мнение резонное, но на счет оригинальности Гоголя его не отнесешь: героический эпос во всех своих формах исполнен тоски по пассионарности. Ведущую мысль гоголевской нравственной историософии будем искать вблизи от идеи пассионарности, но не в ней самой. Каждый век формирует в личностях качества, общий смысл которых — снижение подвластности личности внешним силам: природным (включаяи метафизические воздействия) и социальным, понятным ему, неведомым или вовсе необъяснимым. Век страха, по мысли Гоголя, умножил в людях отвагу и укрепил соборность. Возникли века вольности, возведшие в живой образец нерасторжимое товарищество прямодушных и отважных людей, а вместе с тем-привыкшие к необуздываемой жестокости. Миновали и эти века,-эпоха Гоголя и предшествующее ей столетие насаждают просвещенную гуманность, и они же не замечают ничего противоестественного в том, что люди торгукПг людьми. Этот век породил в человеке пытливость к самому себе (что неточно стали называть рефлексией). Однако отвага как одно из нормативных качеств личности, товарищество и прямодушие как непременное условие человеческих связей, — все это пришлось, Как говорится, не ко двору межчеловеческим отношениям нового времени: оно поощряет эгоизм и человеческую раздроблённость2. Чтб либо не укрепляется бытом и оттого постепенно беднеет, либо отторгается им, — то усвоено преданием и хранится им. Пока существует такое предание, помня и неустанно напоминая людям нового века о благотворных качествах человека, воспитанных в Них далеко не благоприятным веком, существует вероятность и даже гарантия, что люди — будет время — восстановят в себе эти качества в новых, непредвиденных еще ныне воплощениях и формах. Таково, по мысли Гоголя, возобновление истории, совершаемое преданием.
Если в истории человечества и народов Гоголь видит прежде всего нарастающее высвобождение человека из-под зависимости от внешних враждебных людям сил, если предание для него — это хранилище опыта такого высвобождения, накопленного в минувшие столетия, не во всем востребованного текущим веком и сберегаемого в некоем, можно сказать, резерве для будущих времен, то одно из главных направляющих начал биографий, становления личности гоголевских героев (от Рудого Панька и его гостей, до генерал-губернатора из второготома. «Мертвых душ», адресатов ' писем из «Выбранных^ мест», -* участников Божественной -" Литургии) — готовность^ оживить преданиенациональное и религиозное — и прислушаться к нему, оживляющему—" «возвратить прошлое< в настоящее». ОдИн из главных гоголевских критериев полноценности жизнестроения, осуществляемого отдельным человеком и содружеством людей, — причастность преданию и чуткость к нему. Полнота этого качества (торжеств©- ^соборности) открывается читателю Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» ичнв «Размышлениях о Божественной Литургии», минимум сего (господство апостасийности) — в петербургских повестях. Замечателен вэтомплане гротескный эпизод «Носа» -встреча в Казанском соборе. В самом храме Ковалев не соприкасается с верой, а оказывается лицом к лицу с существом, способней ПОЯВИТЬСЯ ТОЛЬКО в бредовых видениях. Возникает несколько отдаленное, но неоспоримое сходство с «Вием»: люди настолько удалились от человечности, что и храм открыт для чудовищ.
Исследователи, руководствующиеся теософической мыслью, располагают много более сжатым объяснением тяготения Гоголя к преданию: Роголь «видит мир во власти темных сил и с беспощадной наблюдательностью следит за борьбой человека с дьяволом» (К. Мочульский)3.
Два отмеченных здесь подхода в основании своем идентичны и дают основание говорить об историческом оптимизме Гоголя. Снижение зависимости человека от враждебных высших сил, природных и социальных, одоление дьявола, — процесс, знающий и попятные движения и провалы. Предание, церковное и мирское, способствует тому, чтобы протори на пути человеческого жизнестроения не становились невосполнимыми утратами.
Формула высвобождения человека более располагает к анализирующему изучаемому взгляду, мысль о борьбе с дьяволом — ко взгляду синтезирующему. Есть и особая причина, почему теософская трактовка Гоголя (развиваемая в наше время, в частности, В. Воропаевым, И. Есауловым) оказывается насущно потребной. Л. Я. Гинзбург заметила однажды: «Младшие современники примеривают произведение к себе, близкие потомки подтверждают себя произведением» 4. Глубокий интерес к религии и религиозному просвещению побуждает нынешних читателей и исследователей подтверждать себя сочинениями Гоголя. -——.
Этот сдвиг сказался и на восприятии учительных сочинений Гоголя, которые долгое время и в мнении читателей, и в концепциях исследователей не признавались полноправною частью его наследия. О. Миллер, издавая более ста лет тому назад письма Гоголя, находил «совершенно понятным» «то удивление, растворенное негодованием и недоумением, какое было <.> возбуждено в публике неожиданным выходом в свет «Переписки с друзьями» вместо нетерпеливо ожидавшегося второго тома великой юмористической поэмы"5 Надолго если не достиг прочного господства, то укоренился взгляд, сформулированный А. МЕвлаховым: в Гоголе «две души — душа художника и душа моралиста — никогда не могли <.> ужиться и поселили в нем вечный хаос, вечную борьбу с самим собой"6.
Понадобились еще десятилетия — с дорого давшимися всем нам интеллектуалами и нравственными уроками, — чтобы и читатели, ищущие в литературе не забавы, Ъ постижений смысла человеческого бытия, Литературоведы, вооруженные тем же отношением к творчеству писателя, стали прочно убеждаться: тот внутренний спор, о котором писал А. Евлахов, не к хаосу привел Гоголя, а к уверенным художественным открытиям. В наши дни такое понимание творчества Гоголя все более успешно развивается в науке и привлекает к себе возрастающее число приверженцев. Мы постарались проследить некоторые стороны развития великого художника, ставшего и великим проповедником, касающиеся его опыта овладения народным историческиим преданием.