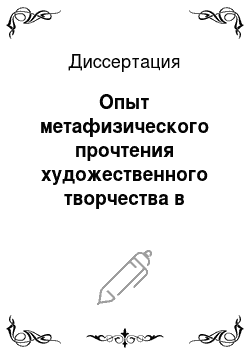В последние годы немало сделано для более полного и всестороннего исследования отечественной философской традиции. Вместо идеологической модели, согласно которой магистральным и определяющим направлением в отечественной философии была исключительно материалистическая тенденция, в центре внимания исследователей оказалась проблема принципиального многообразия национальной философской культуры. Необходимо было выработать новые подходы к самым разным направлениям и концепциям: к религиозной метафизике, к творчеству философов-эмигрантов, к российским вариантам европейских философских школ (от гегельянства и кантианства до марксизма и феноменологии). В итоге мы имеем более реалистическое, чем прежде, представление об исторических судьбах философии в России.
В конце XIX — начале XX в. религиозная метафизика становится одним из влиятельных течений отечественной философии, а позднее, уже в кругу русского зарубежья, она, со всей очевидностью, стала доминирующим направлением философского поиска и творчества.
Русские философы, определяя собственную позицию как метафизическую, использовали данный термин в качестве классического, восходящего к Аристотелю обозначения философии. В словаре Брокгауза и Эфрона Вл. Соловьев дает определение метафизики как «умозрительного учения о первоначальных основах всякого бытия или о сущности мира». Там же он писал и о том, каким образом метафизический опыт понимания «бытия самого по себе» (Аристотель), при обращении к вопросу об Абсолюте, с необходимостью вступает в соприкосновение с религиозной сферой.
В русской религиозной философии XX века мы обнаруживаем существенное разнообразие тем и подходов, в том числе и достаточно далеких от принципов метафизики всеединства Вл. Соловьева. Но его последовательное оправдание метафизики (прежде всего, в споре с позитивистским типом мировоззрения) было воспринято очень глубоко. В особенности это относится к его тезису о «потребности метафизического познания» как неотъемлемой и важнейшей составляющей человеческой природы. Обращаясь, в своих интеллектуальных исканиях, к самым различным сферам человеческого бытия представители послесоловьевской русской религиозной философии с исключительной последовательностью решали задачу именно метафизического прочтения смысла едва ли не всего многообразия культурно-исторических явлений и процессов. Можно сказать, что метафизический опыт в русской мысли XX в. — это опыт своеобразной метафизики «без границ» .
С особой интенсивностью и глубиной в русской религиозной философии ставилась и решалась задача метафизического прочтения смысла художественного творчества. Общая направленность, и в данном случае, была задана философскими идеями Вл. Соловьева. Он, как известно, не успел реализовать свой поздний замысел метафизического «оправдания Красоты». Жизнь мыслителя оборвалась, и фундаментальный эстетический труд так и не был написан. Тем не менее, проект-идея метафизики художественного творчества будет играть исключительную роль в философских исканиях его последователей, а, нередко, и критиков.
Метафизическое направление в русской философской эстетике XX в. занимает весьма существенное место. Безусловно, русские мыслители в своем опыте метафизического понимания искусства (особое внимание они уделяли литературному творчеству и, в этой связи, можно говорить даже о своеобразном «литературоцентризме» отечественной метафизики) избирали различные и часто принципиально различные пути. Русская метафизика художественного творчества — это своеобразное «единство в многообразии», в многообразии эстетических идей, общефилософских и мировоззренческих подходов. Истина, добро и красота, теургия и софиургия, быт и культура, свобода и абсурд — все это приобретало в ней эстетический смысл и направленность. Исследование эстетического измерения русской метафизики конца XIX — начала XX в. с целью реконструкции и типологизации ее основных концептуальных позиций представляется поэтому важной и актуальной историко-философской задачей.
В диссертации исследуется опыт метафизического истолкования и прочтения художественного творчества, и главным предметом исследования стали тексты отечественных мыслителей, посвященные концептуализации преимущественно литературного творчества. Это обусловлено не только своеобразным «литературоцентризмом» русской метафизической эстетики, но и тем обстоятельством, что именно в этой области осуществлены наиболее системные и обширные исследования, позволяющие составить наиболее полную и репрезентативную картину проделанной работы. Вполне понятно, что настоящее исследование не может претендовать на исчерпывающий охват материала соответствующего периода. За рамками настоящего исследования остаются опыты Трубецкого и Флоренского, посвященные изобразительному искусству (иконописи), статьи С. Л. Франка и В. Ф. Эрна, поскольку в их творчестве размышления об эстетике и эстетическом не стали предметом специального исследования, а тексты таких прекрасных знатоков и исследователей русской литературы, какими были М. О. Гершензон и П. Б. Струве, вряд ли можно отнести к числу собственно метафизических опытов.
По справедливому суждению известного отечественного историка философии А. В. Гулыги: «Великое значение русской литературы состоит в том, что она достигла философско-нравственных глубин, равновеликих немецкой классической философии. В русской традиции история и философия предстают порой как художественный текст» 1. Действительно, в.
1 Гулыга А. В. Эстетика в свете аксиологии. — СПб.: 2000, с. 445. силу целого ряда обстоятельств русская литература выступила как начало заменяющее (но не подменяющее целиком и полностью) философию и в буквальном смысле явилась специфическим видом художественной метафизики.
Философское и философско-литературное творчество Вл. Соловьева содержит указание на особую, онтологически присущую отечественной литературе ответственность в универсальной духовной практике. Художественность сочинений Соловьева, как их особенное свойство, самостоятельный и отдельный аспект размышлений ведущих русских метафизиков. Так, В. В. Зеньковский, размышляя об эстетике Соловьева, и Е. Н. Трубецкой, анализируя его миросозерцание, ставят глубину религиозной мысли Соловьева и эстетическое начало не просто на один и тот же уровень, но подчеркивают их имманентную взаимообусловленность. На связь художественного и умозрительного начал указывает в своих размышлениях о Соловьеве и Лев Шестов. Символистская критика в широком диапазоне — от Вяч. Иванова до А. Белого — неоднократно отмечала «порождающее значение» русской литературы для русской философии.
Тезис о важности русской литературы для развития отечественной философии, о глубочайшей взаимосвязи литературного и философского творчества в русской культуре развивается в работах Г. С. Померанца. Оригинальное философствование второй половины XIX века представляло собой, с его точки зрения, «метахудожественное» философствование и подобная «художественность» определяла его неповторимую ценность. Проблемы и оригинальный язык русской философии Серебряного века «сущностно» связаны с русским романом, формулируются и складываются в комментариях к Достоевскому и в спорах с Толстым. А несколько позже русский роман включается и в развитие западной философии" 1.
Важность литературного творчества в формировании метафизического измерения национальной картины мира отмечается и в целом ряде работ Г. Д. Гачева2.
Заслуживает внимания точка зрения А. К. Якимовича, говорящего о творчестве Льва Толстого как апогее философии всеединства. (В своих исследованиях Якимович опирается, в частности, на труды И. Берлина.) Исследователь пишет: «У Толстого речь постоянно идет о „мировом целом“, о „теле вселенной“ и той всесильной и вечной субстанции жизни, которая должна быть принята в качестве высшей силы и власти. Отдельное индивидуалистическое „Я“ должно отказаться от себя перед лицом человеческого и природного целого — и тем самым это „Я без Я“ оказывается спасенным и в качестве „Я“ также» 4. А. Якимович называет отцами русской религиозной философии писателей: Толстого, Достоевского и Чехова.
Среди работ западных исследователей следует отметить монографию М. Мейерсона, посвященную теме «рождения русской философии из духа русской литературы» .5 Объектом интереса М. Мейерсона является проблема происхождения русской философии из проблематики, разработанной в отечественной литературе. Однако нельзя не отметить заметную тенденциозность исследования, в котором вся русская философия выводится из произведений Достоевского в полном отвлечении от существующей богатейшей традиции русского литературного философствования, в XIX веке идущей от лирики Ф. И. Тютчева.
1 Григорий Померанц. Страстная односторонность и бесстрастие духа. — СПб.: 1998, с. 121. О первопричинности художественного творчества Достоевского для формирования самостоятельной русской философской мысли см.: Г. С. Померанц. Открытость бездне. Этюды о Достоевском. — Нью-Йорк, 1989; Г. С. Померанц. Открытость бездне. Встреча с Достоевским. — М.: 1990; Г. С. Померанц. Выход из транса. — М.: 1995. — 575 с.
2 Г. Д. Гачев. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. -М.: 1995. -480 с.
3 А. К. Якимович. Магическая вселенная. Очерки по искусству, философии и литературе XX века. -М.: 1995, — 168 с.
4 там же, с. 36.
5 М. Meyerson. The Trinity of Love in Modern Russian Theology. — US of Am, Fransiscan Press, 1998. -225 c.
В начале 90-х годов в журнале «Вопросы философии» был осуществлен ряд публикаций, в которых шла речь о философской наполненности отечественной словесности. Среди них следует отметить.
I л л статьи А. З. Штейнберга, JI.B. Карасева, М. Ф. Овсянникова, С.Г. Семеновой4, О.М. Седых5, Е.Б. Лашковского6, В.И. Самохваловой7. Однако, признавая значение этих и многих других публикаций последнего времени, необходимо отметить, что и в настоящий момент нет исследования, в котором бы русская литература систематически анализировалась как творческая основа отечественной метафизики. Предпринятое нами исследование опыта метафизического прочтения литературного творчества русскими метафизиками (Вл. Соловьевым, С. Н. Булгаковым, В. В. Розановым, Н. А. Бердяевым и Л. Шестовым) можно рассматривать как определенный шаг в русле указанной историко-философской стратегии.
Диссертация имеет целью реконструкцию и исследование опыта метафизического прочтения произведений художественного творчества в русской философии конца XIX — начала XX века как целостного явления отечественной философской культуры. Постановка и достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: выявление теоретико-методологических предпосылок концептуализации русской литературной прозы и поэзии B.C. Соловьевым, С. Н. Булгаковым, В. В. Розановым, Н. А. Бердяевым, Л. Шестовым как.
1 Штейнберг А. З. Достоевский как философ // Вопросы философии, 1994, № 9, с. 186−196.
2 Карасева Л. В. О символах Достоевского // Вопросы философии, 1994, № 10, с. 90−111.
3 Овсянников М. Ф. Эстетические взгляды Л. Н. Толстого // Вопросы философии, 1995, № 10, с. 120−128.
4 Семенова С. Г. Николай Федоров и Фридрих Ницше // Вопросы философии, 2001, № 2, с. 167— 184.
5 Седых О. М. Философия времени в творчестве О. Э. Мандельштама //Вопросы философии, 2001, № 5, с. 103−131.
6 Лашковский Е. Б. Три оправдания: стержневые темы философии Вл. Соловьева 1890-х годов // Вопросы философии, 2001, № 6, с. 94−104.
7 Самохвалова В. И. Вячеслав Иванов и русский постмодернизм // Вопросы философии, 2001, № 8, с. 66−77. одного из способов метафизической интерпретации художественного творчестваопределение особенностей авторских методов подобной концептуализации;
— типологизацию подходов к эстетике и проблемам художественного творчества в русской религиозной метафизике конца XIX — начала XX в.;
— рассмотрение возможности применения индивидуально-авторского метода анализа литературных произведений (Лев Шестов и А.П. Чехов).
Специфика предмета диссертационного исследования (опыт метафизического прочтения литературного творчества проявившийся в особенном культурном явлении — текстах о текстах) требует следующей методологии изучения:
— метод анализа способов и результатов религиозно-философских интерпретаций произведений литературы, фрагментов этих произведений, личности того или иного автора в работах B.C. Соловьева, С. Н. Булгакова, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева, JI. Шестоваметод реконструкции целостной философско-эстетической концепции каждого философа путем анализа работ, посвященных, в частности, проблемам эстетики;
— филологический анализ особенностей художественной формы литературного произведения, предпринимаемый автором диссертационного исследования, позволяющий в диалогическом ключе выявить глубинные философские интуиции русских писателей;
— определение эстетических воззрений того или иного автора в контексте его философии как целого;
— выявление концептов эстетики в текстах как критического, так и метафизического плана.
Сопоставление различных духовных традиций потребовало также метода историко-философской компаративистики, сопоставление идейных контекстов и внутренней логики различных религиозно-философских систем. Важно указать, что употребляемые философами лексические и синтаксические конструкты разных уровней сложности (истина-добро-красотакрасота спасет мирбеспочвенность и др.) с течением лет приобрели терминологический статус и семиотическую природу. Поэтому в отдельных случаях мы применяем приемы сравнительного анализа характеристик авторской речи.
Новизна и научная ценность исследования заключается.
1. в реконструкции и анализе опыта метафизического прочтения художественного творчества в русской философии конца XIX — начала XX века как целостного явления отечественной философской культуры;
2. На основании анализа метафизики и эстетики B.C. Соловьева, С. Н. Булгакова, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева и Л. Шестова показано, что религиозно-философская рефлексия литературы является одной из существенных характеристик отечественной метафизики. Исследование философами художественного творчества в первую очередь оказывается опытом прояснения основ собственной религиозной, философской, интимно-мировоззренческой позиции.
3. В диссертации показано, что литературно-критические работы религиозных философов представляют собой не ряд разрозненных текстов, но образуют самостоятельные, цельные и устойчивые типы прочтения художественного творчества.
4. Сравнительный анализ особенностей эстетического измерения метафизики всеединства, философии пола и концепций отечественного экзистенциализма показал, что эти типы генетически и методологически связаны между собой и могут быть представлены как единое целое.
5. Содержательным и методологическим основанием метафизического прочтения художественного творчества является сопоставление авторами интерпретаций собственных мировоззренческих установок с выявляемыми философскими интуициями классиков отечественной литературы и подтверждение идентичности (или различия) этих интуиций и установок. 6. Комплекс текстов, посвященных литературной критике, рассмотрен автором как специфический философско-культурный феномен. Находясь в известном смысле на границе обеих духовных практик, произведения B.C. Соловьева, С. Н. Булгакова, В. В. Розанова и JI. Шестова представляют собой и интерпретируются автором исследования как продукты метафизического, философско-литературного со-творчества и образуют единый, целостный опыт метафизического прочтения литературы и искусства.
В данной диссертационной работе осуществляется попытка комплексного исследования русской метафизики и литературы конца XIXначала XX веков на основе изучения опыта метафизического прочтения художественного творчества в работах B.C. Соловьева, С. Н. Булгакова, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева и JI. Шестова. Являясь при этом исследованием одного из аспектов культурной ситуации рубежа XIX — XX веков, работа обозначает связи между проблематикой русской метафизики всеединства и русского экзистенциализма. Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в последующей историко-философской работе в области истории русской философии и эстетики. Работа может стать основой для подготовки методических материалов и учебных курсов по истории русской философии, эстетике и культурологии.
Основные идеи диссертации нашли свое отражение в публикациях автора и докладах на научных конференциях: Пятого Российского симпозиума историков русской философии «Отечественная философия: русская, российская, всемирная» (Нижний Новгород, 1998 г.), конференции «А. С. Пушкин и современность. К 200-летию со дня рождения поэта» (Москва, РУДН, 1999 г.), конференции молодых ученых «Историко-философская персоналия: методологические аспекты» (Москва, РГГУ, 1999 г.).
Тема и строение работы определены ее целью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, структурированных по частям и параграфам, заключения и библиографии.
В Заключении подводятся общие итоги исследования, делаются теоретико-методологические выводы и намечаются пути дальнейшего исследования проблемы.
К диссертационной работе прилагается библиография.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
В современной российской историко-культурной ситуации, облик которой начал складываться с середины — конца 80-х годов XX века, русская философия оказалась, наконец, востребованной во всем комплексе своих идей и умопостроений. Оказалось необходимым использовать разработанный ею инструментарий в процессе национальной самоидентификации, едва ли не впервые в истории России нуждающемся в теоретических подкреплениях. Оказалось также, что сам процесс мышления в современности протекает по моделям, предложенным на рубеже XIX — XX веков и в начале XX века, и что логика и метафизика русских философов естественна и психологически мотивирована для русского сознания как психологического субстрата.
В связи с этим анализ концепций искусства, созданных русскими философами, равно как и выявление и типологизация самого опыта метафизического прочтения художественного творчества, представляется чрезвычайно важным и актуальным. В течение веков русская религиозная мысль в особенностях своего бытования замещала абстрактно-теоретические философские умопостроения, характерные для интеллектуального развития Западной Европы, и эстетические теории, естественно реагирующие на Западе на процесс развития искусства, приобретающий с веками все более и более светский характер.
Уникальный национальный тип российского мышления изначально складывался под влиянием греко-византийской и болгарской духовной традиции, которая к моменту знакомства с ней русских мыслителей была уже достаточно развита и концептуализирована, особенно во всем том, что касалось трактовки и интерпретации мистических аспектов бытия Божия на земле. Восприняв эту традицию в готовом виде и постигая ее на протяжении нескольких столетий, русская средневековая мысль не столько «развивала» ее, сколько углубляла и осваивала в непосредственной эстетической практике: неслучайно Россия дала миру иконопись, превзошедшую византийский канон, не утратившую своей ценностно-человеческой наполненности и тогда, когда на Западе собственно религиозное искусство заметно уступило светскому свое право на выражение последних истин о человеке. Почти в самый момент передачи эстетического наследия или ненамного позже его Запад начал свое стремительное движение к освоению других, помимо собственно религиозных, ценностей и возможностей. Россия же, получившая в свое распоряжение «чужой» опыт, долго осваивала самую его сущность и те черты западной культуры, которые, будучи для европейского сознания прожитыми и неактуальными диахронически, в России воспринимались комплексно и синхронически.
Позже Россия опять-таки в целостном, состоявшемся виде приобретает для восприятия и усвоения новый готовый продукт — немецкую классическую философию. В самом существе своем она была, с одной стороны, продолжением просвещенческого гуманизма и отчасти даже продуктом его, а с другой стороны, реакцией теоретического ума на попытку разорвать телеологические механизмы взаимоотношений Бога, человека и творения. Немецкая классическая философия — результат деятельности одновременно и секуляризованного, и целостного сознания, способного порождать метафизические объяснения мира.
Надо отметить, что трудно сопоставимые традиции восточно-православной религиозной мысли и немецкого идеализма оказались органично воспринятыми русским сознанием именно потому, что обе эти традиции, каждая со своей стороны, говорили о последних истинах бытия. Поскольку особенности российской истории таковы, что начала «сознания» (харизма духовной власти, харизма царской власти, харизма церковного жизнеи бытоустроения и т. д.) превалировали над началами «бытия» (политика, экономика и т. д.), постольку же русское сознание и оказалось эсхатологичным по своей природе и готовым к разговору о реальности того, что последует за переходом человечества через апокалиптический предел.
Оба процесса знакомства с разработанной на иной национальной почве метафизической традицией каждый в свое время совпали или почти совпали, следуя в предельной близости в историческом времени, с принятием и освоением на Руси или в России нового языкового модуса и связанной с этим вспышкой обретения национального «Я». Причем заметно, что во втором случае — в первой трети XIX века — этот процесс шел уже на фоне переживавшегося заново, или, точнее сказать, наново, опыта восточной религиозной традиции.
Все перечисленные начала творческого мышления неслучайно сконцентрировались и воплотились в русской классической литературе. Она оказалась способной к конденсации совершенно разных смыслов. Оказалось, что русская теоретическая эстетика может питаться и отталкиваться именно от словесной эстетической практики. Русская литература к моменту становления религиозной философии оказалась уже сочетающей в себе пережитые восточную религиозную традицию с воплощенной в ней интуицией таинственности бытия как богоосуществления, западную модель интеллектуально-рассудочной, гуманистической реконструкции бытия как гносеологической проблемы, и имманентную божественную природу художественного слова вместе с пророческой и профетической миссией того, кто вызывает это художественное слово к жизни и осуществляет его возможности в тексте. Показательно, что обожествление Слова, выявляемое в западной культуре, точнее, в поэзии, которое обнаружил Иосиф Бродский в стихотворениях Уистана Хью Одена («Время. боготворит язык») и придал этому явлению статус открытия и даже откровения1, имманентно присутствует в русской литературе, философии и философской критике литературного процесса.
1 Бродский И. Поклониться тени. — СПб.: 2001, с. 143.
Осваивая западное коммуникативное пространство в начале XVIII века, Россия входит в область, обжитую просветителями-гуманистами. Именно просветительский миф о человеке делает Европу столь желанной для России. Идеи гуманизма создали в Европе тот оригинальный культурный колорит, которого не имела Россия, но которому она чувствует себя сущностно причастной. Однако культурное наследие европейского гуманизма ощущается русским сознанием как декадансное. Это чувство озвучено Достоевским в знаменитом ностальгическом обращении Ивана Карамазова к европейским «милым могилкам» .
Русская литература XIX века, особенно его второй половины, оказывается способной реализовать гуманистический западный идеал в действии, однако основывая, обосновывая и выводя его из религиозного православного построения человеком его личного существования. Православие как опыт живущего в этой традиции человека, воспринятое сквозь призму эстетики художественного слова, оказывается способным передать конечную истину о человеке как цели и именно предельной цели бытия.
Русская литература понимается русской философией как реальная жизненная практика, переосмысливая которую, возможно и необходимо концептуализировать ее реальные, уже присущие ей черты. Однако понятно, что эта практика — эстетическая и поэтому рефлексия ее подразумевает, прежде всего, осмысление роли красоты как жизненного начала и готовность к диалогу, поскольку диалог культур, в буквальном смысле идущий в русском художественном слове, составляет существо отечественной культуры.
Диалогичность русской культуры, несмотря на порой не просто явную, но и сознательно культивируемую авторами ортодоксальность интонации, связанную, прежде всего, с «учительной» ролью литературы в XIX веке, особенно ярко видна на примере произведения, увидевшего свет в самое «недиалогическое» время в России. Мы имеем ввиду монографию М.М.
Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» 1. В отличие от европейца Люсьена Февра, Бахтин воспринимает европейскую культуру как полифонический организм, способный к самообновлению силою собственных внутренних ресурсов: «серьезное» и «несерьезное», «высокое» и «низкое», «народное» и «аристократическое» находятся в живейших отношениях взаимовлияния, обеспечивая культуре жизнестойкость.
В контексте разрабатываемой нами темы концептуализации русской литературной традиции М. М. Бахтин именно как исследователь, специфическими способами выявляющий философское содержание литературного произведения, заслуживает особого внимания — и даже не столько методологией анализа, заявленной в исследовании о Рабле, но интересом к автору, который для очень многих русских художников и мыслителей явился ключевой фигурой российской литературной метафизики. В своей знаменитой книге «Проблемы поэтики Достоевского» Бахтин предлагает совершенно иной, отличный не только от рассмотренных нами философско-критических исследований, но й от традиционно сложившихся в русской религиозной философии способов анализа литературных произведений метод интерпретации художественного текста и, в частности, произведений Ф. М. Достоевского. Открытию таких структурои смыслообразующих начал поэтики Достоевского, как диалогизм (вслед за А.А. Мейером) и полифония, способствовало глубокое и всестороннее историко-филологическое исследование художественной формы произведений Достоевского.
М.М. Бахтин отмечает недостаточность подобных исследований в работах предшественников. Игнорирование особенностей художественной формы писателя в пользу анализа особенностей содержания произведений приводило, с точки зрения философа, к искажению последнего. «Не.
1 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1965. понимая новой формы видения, нельзя правильно понять и то, что впервые увидено и открыто в жизни при помощи этой формы. Художественная форма, правильно понятая, не оформляет уже готовое и найденное содержание, а впервые позволяет его найти и увидеть" 1.
Концепт диалога, выявленный при анализе художественной формы, позволяет Бахтину «снять» возможные споры об идейной позиции автора, в той или иной мере выявляемой, либо не выявляемой в его произведениях, прямо или косвенно высказываемой устами литературных героев, либо намеренно маскируемой автором. Идея у Достоевского не может быть понята как нечто внутренне присущее субъекту, идея диалогична и место ее бытования — диалог. «Идея — это живое событие, разыгрывающееся в точке л диалогической встречи двух или нескольких сознаний». Как таковая идея сопрягается со словом, она диалогически едина с ним. Поэтому свое воплощение идея может получить только в специфической художественной форме полифонии, и наоборот, только при выявлении полифоничности романа Достоевского может быть выявлена и идея в неискаженном виде. Сам Достоевский в одном из писем Победоносцеву, на которое ссылается Бахтин3, говорит о том, что место возможного идейного спора -" художественная картина", а не добавим, философский дискурс. Также отметим, что выявление карнавализации как жанровой особенности произведений Достоевского позволяет Бахтину переосмыслить нередко применяемый к творчеству Достоевского аристотелевский термин «катарсис» (такое применение мы находим в работах Вяч. Иванова,.
В. КомаровичаВ.В. Розанов трактовал произведения Достоевского в подобном ключе). Если подобное понятие применимо, по Бахтину, к творчеству Достоевского, то его своеобразие можно выразить следующим образом: «Ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее.
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: 1972, с. 76.
2 Там же, с. 147.
3 Там же, с. 163. слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, все еще впереди и всегда будет впереди" 1. Мир, вывернутый наизнанку, карнавализованные пространство и время, переходящие друг в друга противоположности, карнавальная свобода и т. д., создающие своеобразие текстов Достоевского, формируют особый тип литературного героя, открытого диалогу: становящегося, озвучивающего самого себя в точке здесь и сейчас, фиксируемой не относительно вечности (космоса), но на границе срыва времени и истории. Все это позволяет нам, основываясь на методологии Бахтина, трактовать Достоевского как художника и мыслителя религиозно-экзистенциального типа.
Но гораздо более близок к тематике и проблематике нашей работы В. В. Розанов с его потребностью пантеона деятелей и творцов культуры, синхронно сосуществующих в едином и вневременном пространстве миросозерцания русского философа, чья рефлексия направлена на культуру как целостность и отталкивается от нее именно как от целостности. Розановский потребитель культуры существует в особом окружении живых для него персонажей, освобожденных от реального контекста своего исторического бытования или, другими словами, включенных со всеми подробностями этого бытования в знаково-символическое пространство. Своеобразие розановской диалогичности в том, что разговор ведется не от характера и специфики его второго участника, а от потребности инициатора диалога — философа: художественный персонаж мыслится как социально-исторический тип и таким образом наделяется чертами социальной действительноститогда как жизненная ситуация художника, автора произведения отчасти искусственно декорируется исследователем-философом, и оттого напоминает пространство художественного произведения, а реальный автор играет роль литературного персонажа.
Сама красота является необходимым, быть может, отправным пунктом размышлений о человеке, понятом как величина, трактуемая эстетически, такова ее роль в триаде Истина — Добро — Красота. Если мы возьмем на себя смелость утверждать, что София Премудрость Божия являла собой абсолютную идеальную любовь к человеку, по своему пафосу сходную с отношением к человеку в философии гуманизма, то красота возникает как один из стимулов и целей этой любви. В любви как источнике сотворчества Бога и человека красота является одним из важнейших смыслообразующих концептов. При этом, когда единственной правдой действительности становится ужас перед ее абсурдом и незавершенностью, концепт красоты исчезает из рефлексии по поводу искусства.
Художественная форма не подлежит самостоятельному анализу философами, принадлежащими традиции метафизики всеединства постольку, поскольку в свете окончательного состояния мира, а именносинтеза всех его «частей», художественная форма, исчерпывающаяся для них красотой, не может быть помыслена как нечто партикулярное и самостоятельное в этом смысле. Любая «часть» бытия наполнена реальностью и смыслом именно потому, что содержит в себе вечность и всеединство как потенцию. Что касается философов экзистенциального направления, то и для них художественная форма не может явиться самостоятельным объектом рефлексии постольку, поскольку временная действительность, которой художественная форма, с их точки зрения, принадлежит, имеет смысл именно как конечная. Своего рода квинтэссенцией сложившегося в русской религиозной философии отношения к формальной стороне творческого процесса можно посчитать замечание И. Ильина: «Художник не фокусник „форм“ и не изобретатель фейерверочных эффектовон не выдумывает и не играет выдумками. Онслужитель и про-рицательи лишь ради этого и вследствие этого он — технический знаток и технический мастер своего искусства» 1. Парадоксально, но Ильин критиковал B.C. Соловьева именно за излишнее и.
1 Ильин И. А. Основы художества. О совершенном в искусстве // Собрание сочинений. — М.: 1996, т. 6, с. 58. неоправданное по сути вопроса внимание к формальной стороне в изучении искусства и причислял философа чуть ли не к «формалистам» .
Художественная форма в лучшем случае понимается религиозными философами как место проявления более «серьезных», метафизических процессов и служит их индикатором, в худшем случае, скрывает, скрадывает факт их протекания. Триада Истина — Добро — Красота, понимаемая как будущее человечества (Соловьев, Булгаков), как прошлое человека (Бердяев, Шестов) и как вечное настоящее человека, явленное в его плоти (Розанов), во всех трех случаях не может вместить онтологической самостоятельности художественного произведения и художественной формы как его эйдоса.
Однако время показало, что философские размышления о культуре в любом случае потенцируют анализ художественного объекта как самостоятельной целостности. Красота художественной формы несет в себе некоторое сообщение и о наличном, и о конечном состоянии мира, и потому филологический анализ его есть одно из средств обращения к вопросам, затрагивающим смысл существования.
Известно, насколько тесно учение B.C. Соловьева связано с практикой и теорией русского символизма. Идея софийности как мистического, гармонизирующего начала осуществлялась в поэзии «младших символистов», особенно А. Блока и А. Белого. Однако уже в недрах символизма рождалась идея самоценности слова, концепция художественного слова как вещи. Чуть позже в акмеистических и футуристических манифестных текстах идея самовитого слова или слова-вещи достигла своего абсолютного воплощения.
Поэтическое искусство, открывая новые возможности своего материала, занимает самостоятельное по отношению к триаде ИстинаДобро — Красота место, перестает опосредоваться ею и вступает с ней в новые диалогические отношения. Если оригинальное художественное творчество Соловьева явилось естественным следствием его метафизических исканий, то для символистов и акмеистов теоретические размышления рождались из потребности полнее осуществить общение на порождаемом ими поэтическом языке и концептуализировать это общение. Поэтический опыт, связанный с новой художественной формой, порождал теоретизирование о сущности искусства как такового и о его месте в бытии.
Практика последователей Соловьева и символизма могла быть реальна, несмотря. на декларируемое в манифестах отторжение, генетически обусловлена творчеством поколения «учителей». Так, стихи О. Мандельштама, написанные о России в период Первой мировой войны, на уровне словоупотребления и образов чрезвычайно близки поэтическим провидениям Соловьева о России. Но в своих теоретических изысканиях Мандельштам опирается на противоположную точку зрения, отмечающую аспект самостоятельной значимости художественного вещества. Мандельштам пишет: «Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху» 1. Оказывается, что художественное слово не только подпадает под аксиологические характеристики, но сама эстетика заменяет собой и аксиологию, и даже онтологию.
Метафизика всеединства во всем объеме своего творческого потенциала совершенно воплотилась, как это не странно, даже не в поэзии, а в живописи российского символизма. В произведениях Сергея Судейкина, Николая Милиоти, Петра Уткина, Константина Юона, Михаила Врубеля, Виктора Борисова-Мусатова, Михаила Нестерова, Аполлинария Васнецова, Константина Богаевского, Виктора Замирайло, Николая Сапунова и других мировоззрение всеединцев обрело возможность конкретной в каждом случае визуализации. Символизм в живописи породил эстетику русского космизма, художники которого — от Михаила Чюрлениса, Александра Бенуа, Константина Богаевского, Николая Рериха до Максимилиана.
1 Мандельштам О. Слово и культура // О. Мандельштам. Сочинения. Т. 2. — М.: 1990, с. 169.
Волошина или художников группы Амаравелла — обращались к бытию, к космосу как эстетическому Абсолюту.
Философия всеединства с течением советских десятилетий не утратила своего диалогического, а значит и порождающего отклики, звучания. Так, «Розу мира» Даниила Андреева можно рассматривать как продолжение разговора о мире и человеке в русле размышлений Вл. Соловьева. Для Д. Андреева разговор о художнике как о вестнике высшей реальности, пророке является специфически русским вопросом. Однако философ опирается на разработанный филологически инструментарий, говоря, например, о системе жанров и образов, и применяет методы филологического анализа для доказательства мессианской природы русской литературы.
Идея художественного слова как субстанции, преодолевающей время, близка не только Мандельштаму, но и Борису Пастернаку, позже Иосифу Бродскому. Знаменитое пастернаковское понимание художника как «заложника вечности», основанное, не забудем, на его собственной глубокой культуре, и его же понимание художественного приема как некоторой природной реальности соседствует с всегда присутствующей в его поэзии темой святости любого материала творения, будь то человеческая плоть или художественный образ. Это дает повод для сравнения его с В. В. Розановым, для которого пространство литературы являлось, как мы помним, бытовым пространством осуществления личности. Розанов в своем стремлении расширить круг непосредственных собеседников, игнорировал любые исторические рамки. Таким образом, то, что мы выше назвали личным пантеоном Розанова, можно уподобить центону, в котором каждая историческая личность есть цитата из той или иной культурной области.
Розанов в своей способности к подобного рода цитированию оказал влияние на эстетическую практику русского постмодернизма, который цитирует и высказывания, и то или иное художественное слово, и того или иного художественного персонажа. Более того: выясняется, что стиль розановского мышления созвучен и с философией постмодернизма. Такие постмодернистские концепты, как «линия», «изгиб» и т. д. в разговоре о культуре, безусловно, обнаруживаются уже в розановской философской эстетике. Философия, наука и искусство посредством беспрерывного творчества концептов, функтивов и образов, наводящие «мосты» над хаосом, как это представлено в концепции Ж. Делеза и Ф. Гваттари1, созвучны розановскому восприятию культуры как творимого и одновременно поглощаемого пространства, защищающего от смерти. Постмодернистский взгляд на художественное творчество как одну из граней кристалла духовной жизни, но грань самостоятельную по отношению к прочим, был предугадан Розановым, который явился провозвестником культурной ситуации второй половины XX века, породившей идею бесконечной вариативности и процессуальное&tradeкультуры, составляющих ее смысл.
Рассматривая современное состояние русской культуры в таких ее течениях, как структурализм, постструктурализм, концептуализм, «современное искусство» (в терминологическом, а не историческом смысле), нельзя отрицать воздействия на их представителей идей русского экзистенциализма. На уровне художественного восприятия действительности безусловные параллели прослеживаются и в творчестве таких самостоятельных в создании новых художественных форм авторов, как Людмила Петрушевская. Но если в ее творчестве идеи крайнего одиночества и принципиальной невозможности коммуникации, закрепленные авторским методом обращения с художественным словом, трансформируют ужас бытия, — то в практике представителей вышеуказанных направлений тот же самый комплекс представлений порождает игровое пространство, в котором предельно одинокая личность научается дистанцироваться и от себя самой.
1 Ж. Делез, Ф. Гваттари. Что такое философия? — М.: 1994.
Рассмотренный в данной исследовательской работе опыт метафизического прочтения художественного творчества B.C. Соловьевым, С. Н. Булгаковым, В. В. Розановым, Н. А. Бердяевым и JL Шестовым, выявленный и типологизированный на примере преимущественно статей о литературе, определяет специфику русской философской культуры конца XIX — начала XX века. Подобный опыт представляет собой самостоятельное, оригинальное и самодостаточное явление в отечественной культуре означенного периода. Поскольку данный период в становлении отечественной философской мысли стал временем кристаллизации накопленного теоретического опыта, формирования разрозненных традиций, тематики и основных направлений анализа, постольку концептуализация русской литературы в работах различных философов представляется как раз тем объектом, при анализе которого могут быть выявлены важнейшие сущностные черты той или иной системы осмысления мира. Представляется интересным и плодотворным дальнейшее изучение индивидуальных методов концептуализации словесного творчества и у тех философов метафизического направления, которые вследствие означенных нами причин не вошли в круг персоналий, представленных в диссертации. Исследование опыта метафизического прочтения художественного творчества может оформиться как своеобразный познавательный метод, определяющий специфику того или иного философа в отечественной историко-философской науке.