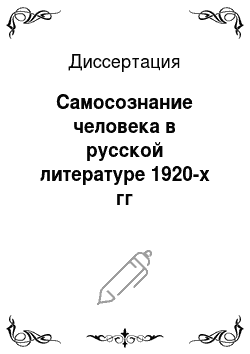Художественный опыт литературы 2 0-х годов едва ли может быть переоценен"1, —.с этим утверждением Г. Белой безусловно соглашается каждый, кто обращается читательским и исследовательским зрением к этой уникальной эпохе в истории культуры слова. И вполне закономерно, что «период небывало напряженных поисков во всех сферах творчества"2 сразу же стал стимулировать по отношению к себе интерес филологической мысли, которая начала складываться уже параллельно с формированием литературы второго — десятилетия нового века. К настоящему времени накоплен достаточно большой и разнообразный опыт исследовательских интерпретаций, выстроены серьезные научные концепции. Суммируя их, мы можем выделить несколько направлений, которые оказались наиболее продуктивными для определения специфики художественного мышления, оформившегося в этот период.
Разработанные достаточно серьезно в критике и литературоведении 1920;х годов вопросы художественного мастерства3 позволили уже тогда описать характер обновления «литературного приема», на котором основывалась эстетика словесного творчества начала XX века. В литературоведении последующего периода осмысляются проблемы народного характера и взаимосвязи массы и личности в прозе 1920;х годов4. В связи с этими вопросами вновь возникает интерес к поставленной еще формалистами проблеме сказового слова5 и романной формы6. Путь становления романа в литературе 1920;х годов рассматривается в русле литературоведческого внимания к освоению писателями эпических тем и эпических форм7, а также в связи с исследованием жанро-во-родовой специфики литературы этого времени8. Особое значение для понимания уникальности индивидуального творческого метода художников слова данного периода имеет исследование стиля, начатое в 1920;е и продолженное в отечественном литературоведении с конца 1960;х годов9. Внимание к проблемам стиля позволило объяснить специфику используемых повествовательных форм, характер сюжетои жанрообразования в творчестве таких уникальных художников XX века, как А. Платонов, И. Бабель, М. Булгаков, М. Зощенко, Е. Замятин, Б. Пильняк, А.Веселый.10, а также адекватно описать трансформацию эстетических норм, осуществленную русским художественным авангардом11, воздействие которого на литературный процесс этого времени считается бесспорным12. В литературоведении 1980—90-х годов художественное творчество 1920;х нашло новые интерпретации — в связи с приложением к нему идей психоанализа13, в связи с поднимаемыми вопросами социального моделирования эстетической деятельности14, в связи с пересмотром таких литературоведческих категорий, как художественный (творческий) метод, направление, стиль, которыми до определенного времени успешно оперировала отечественная наука15.
Опираясь на достигнутые коллективной научной мыслью результаты в понимании специфики литературной эпохи 1920;х годов, мы постарались подойти к интерпретации художественных явлений еще с одной стороны — с учетом того понимания Слова, которое сложилось в философии, языкознании и художественном творчестве конца XIX — первой трети XX веков. Чтобы обосновать правомерность такого подхода, необходимо сделать историко-литературный экскурс — оговорить круг тех проблем, с которыми столкнулась литература интересующего нас периода.
Прежде всего следует учитывать тот факт, что она создавалась в постсимволистский период культурного развития. Категорией «постсимволизм» обычно оперируют применительно к лирике 1910—20-х годов16. Тем не менее, определяя влияние символизма на характер последующей литературы, Вяч. Иванов не прибегает к ее родовой дифференциации, не отделяет поэзию от прозы, а оперирует обобщающей категорией «искусство»: «Символизм отныне и навсегда утвержден как принцип всякого истинного искусства"17. Отмечая, «что в начале 20-х годов XX века надолго сорвался полуторастолетний огромный размах русской литературы (поэзия от Державина до Пастернакапроза от Карамзина до Андрея Белого)"19, Л. Я. Гинзбург передает аналогичное ощущение тотальных изменений, произошедших в области русского словесного искусства в целом.
Уже эти два авторитетных высказывания заставляют искать, к примеру, истоки прозы 20-х годов в тех свойствах, которые проза как явление родовое приобрела под деформирующим влиянием символизма. Поэтому закономерно будет начать с предыстории — остановиться на проблеме «символизм и проза», точнее — «символизм и прозаические жанры».
Данная проблема достаточно серьезно разработана на материале романного жанра. Это не случайно. Роман — самый репрезентативный прозаический жанр, и изменения, с ним происходящие, носят универсальный, общеродовой характер.
Говоря о романе, созданном символистами, его исследователи употребляют определение «символический"19. При этом лишь Н.В.Бар-ковская задумывается о семантической наполненности данного определения: «Что подразумевает этот термин: особый жанр или модификацию жанра, уже существовавшего, или это не жанр вообще, а просто суммарное обозначение некой совокупности произведений"20. Исследовательница рассматривает символистский роман как целостную систему, прошедшую «стадии формирования, расцвета и угасания"21, не как новый жанр, а как «некое семантическое поле, некий текст, состоящий из ряда произведений, написанных в одну эпоху, авторами одного литературного течения и раскрывающих некий общий круг проблем сходными художественными средствами в сходной структурной форме"22 (курсив автора. — Е.П.). При этом она подчеркивает, что романы «неотделимы от повестей и новелл писателей-символистов, а главное — от их поэзии"23. Последнее замечание актуализирует проблему стирания жанрово-родовых границ в прозе символистов. Причиной этого является та особая «иератическая речь пророчествования"24, на которой единственно способен проговориться символизм в качестве мироотно-шения, выраженного в любом жанре и роде, и которая по сути своей является мифологической речью. Основной формой этой речи, по мысли Вяч. Иванова, «послужит миф"25. Вяч. Иванов акцентирует внимание не на жанровых, а на «родовых, наследственных формах «большого стиля» <.> эпопее, трагедии, мистерии"26. Сами создатели символистского романа и символистской драмы рассматривали эти жанры в качестве вариантов инвариантного лирического мироощущения, которое органичнее всего выражали в лирике, и влияние которого на систему своего творчества явственно осознавали. Андрей Белый, реконструируя рождение образа Аблеухова в своем художественном сознании, писал: «.вместо фигуры и фона нечто трудно определимое: ни цвет, ни звуки чувствовалось, что образ должен зажечься из каких-то смутных звучанийвдруг я услышал звук как бы на «у» — этот звук проходит по всему пространству романа"27. А. Блок, как известно, считал свои пьесы только разыгранной в лицах лирикой. Здесь, говорил он, «.переживания отдельной души, сомнения, страсти, неудачи, падения, — только представлены в драматической форме"28.
С разрушительными последствиями тотального воздействия лирики на душу современного человека А. Блок столкнулся в 1918 году, когда от провожавшего его с благотворительного вечера В. Стенича услышал: «Мы живем только стихами <.> Нас ничего не интересует, кроме стихов"29. А. Блок назвал это явление «русским дэндизмом XX века» и охарактеризовал его психологические и этические последствия: «.оно [пламя дэндизма. — Е.П.] попалило кое-что на пустошах «филантропии», «прогрессивности», «гуманизма» и «полезностей» — но, попалив кое-что там, оно перекинулось за недозволенную черту"30.
В области эстетики этой «недозволенной чертой» явилось пространство инородовых для лирики художественных форм, куда интегрировалось лирическое слово и где, оттеснив эпическое и драматическое, оно полноправно обосновывалось в качестве единственно возможного в символистскую литературную эпоху. В результате в эпосе и драматургии деформировались свойственные этим родам способы изображения мира и «человека. Не случайно, завершая исследование символистского романа, С. П. Ильев делает вывод: «Русские символисты отвергали традиционную форму романа и пытались создать новую"31. А Н.В.Барков-ская в своей работе описывает поэтику новой романной формы как типологическое явление, сформированное в едином символистском тексте32. Источником этой новой поэтики стало символистское умозрение, явленное в особом — «иератическом» — слове. Следовательно, главным результатом перехода «за недозволенную черту» «пламени дэндизма», разожженного в символистскую эпоху тотальной лиризацией культурного сознания и художественного творчества, стала деформация прозаического слова. Перечисляя черты постсимволистской поэтики, проявленные в романе Андрея Белого «Петербург», В.Вс.Иванов особо выделяет «словесную организацию произведения"33, подвергшуюся необратимым изменениям. Язык лирики, сакрализованный символизмом, потеснил «служилый» язык прозы. Традиционное, выработанное культурой словесного искусства XIX века романное слово, охарактеризованное М. М. Бахтиным как «социальное разноречие» в эпоху создания символистской прозы оказалось невостребованным.
Если прибегнуть к дифференциации языков поэзии и прозы, которую выстраивает М. М. Бахтин, то можно, сказать, что символистский роман создается на пересечении «идеи чисто поэтического, изъятого из жизненного обихода внеисторического языка, языка богов» (таковым предстает слово в лирике, в том числе и символистской) и «идеи живого и исторически конкретного бытия языков», которые причастны «историческому становлению и социальной борьбе"34 (таковым предстает слово в прозе, в частности — в романе). Первая идея языка в оговариваемой романной модификации явно подавляет вторую идею, ведь «символистский роман с помощью мифологического универсализма пытался воссоздать завершенную тотальность бытия"35, а не отразить представленную в конкретном обличии незавершенную картину мира. Характеризуя природу слова в прозе Андрея Белого, Л. Долгополов указывает на то, что в ней протяженное целое повествования (контекст) подчинено универсальному, емкому в своей многозначности слову: «Контекст высказывания здесь целиком зависит от «контекста» слова — его многозначности"36. Это наблюдение позволяет сделать вывод о том, что «контекст» (точнее — полисемичность) слова в символистской прозе аккумулирует все разворачиваемые линейно — в сюжете произведения — смыслы. И это объясняет принципиально монологическую структуру символистской прозы. Здесь невозможно «движение темы по языкам и речам, ее дробление в струях и каплях социального разноречия», то есть того, что, по Бахтину, составляет «особенность романной стилистики"37. Диалог в символистском романе может быть подобен только диалогу в символистской драме и являться разыгранной в лицах лирикой».
Таким образом, постсимволистская проза оказалась прежде всего лишенной своего типологически родового языка. Романного типа слова в его каноническом варианте после воплощения символистского миро-отношения в литературе у прозы не осталось.
Завоевывая пространства инородовых художественных форм, лирическое (по определению JI. Гинзбург, поэтическое) слово тем самым продлевало свою жизнеспособность. Но в самой стихотворной речи оно исчерпало свой семантический потенциал к началу 1910;х годов. Ее случайно пионер новой — антисимволистской — поэтической эпохи И. Анненский, а вслед за ним и акмеисты делали открытия в области «будничного слова"38 и в переориентировке поэзии на прозу39, а футуристы провозгласили установку художественного творчества на антиэстетизм. Собственно-поэтическое слово, завершившее в стихах действие своей художественной функции — быть средством изображения медитаций символистской души и тем литературным приемом, который позволил отгородить искусство от «прозы жизни», — превратилось в постсимволистскую эпоху из средства в объект изображения, а кроме того, стало предметом саморефлексии40. Поэтому вполне закономерно, что в 1924 г. Ю. Н. Тынянов зафиксировал факт агонии стихотворного слова в целом: «Писать о стихах теперь так же трудно, как писать стихи"41.
Зато к концу десятых годов лирический тип слова активно утвердился в прозе, обжил ее и перестроил. Следствием этого было разрушение жанрового дифференциала. И роман, и рассказ характеризовались одним качеством — стали лирической прозой. Жанровые различия нивелировались перед общностью родовой специфики. О том, что в прозе к началу 20-х годов «исчезло ощущение жанра» (курсив автора. — Е.П.), писал Ю. Н. Тынянов в статье «Литературное сегодня». Правда, он не связал этот факт с изменившимися свойствами современного прозаического слова. Заметив, что «» рассказ" стерся", «стерлась психологическая повесть с героем, который думает, думает"42, ученый поставил вопрос о необходимости фабульного романа. Требование от писателей создания именно данной жанровой формы не выглядело случайным. Фабульный роман был необходим как противовес утвердившемуся в прозе лирическому типу слова, которое видоизменило там и принципы изображения героев, и субъектную организацию, и специфику сюжетостроения, и саму конструкцию романного целого. Это требование было выдвинуто в тот момент литературного развития, когда, уловив чутким ухом смещение геологических пластов в толще литературы, ученый выделил наиболее благоприятный для развития прозы момент и зафиксировал, что она «решительно приказала поэзии очистить помещение"43.
И «романы пришли со всех сторон. И фабульные, и бесфабульные — всякие"44. Однако эта видимая активизация литературной жизни не убедила Ю. Н. Тынянова: «Нерадостно пишут писатели, как будто ворочают глыбы. Еще нерадостнее катит эти глыбы издатель в типографию, и совершенно равнодушно смотрит на них читатель <.> Читатель сейчас отличается именно тем, что не читает"4^. Ему вторит Вяч. Полонский: «.уже ясно обозначился литературный голод"46. Фабульный роман, собственно, и мог утолить литературный голод, ибо с ним традиционно связывалось представление о полноценном литературном процессе. Отсюда грустное замечание Вяч. Полонского: «Новой литературы еще не было"47 и ироническое сопоставление читателей символистской и постсимволистской литературных эпох, появившееся в критических штудиях Ю. Н. Тынянова: «Старый читатель, когда в его руки попадал журнал или альманах, бросался сначала на стихи и, только уж несколько осовев, пробегал прозу. Читатель недавней формации тщательно обходит стихи, как слишком постаревших товарищей, и бросается на прозу"48.
Проанализировав «пришедшие со всех сторон романы», критик так и остался с вопросами: «А что же дальше? — Куда пойдет литература?"49. Его аналитический глаз вместо полноценных романов увидел попытки преобразовать рассказ в роман, попытки сориентировать последний на изжившие себя в литературе формы исторического повествования или же обновить жанр романа с помощью введения в него экзотических тем — темы Запада и марсианских путешествий. И в статье «Литературное сегодня», и в статье «200 000 метров Ильи.
Эренбурга", и в статье «Сокращение штатов», констатируя кризисное состояние современной прозы, Ю. Н. Тынянов по сути делает вывод: проза не может вернуться к тому опыту, который она в литературе уже прожила. Это будет дорога саморазрушения. Путь новой прозы должен лежать не в обратную от лирики сторону. Чтобы самоопределиться в литературном процессе, проза постсимволистской эпохи должна осознать представлявшееся разрушительным влияние лирики как обретение, как свое новое жанросозидающее качество.
Смерть старой романной формы в конце 1910 — начале 20-х годов была обеспечена и факторами внеэстетического порядка. На них указал О. Э. Мандельштам в статье «Конец романа»: «.когда мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, когда борьба классов становится единственным настоящим и общепризнанным событием, акции личности в истории падают в сознании современников, а вместе с ними падают влияние и сила романа <.> кризис романа, то есть фабулы, насыщенной временем, совпал с провозглашением принципа относительности Эйнштейном"50. Результатом разрушающего воздействия истории на роман, по мнению поэта, стало изменение объекта изображения: «Дальнейшая судьба романа будет не чем иным, как историей распыления биографии как формы личного существования <.> Ныне, извлекая из общей связи явлений облюбованную им особь со всем, что ее непосредственно окружает, писатель-романист уже не может остановиться, а неизбежно притягивает вместе с личностью весь огромный мир общественных явленийхочет он или не хочет, он пишет социальный роман, хронику, летопись, то есть разбивает композиционную целостность замысла, выходит из рамок романа как системы явлений, непосредственно относящихся к личности"51. Как следует из этих наблюдений, автор романа на рубеже 1910—20-х годов оказывается в ситуации графоманствующего героя-рассказчика -— той литературной маски, которую в предсимволистскую эпоху литературного развития, на излете классического реализма, использовал Ф. М. Достоевский. В своем писательском опыте этот рассказчик переживал болезненное ощущение неполноценности, ибо его слово постоянно испытывало разрушительное влияние текучей, меняющейся повседневности, лежащей рядом с повествованием и никак не перекрывающейся последним52.
Литература
рубежа 10—20-х годов, по сравнению с предшествующей культурной эпохой, изменила образ творческой личности, отразившей себя в художественных явлениях. Уже в поэзии И. Северянина Н.Гумилев увидел образ поэта, ориентированного на эстетический вкус массового читателя53, и сделал вывод о серьезности происходящих в искусстве слова перемен: «Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своею талантливостью и ужасных своею небрезгливостью"54. Установка на антиэстетизм, провозглашенная футуристами в качестве нового эстетического принципа, свидетельствовала как будто бы об усилении позиций прозы в литературном процессе. Однако это не совсем так: менялся самый характер поэтического слова, критерий его ценности55. Антиэстетизм был качеством слова футуристической поэзии, оказавшей в 10-е годы не меньшее влияние на прозу, чем в 900-е символистская поэзия. Не случайно поэты не испытывали пиетета перед прозаиками, работавшими в области неканонического слова, не рассматривали последних в качестве первопроходцев на пути к овладению языком примитива. Наоборот, прозаиков начала 20-х годов А. Крученых представляет как эпигонов идеи «заумного языка», выдвинутой футуристами. Так, отметив, что в творчестве Л. Сейфул-линой встречаются «.словечки в большинстве случаев областные, немосковские, а сибирско-уральские (киржачьи), киргизские или жаргонно-воровские», что у писательницы развита «любовь к звучащему слову», поэтому у нее часто возникает «почти что фонетическая запись речи <.> И не только в слова вслушивается Сейфуллина, но и в построение фраз <.> Из всех углов выпирают слова только что формирующиеся или деформирующиеся», что слово у нее «как бы получает самостоятельную жизнь и весомость (слово как таковое) и даже диктует события, обуславливает сюжет"56, А. Крученых тем не менее не восторгается ее новаторством. Все эти свойства языка, обновляющие прозу, он преподносит как вторичные по отношению к уже разработавшей их поэзии и содержащей их первичной реальности: «Заумную речь не творит она, а только изредка подслушивает конкретное и, главным образом, недоразвившееся слово, — чем и освежает рассказ свой"57. Именно футуристы, с его точки зрения, ввели в поэзию «глухой и тяжелый звукоряд <.> (с татарским акцентом). Такова же в общем фоника"58 современных писателей. «Термин «заумное слово» , — по наблюдениям А. Крученых, — вошел в обиход, и его даже не отмечают кавычками. Так, известный романопускатель Илья Эренбург начинает его вкрапливать в свои романы без комментарий <.> На заумном языке уже пишет каждый Пильняк"59. И очевидно, чтобы подтвердить пионерскую функцию заумников в работе со словом, поэт прилагает к изданию статьи «Декларацию заумного языка», написанную четырьмя годами ранее. Лишь вскользь, для порядка, после утверждения, что «проза все более сближается со стихом», он отмечает: «.стих, со своей стороны, часто пользуется прозаическим и разговорным языком"60. Но тут же одергивает себя, обозначив перспективу родового взаимовлияния: «.так намечается некая новая единая форма!"61.
Такое пространное цитирование статьи А. Крученых необходимо нам, чтобы сформулировать не до конца прописанную в истории русской литературы XX века проблему — о влиянии футуристической — шире — постсимволистской поэзии на прозу начала 1920;х годов. Крученых в проведенных сопоставлениях по сути набрел на данную проблему, но не акцентировал ее значимость для изучения поэтики современной прозы. Он лишь отметил в 192 5 году (!) факт тесного сближения прозы со стихом. Однако этот процесс начался задолго до литературной деятельности футуристов-заумников. И очевидно, что сближение прозы со стихом на рубеже 10—2 0-х годов преследовало иные цели и приводило к другим результатам, нежели на предшествующем этапе — в 1900—1910;е годы. Не случайно, указав в 1924 году в работе «Проблема стихотворного языка» на такое приобретенное прозой новое качество, как метричность и ритмичность, Ю. Н. Тынянов акцентирует внимание на мысли о том, что поэзии не удалось подменить прозу и вытеснить ее из литературной жизни62. А в статье «Промежуток», написанной в этом же году, он говорит об обретении прозой нового дыхания: «Теперь поэзия «отступила» окончательно"63.
Гипотетически можно предположить, что влияние на прозу конца.
10-х — начала 20-х годов двух факторов — антиэстетического слова, культивировавшегося в футуристической лирике, и того поэтического языка, который, будучи «заимствованным из будничного обихода», составил постсимволистскую «петербургскую поэтику», где в слове обнаруживалось «преобладание предметного значения <.> над обобщающим смыслом"64, — должно было укрепить позиции прозы, ослабленные ранее воздействием мифологизирующей реальность символистской речи. Чтобы проверить это предположение, необходимо ответить на ряд вопросов. В постсимволистской лирике установка на антиэстетическое или «будничное» слово вела к обновлению поэзии, демонстрировала возможность увеличения ее изобразительного арсенала. Совпадало ли это с тенденциями постсимволистской прозы, был ли «будничный» язык для нее новым литературным приемом, не обращало ли его использование прозу вспять — к предсимволистскому этапу ее развития? Данные вопросы стимулируют к постановке новых: каким смыслообразующим потенциалом для прозы обладал выработанный в 10-е годы тип поэтического словавлияло ли родовое различие между постсимволистской поэзией и постсимволистской прозой на характер оперирования этим поэтическим языком?
Антиэстетическая установка, заданная поэтическому языку в постсимволистскую эпоху, безусловно, влияла на обновление субъектной организации прозы. Именно этой установкой объясняется усилившийся интерес к носителям нелитературного слова, вытеснявшим в конце 10-х — начале 2 0-х годов традиционных литературных повествователей и рассказчиков, оперирующих книжным языком. В скобках можно заметить, что в этот период из лирики исчезает поэт — «неведомый избранник» и появляется в качестве поэта, фигурально выражаясь, сначала одетая в «серое будничное платье» «не пастушка, не королевна», а потом «человек эпохи Москвошвея». Маргинальное — сказовое — слово явилось для прозы, как и для поэзии 10—2 0-х годов, новым приемом, расширившим ее художественный опыт. Проза, с одной стороны, возвращалась к освоенному уже в XIX веке разными ее жанрами социальному разноречию, с другой стороны, заимствовала у лирики десятых годов опыт овладения маргинальным языком.
Сказовое слово по большому счету не решало проблему самоопределения прозы. Тому было несколько причин. Прежде всего, оно не вводило в прозу собственно-эпическую тему, хотя это выглядит противоречащим самой природе сказового рассказчика, в слове которого актуализирована национально-родовая и социально-коллективная сущность. Чтобы пояснить нашу мысль, обратимся к авторитетным мнениям на этот счет, высказанным в коллективной монографии Е. Г. Мущенко, В. П. Скобелева и Л. Л. Кройчика «Поэтика сказа» и в статье Н. Рыбакова «Поэтика сказа». Все эти исследователи единодушно и справедливо отмечают, «что сказовая форма повествования <.> отражает стремление литературы к реализации принципа народности», позволяет народной массе «заговорить непосредственно от своего имени"65. В сказовом слове, если отталкиваться от этих наблюдений, проявляется не индивидуальный опыт, а «угадываются социальные коллективы, от лица которых <.> художник выступает"66. Исходя из этих свойств, сказовое слово выглядит обреченным эпичности. Не только коллективный речевой народный опыт, но и отраженные в этом опыте «история народного духа и народная философия истории"67 позволяют сказовому слову быть заряженным эпическим потенциалом. Однако жанровая форма воплощения сказового слова имеет тенденцию к разрушению содержащихся в нем эпических возможностей. Сказовый рассказчик, являющийся по отношению к книжной культуре маргиналом, не обладает навыками жанрового мышления, которое позволило бы ему воплотить свое слово в развернутой системе жанров или на фоне других (чужих) жанровых речевых форм. Он осваивает в основном малые жанры и выражает себя в каком-то обжитом одном (например, речевом фрагменте, как это представлено в романе С. 3.Федорченко «Народ на войне» или жанре письма, который в исполнении сказового рассказчика может подменять целый ряд других жанров (военное донесение, следственный протокол), как это продемонстрировано в цикле рассказов И. Бабеля «Конармия», наконец, жанровое определение речи сказового рассказчика может предстать в виде метафоры, что зафиксировано автором в романе Артема Веселого «Россия, кровью умытая», когда он передает «Слово рядовому солдату Максиму Кужелю». Перечисленные речевые жанры, как варианты форм, в которых воплощается сказовое слово, представляют собою «малую прозу». А она, как правило, не способна целостно и всеохватно запечатлеть картину мира. Сказовое слово, таким образом, ограничено в своем изобразительном потенциале самой эстетической формой воплощения. Ему удается схватить фрагмент, отразить ситуацию, частность, подробность. В характере жанрового воплощения сказовое слово выглядит типологически родственным лирическому. Характеризуя лирическое слово и соответствующие ему лирические жанры, Т. Сильман подчеркивает, что «лаконизм высказывания есть одно из существеннейших — никак не внешних, а внутренних — требований, предъявляемых лирическому стихотворению самой его жанровой спецификой"68. Правда, в лирике и сказе различны причины жанрового лаконизма. «Лирическое стихотворение <.> отражает <.> предельно напряженное состояние лирического героя, которое <.> в силу своей природы, «по заданию» не может быть длительным"69. Сказовое слово оформляется жанрами «малой прозы», потому что социально неполноценный сказовый рассказчик не владеет всем богатством существующих языков и речевых жанров, а пользуется только социально однородным языком и системой разработанных для выражения этого языка жанров. Само же состояние «рассказывания» для него превращается в некое испытание: через слово он демонстрирует способность к полноценному проявлению себя в мире или же обнаруживает свою личностную (творческую) несостоятельность. Типологически данное испытание схоже с напряжением души лирического героя, который проговаривает в лирическом стихотворении индивидуально-сокровенное. И, наконец, есть еще один фактор, позволяющий установить типологическую соотнесенность между сказовым и лирическим произведениями. Семантика сказового слова, как и лирического, может создаваться контекстом. Это подметил В. В. Виноградов, анализируя специфику языка М. Зощенко: «Перед Зощенко была задача сдвига номинативных отношений или изменения экспрессивного окружения слов"70. Справедливости ради надо заметить, что сказовый рассказчик не ощущает механизма влияния контекста на семантику слова, в отличие от субъекта лирического стихотворения, который этим механизмом активно пользуется.
Чтобы сказовая форма повествования обрела эпичность, необходимо раздвинуть рамки ее жанрового воплощения. Она должна быть оформлена в цикле рассказов или в романном повествовании. Но для этого нужен не один сказовый субъект, а система носителей сказового слова. Когда несколько нарративных единиц, организованных одним сказовым рассказчиком, объединяются в цикл, подобно зощенковским «Рассказам Назара Ильича господина Синебрюхова», это не делает повествование эпичным. Сами сказовые языки должны выглядеть разнородными и находиться во взаимодействии, в диалоге. Лишь в этом случае речевая многомерность, универсальность представленной языковой картины обеспечит эпическую полноту запечатленного бытия. Таким образом, сказовое повествование само по себе не может являться фактором, обеспечивающим прозе полноценный родовой статус.
Вторая причина, по которой сказовое повествование не решало проблему самоопределения прозы, состоит, на наш взгляд, в том, что сказ не делал прозу событийной. Главным событием в нем является экстраординарная для рассказчика ситуация самопроявления в слове, а потому сюжет произведения, оформленного сказовым словом, составляет не система событий, в которых участвует рассказчик, а характерный для него способ речеведения. В сказовом произведении всегда по сути одно событие, которое и движется, выстраивая художественную структуру данной жанровой формы — рассказ пребывавшего до этой ситуации в дословном состоянии субъекта («Григорий Иванович шумно вздохнул и начал рассказывать"71). Актуализация внимания читателя на самом способе рассказывания драматизирует сказовую прозу. Подытоживая характеристики сказовой речи, сформулированные в современном литературоведении, И. А. Каргашин указывает на то, что «.изображение разговорной речи рассказчика в сказе есть не что иное, как разыгрывание-инсценирование этой речи"72 (разрядка автора. — Е.П.). Драматическая природа сказового слова, как отмечал Ю. Н. Тынянов, определяет все уровни структуры сказового произведения, вплоть до способа читательского восприятия: «.и читатель входит в рассказ, начинает интонировать, жестикулировать, улыбаться. Он не читает рассказ, а играет его"73 (курсив автора. —.
Е.П.). В. Шкловский увидел в зощенковском сказе драматический принцип создания образа — «комизм положения"74.
Все вышесказанное убеждает в том, что сказовое слово не способно было воплотить в прозе необходимую ей эпическую установку для того, чтобы она. смогла полноценно противостоять лирике и тем самым сохранять жанрово-родовой баланс в литературе рубежа 10—20-х годов. Даже та малая толика эпического (рассказываемое событие), которая содержится в сказовом слове и вроде бы позволяет говорить о нацеленности на описание событийной канвы, переводится в план драматического принципа изображения. Рассказывая о прошедшем событии, рассказчик убирает временную дистанцию, отделяющую рассказ от совершавшегося когда-то действия, и тем самым драматизирует последнее75 .
Таким образом, антиэстетическое, «будничное» слово, организующее сказовую речь, не вводило в прозу собственно-эпическую, точнее — антилирическую (прозаическую) тематику, не делало прозу событийной и описательной, т. е. не решало проблем ее самоопределения. Не случайно В. Шкловский предупреждал: «» Сказ" должен быть рассмотрен в плане работ над поэтическим языком, а не в связи с ролью героя или маски"76. Как убеждает вышеизложенное, сказовый тип повествования внедрял в прозу драматические и типологически сходные с лирическими принципы изображения. Следовательно, для того, чтобы обладать эпическим характером, прозаическое произведение, организованное сказовым словом, должно было искать какие-то иные (помимо про-заизации языка) способы воплощения эпического.
И здесь прозе рубежа 10—2 0-х годов путь был проторен символистской и постсимволистской лирикой, которая накопила опыт жанровой компенсации. Потесненный на периферию литературного процесса жанр психологического романа не мог быть адекватно подменен лирическим стихотворением, поэтому активно разрабатываются жанровые формы лирического цикла, книги стихов. Именно они расширили смыслообразую-щее пространство малой сценической площадки лирического текста, оказались способными показать душевную жизнь лирического субъекта многомерной и текучей. Лирический цикл (особенно смоделированный по романному принципу77) создавал слову возможность осуществить повествовательную функцию.
Проза, организованная сказовым словом в начале 20-х годов тоже объединялась в циклы, книги. И это осмыслялось писателями как важный фактор, задающий новый ракурс читательскому восприятию малой прозаической формы. И. Бабель, публикуя свои рассказы в «ЛЕФе», делал подзаголовок «Из цикла «Конармия» «, заставляя тем самым читателя относиться к отдельным рассказам как к части большого прозаического целого78. Цикл в качестве большой жанровой формы противоречил однородности и одномерности сказового слова, способного воплотиться только в малом пространстве текста. Невольно вместе с циклом/книгой в прозу входило многоязычие, пусть даже в виде разных типов маргинального языка. И этим качеством — многоязычием — циклически организованная проза типологически сближалась с романом. Через соотнесенность с формами речи, принадлежащими различным сказовым субъектам, в рамках большого текстового пространства антиэстетическое слово получало возможность быть не только новым художественным приемом, не только новым типом поэтической речи, используемым малыми лирическими и прозаическими жанрами. В большой форме невольно проявлялась диалогизированная природа этого слова, что позволяло ему воплощать и сохранять родовые качества прозы, типологически свойственные роману. Это функционально возвращало антиэстетическое слово вспять, в досимволистскую эпоху, когда оно, утверждаясь в литературном языке, лишь пробивалось к полноправию и, по мысли Л. Я. Гинзбург, становилось равноправным объектом познания и носителем трагической, героической, лирической эмоции. В свете наших рассуждений существенно замечание исследовательницы о работе над словом, проделанной А. С. Пушкиным: «.словесное сырье, непричастное отобранному «языку богов», он обратил в ряд идеологических ценностей"79. В досимволистскую эпоху ценность антиэстетического слова утверждалась в диалоге с нормативным языком литературы. Самоопределение постсимволистской прозы (в частности — романа) на фоне господства лирических жанров осуществлялось не через реабилитацию «будничного» слова (оно потеснило к этому времени «язык богов» в самих лирических жанрах), а через установление диалогических отношений между маргинальными языками, формирующими новую литературную норму, демократизирующими литературный язык. Опыт этого диалога могла дать только проза, и то не вся, а лишь ее большие, авторитетные жанры. Отсюда и заявление Ю. Н. Тынянова: «Нужным и должным казался и кажется роман"80. Отсюда же и разрабатываемая М. М. Бахтиным в данную культурную эпоху теория романа с актуализацией идеи его диалогической, полифонической природы. Параллельно с формированием «демократического» литературного языка постсимволистской прозы возникает теория романного слова как социального разноречия.
Именно М. М. Бахтин, в отличие от своих современников, писавших о сказовом слове, увидел в нем социально маркированную речь. В. В. Виноградова и Б. М. Эйхенбаума сказовое слово интересовало в качестве литературного приема, относящегося к области эстетических открытий. Характеризуя сказовую речь, В. В. Виноградов обращает внимание на план выражения, а М. М. Бахтин — на план содержания. Сравним для примера два высказывания. Для В. В. Виноградова гоголевский рассказчик интересен способностью нестандартно выстроить речь, обновить самый процесс рассказывания: «Сказ организуется путем постоянного перерезывания той сюжетной линии, которая в заглавии определяется как основная, побочными эпизодами, «презабавными происшествиями», всплывающими внезапно в результате вольного, не сдерживаемого логическими преградами течения ассоциаций"81. М. М. Бахтин обращает внимание читателя к социальной характеристике человека, стоящего за сказовым словом: «Вводится собственно рассказчик, рассказчик же -— человек не литературный и в большинстве случаев принадлежащий к низшим социальным слоям, к народу (что как раз и важно автору), и приносит с собою устную речь"82.
Сказовое слово в качестве нового литературного приема лучше осознавалось в рамках малой эпической формы. Сказовое слово в качестве социально-чуждого языка лучше ощущалось в тексте на фоне других типов речи, а потому для демонстрации этого свойства ему больше подходила большая эпическая форма. Но в этом случае, попада я в семантическое поле другого языка/языков сказовое (нелитературное, узурпировавшее право на литературность) слово утрачивало эстетическую самоценность. Его «самовитость» как уникальное качество разрушалось языковым фоном. Подрывалась сама идея, положенная в основу поэтического языка авангардной эпохи литературного развития, позволявшая постсимволизму «быть культурой, начатой заново"83. Сказовое слово в рамках большой жанровой формы (цикла рассказов, книги), существуя на фоне других языков, обретало качества и статус романного слова.
Важно отметить, что маргинальный язык, подменивший традиционное литературное повествование не был однородным, несмотря на то, что за ним ощущался коллективный творец. Авторы, использующие нелитературное слово, обнажали уровень его творческого потенциала, а следовательно, и меру права называться поэтическим. Маргинальное слово в рамках эстетического целого оказывалось не только социальной, но и личностной, творческой характеристикой его носителя. «Выброшенный из своей биографии» (О.Мандельштам) человек, проявляясь в прозаическом произведении в качестве носителя речи, обретал свое существование в слове и тем самым начинал свою эстетическую биографию. Автор через жанровые формы, организованные нетрадиционным литературным повествованием, отражал качество этого существования, степень полноценности творческой жизни человека, оказавшегося субъектом речи. Эта субъектность проявляла себя как мнимая и подлинная. Крайними точками, свидетельствующими о дифференциации нетрадиционного литературного повествования, являются субъекты, которым принадлежит слово в прозе М. Зощенко и А.Платонова. Мнимость зощенковского субъекта определяется самой жанровой формой пародийного сказа, в котором он проявляется как носитель пародируемого слова. Это слово является не самоценным, а, с эстетической точки зрения, — утилитарно-функциональным, ибо воплощает до текста заданную ему пародийную установку автора84. В результате, несмотря на то, что данным словом организовано повествование, оно по существу для автора объектно, творчески бесплодно. Субъект в произведениях А. Платонова заново творит своим словом мир, представший перед ним как семантически неравнозначные языки (онтологический, идеологический, бытовой). В своем слове он взаимовысвечивает их смыслы, формируя личностный смысл85. Слово платоновского субъекта по способу воплощения творческое. И в этом своем качестве оно типологически родственно традиционному повествовательному слову. Можно даже увидеть в природе слова, которым оперирует А. Платонов, адекват романа, если рассматривать роман в качестве художественной модели мира. Все канонизированные М. М. Бахтиным свойства романного жанра присущи слову субъекта платоновской прозы: действительность в романе и в данном слове творится заново на наших глазахроман, как и слово платоновского субъекта, строится в зоне непосредственного контакта с неготовой современностьюроман, как и данный субъект, предлагает систему ценностей, которые только что создаютсяроманное единство, как и рассматриваемое нами слово, обнаруживает себя в системе диалогических отношений86. Таким образом, сказовое слово не только противостояло традиционно-литературному как новая открывшаяся художественная перспектива, но и разрешало с ним единую задачу, отделяя в языковой практике его носителей эстетически-перспективное от творчески-бесплодного. Тем самым маргинальное слово позволяло писателям показать, где кончаются границы искусства. И данная функция роднила его с традиционно-поэтическим словом, призванным в истории культуры стеречь эти границы.
Как убеждает вышеизложенное, на рубеже 1910—20-х годов слово в качестве предмета искусства не оказалось отодвинутым на второй план новыми темами, спродуцированными эпохой социальных потрясений. Слово в онтологическом и эстетическом своих качествах интересовало художников не в меньшей степени, чем на предыдущем этапе литературного развития, и оказывалось вновь объектом описания. «Слово, изображенное словом"87, позволяло обнаружить меру творческого потенциала воплощающегося в нем субъекта. В данную эпоху это было исключительно важным и для развития литературных форм, и для оценки нового субъекта творчества.
Природа последнего, отраженная в характере литературного языка, которым он оперировал, проявляла себя двойственно — была социальной и мифологизированной. Утверждаемый авангардным искусством образ грандиозного творца, художника жизни, «народа-футуриста"88 точно так же, как и «варварские массы», способные, по мысли А. Блока и Н. Бердяева89, создать новую, подлинно жизнеспособную культуру — явление литературного ряда. Область воплощения этого субъекта языковая, но преимущественно через отказ от поэтической традиции. Утверждаемый пролеткультовским типом искусства образ «класса-творца"90 — явление социокультурное, не имеющее отношения к языку в его эстетическом качестве. И тому, и другому типу коллективного творца противостояли традиционный для литературы субъект, личност-но проявляющийся в языке художественного творчества и маргинальный субъект, получивший возможность самоопределения в сказовом слове, но не всегда способный эту возможность воплотить. Такая неоднородность субъектов, выражавших себя в литературном языке, обеспечивала слову многообразие воплощений и богатство судеб.
На протяжении 1920;х годов литература искала способы художественного воплощения онтологической сущности слова, ибо только эта сущность, явленная как результат творческого акта, позволяла искусству слова обрести самотождественность, а субъекту творчества — самоценность. Слово в качестве носителя онтологических смыслов не вступало в конфликт со своей поэтической природой. Через онтологический статус слова искусству возвращалась его традиционная гуманистическая функция, а носителю такого слова — возможность жизни в знаке как в подлинной реальности, возможность преодолеть небытие через слово, ибо «язык <.> есть логос вселенной, и всякое слово не только слово данного субъекта о чем-то, но и слово самого чего-то"91. Литературе особенно во второй половине 1920;х годов необходима была самотождественность, ибо статус художника у ее творцов активно оспаривали политики92, а «постановка (и решение) литературных задач слилась с задачей выработки социального поведения>>53 (курсив автора.— Е.П.).
Литературный процесс 1920;х годов, начавшийся с эсхатологических переживаний, вызвавших к жизни тексты, вербализующие семантику смерти искусства («Кризис искусства», «Апокалипсис нашего времени», «Конец романа».), во многом выстраивался на основе идеи преодоления небытия, которую можно метафорически назвать его «родовой травмой». Причем небытие понималось полисемично: для маргинального субъекта это было состояние дословности, для художника-авангардиста — прогресс. Семантика небытия содержалась в опыте эстетических революций, неоднократно прокатившихся по искусству слова в начале XX века. Воспользовавшись формулой Г. Федотова, примененной философом по отношению к способу исторической жизни русской радикальной интеллигенции, процесс смены литературных школ и направлений в этот период можно назвать «путем братоубийственных мо-гил», тем более, что в эстетических декларациях зачастую содержалось абсолютное отрицание всего предшествующего опыта (стоит хотя бы вспомнить знаменитую фразу К. Бальмонта: «Имею спокойную уверенность, что до меня в России стихов писать не умели»). Мысль о том, что подлинного искусства еще не было, содержалась не только в радикальных декларациях футуризма, кубизма, пролеткульта, но и в ми-фопоэтизации творческой энергии «варварских масс"94. Характеризуя атмосферу первых пяти лет послереволюционной культурной жизни, Вяч. Полонский писал: «Отрицание вчерашнего дня было господствующим. Ожидание новых форм всеобщим. Ироническое отношение к классическому искусству признаком хорошего тона. Все вместе взятое создавало атмосферу, благоприятную для литературных исканий, экспериментов, изобретательства. Жаждавшее новизны воображение было готово к признанию любой экстравагантности. Традиционность мышления была погребена"95.
Выдвинутая в 192 4 г. Ю. Н. Тыняновым идея литературной эволюции позволяла снять вопрос о смерти искусства и не абсолютизировать проблему новаторства. Рассматривая литературу как «динамическую речевую конструкцию"96, как «[не]прерывно эволюционирующий ряд"97, ученый показал, что любая эстетическая революция — это есть органичный для искусства слова эволюционный процесс, характеризующийся борьбой и сменой конструктивных приемов. Из рассуждений Тынянова вытекало, что между новым и старым, нет абсолютного противоречия: «.новое явление сменяет старое, занимает его место, и, не являясь «развитием» старого, является в то же время его заместителем"98 (курсив автора. — Е.П.). С его точки зрения, литература не монолитна, в ней существуют разные пласты, поэтому не может быть одномоментного и тотального обновления, полной смены одного литературного течения другим. Системное видение предмета исследования позволило Ю. Н. Тынянову понять, что на разных уровнях системы эволюция протекает в различном темпе: «Эволюция конструктивной функции совершается быстро. Эволюция литературной функции — от эпохи к эпохе, эволюция функций всего литературного ряда по отношению к соседним рядам — столетиями"99. Таким образом, искусство имманентно не обладает способностью к абсолютному обновлению. Эта интуиция, возникшая в рамках теории поэтического, языка, естественно, не оказала влияния на практику его развития. Изнутри этой практики ситуация виделась иначе. Анализируя современный литературный процесс в 1924 году, Ю. Н. Тынянов стремится рассмотреть динамикулитературного развития сквозь призму идеи автоматизации конструктивного принципа того или иного явления. Например, говоря о кризисе жанровых форм прозы и задумываясь над тем, как его литературе преодолеть, он строит свои рассуждения аналогично изложенным в статье «Литературный факт» общетеоретическим построениям: поскольку рассказ стерся, малая форма не ощущается, в качестве нового конструктивного фактора должно быть избрано нечто противоположное — большая форма. Отсюда заглавная идея статьи «Литературное сегодня»: «Нужным и должным казался и кажется роман"100. Но роман, рассуждает дальше исследователь, — жанр старый- «а жанр — понятие текучее. Требовалось что-то на смену, но роман ли — вопрос"101 (курсив автора. — Е.П.). И далее в статье следовал анализ современной прозы, наглядно показывающий, каким не должен быть роман. Поэтому закономерно статья заканчивается вопросом: «а что дальше?».
В 1927 году в статье «О литературной эволюции», уже применяя к явлениям литературы понятие системности, Ю. Н. Тынянов делает вывод: «.по отношению к современной литературе невозможен путь изолированного изучения" — «.изолированное изучение произведения есть та же абстракция, что и абстракция отдельных элементов произведения"102. Таким образом, системный подход позволял увидеть «использование старых приемов в новом конструктивном значении» не только в рассматриваемом целом явлении, но и на разных уровнях этого художественного целого. Перспективность данного ракурса зрения на литературу трудно переоценить. Не случайно Ю. Н. Тынянов задумывал выстроить историю литературы на основе теории литературной эволюции. Современная литературная эпоха была прекрасной иллюстрацией этой теории. Декларативно отвергаемая традиция укоренялась в ней на разных, порой не сразу замечаемых уровнях структуры (даже как минус-прием). Старый прием, будучи употребленным в новой функции, не только обнаруживал свою жизнеспособность, но и создавал ощуще^-ние литературного новаторства. Особенно наглядно это проявилось в способе функционирования жанров в рассматриваемую литературную эпоху.
Кризис жанровой системы, ощущавшийся на рубеже 1910—20-х годов, был связан не только с тотальным господством лирики в литературном процессе. Система литературных жанров расшаталась аналогично системе литературного языка благодаря стремлению художников расширить границы искусства и изменить само понимание эстетической нормы. В литературу входил субъект творчества, не обладавший жанровым мышлением. А поскольку жанр — это категория, адекватная целостности литературного произведения, за которой, как известно, стоит автор, то вполне справедливо, что «.творческая индивидуальность должна рассматриваться как «последняя инстанция» при формировании жанра"103. Иными словами, жанр, как и слово, характеризует того, кто за ним стоит. Роман потому и был востребован в первой половине 1920;х годов, что внутри естественной для него иерархии языков их носители, использовавшие различные речевые жанры, могли предстать в соотнесенности, на фоне друг друга. А любая иерархия, даже если она выстраивается непреднамеренно, есть способ преодоления хаоса. Романный жанр как системно организованное целое способен был противостоять и хаосу исторической реальности104, и разрушению эстетического равновесия в литературном процессе. На способность романного мышления ограничивать хаос указал Н. Т. Рымарь: «.структура романного мышления определяется тем, что творческий субъект, развертывая романный мир, находится в двояких отношениях со своим предметом — он строит образ одновременно как завершенный и как незавершенный, как обладающий четкими границами и как выходящий за свои границы, —.он находится с ним и в отношениях объективной эпической дистанции, и в отношениях личного, субъективного контакта, созерцая его как готовый и переживая его в его незавершенности и свободе"105.
Учитывая данную специфику романной формы, мы обратились к произведениям, которые в строгом смысле романами не являются, а возникают на границе большой жанровой формы и фрагмента. Они-то как раз и реализуют вынашиваемую литературной эпохой «идею романа». Что становится конструктивным фактором данных моделей? Что подменяет утраченную к началу 1920;х годов «биографию человека», по мысли О. Э. Мандельштама, являющуюся «романной мерой»? На эти вопросы нам предстоит ответить в ходе анализа книг С. Федорченко «Народ на войне» и Б. Пильняка «Машины и волки», цикла рассказов И. Бабеля «Конармия» и незавершенного романа А. Ганина «Завтра». Авторы этих текстов сами формулируют мысль о пограничности создаваемого явления, избегая литературоведчески корректных жанровых определений. Это особенно подчеркивает Б. Пильняк, называя «Машины и волки» то книгой, то повестью. В строгом смысле все данные явления можно обозначить бартовским наименованием «тексты», если учитывать тот факт, что «текст не ограничивается рамками добропорядочной литературы, не поддается включению в жанровую иерархию», «размещается в языке, существует только в дискурсе"106, что „“ я», пишущее текст, это «я», существующее только на бумаге"107. Интерес к книге С. Федорченко и циклу рассказов И. Бабеля объясняется тем, что здесь вступают во взаимодействие конструктивный фактор «малой» прозы — слово — и конструктивный фактор «большой» прозы — конструкция108. Данный факт позволяет задаться вопросами о том, какую функцию выполняет каждый из этих факторов в целом произведенияна каких уровнях структуры целого разрушается романная традиция, а какие являются ее проводниками.
Во фрагменте и целом текста человек, выражающий себя в слове, представлен по-разному. А поскольку для постсимволистской литературы «характерен отказ от представлений о языковых связях как воплощенной реальности и представление о языковой семантической системе как структуре мира"109, то в центре нашего внимания оказывается вопрос о характере миромоделирования, свойственном человеку, получившему право творения словом. «Книга» Б. Пильняка и незавершенный роман А. Ганина нас интересуют прежде всего с этой стороны. Как выстраивается мифопоэтика данных произведений, как являет себя единый во множестве, объект изображения и субъект высказывания в данных произведениях — человек-слово-мир?
И, наконец, обращаясь к произведениям нероманного жанра (драматической пародии М. Булгакова «Багровый остров», повести «Котлован», «организационно-философским очеркам» «Че-Че-О» А. Платонова и роману К. Вагинова «Козлиная песнь», который тоже можно воспринимать в качестве неромана, если отталкиваться от заданного ему в наименовании обозначения — трагедия), мы ставим вопрос о способах проявления личностного начала в художественном тексте, без чего, как известно, невозможен полноценный творческий процесс. Именно во второй половине 1920;х годов, когда создавались данные произведения, литература «находилась под сильным нажимом» складывающегося канона, названного впоследствии соцреализмом, и писатель был скован в своей творческой деятельности «иерархией жанров с традиционным реалистическим романом на первом месте"110. Не случайно, выступая на расширенном пленуме Оргкомитета ССП в 1932 году, М. Пришвин говорил: «Ведь у нас <.> маленькие рассказы прекратили писать <.> Теперь явилась литература романа. Роман — легче, чем очерк. Чтобы написать очерк, нужно проработать материал, а для романа не нужно <.> Чем бездарнее человек — тем легче написать роман. Укажите любого человека на улице — я его научу писать роман"111. А Б. Пильняк в начале 1930;х годов «.более или менее попытается уклониться от выполнения норм соцреализма. Примером этого может служить компромисс между соответствующих нормам сфер изображения и подрывной симуляции выполнения норм в сценарии «Каждую весну по новому цветет земля». Нормовые компромиссы наблюдаются и в употреблении структур романа воспитания пролетарского героя в «Соляном амбаре» «112. Очевидно, подобное же стремление защитить индивидуально-неповторимый голос художника, закономерно проявляющийся в его творении, руководило Е. Замятиным, когда в статье о Герберте Уэллсе он высказал парадоксальную мысль: «. всякий эпос в той или иной мере лиричен."113. Вопрос о способах авторской (личностной) проявленности в литературе второй половины 1920;х годов нам представляется важным еще и потому, что он позволяет уяснить логику динамики субъектных форм в литературном процессе второго десятилетия в целом. Востребованный художественным сознанием начала 1920;х годов роман привел к появлению целой романной литературы. Но, исследуя произведения, созданные на границе романного жанра и произведения нероманные, мы можем уяснить, что и в их субъектной структуре проявилась тенденция, свойственная романной жанровой модели. В. П. Скобелев, опираясь на мысль М. М. Бахтина о «приватности» как об одном из основополагающих признаков и принципов романа, формулирует: «Роман начинается, когда человек идет через ощущение собственной «самости» к чувству личности"114. Выделенные нами в историко-литературном процессе 1920;х годов произведения как раз и обнаруживают эту динамику: от «ощущения самости» — к «чувству личности».
Категорию субъектности мы рассматриваем как адекват личностной воплощенности. Процессу самоопределения человека в истории соответствовал процесс самоопределения в слове. Текст русской литературы 1920;х годов акцентирует внимание на человеке пишущем и человеке рассказывающем. Поэтому такие эстетические категории, как «слово», «сюжет», «жанр», «литературный род» оказываются предметом оперирования данного человека. Как рассказывающий и пишущий субъекты владеют данными категориями, как функционально проявляют себя слово, сюжет, жанр и род в структуре фрагмента и в структуре целого — вот круг вопросов, которые мы решаем в данной работе. Она является опытом системно-субъектного прочтения текстов, выбор которых был обусловлен стремлением представить 1920;е годы как некое эстетическое единство, в основу которого положена идея функционирования конструктивного фактора, обеспечивающего динамику литературной жизни и формирование динамической целостности отдельного произведения.
Мы сформулировали круг проблем, которые будут рассмотрены в работе. Теперь необходимо оговорить ее методологическую базу. Отправным для нас является системно-субъектный подход к художественному тексту, разработанный Б. О. Корманом. Генеральным для этого подхода оказывается понятие «субъект», или носитель сознания. Художественное произведение мыслится, как эстетически-организованная система, каждый элемент которой (слово, образ, время-пространство, сюжет, жанр, род) выстраивается, согласно сознанию организующего его субъекта речи. Автор рассматривается в качестве системного субъекта сознания115. Данный подход к художественному тексту, формировавшийся в 1960—70-е годы генетически связан с культурной эпохой 1920;х годов, когда на основе философского и художественного опыта предшествующей эпохи — серебряного века — филологическая наука выявила новый объект исследования — сознание человека, явленное в качестве Слова (художественного произведения). Понятие «субъект» использует М. М. Бахтин в своей книге о Достоевском, первое издание которой, как известно, было осуществлено в 1928 г. Именно это понятие лежит в основе сформулированного ученым представления о разработанной Достоевским форме полифонического романа. Позднее, размышляя о своеобразии романного слова, он введет понятие «речевой жанр», также опирающееся на представления о субъекте (носителе) речи. Философско-филологическая концепция М. М. Бахтина, рассматривавшего слово как смысл, опиралась на представления о языке, содержащееся в трудах А. А. Потебни. В работе «Мысль и язык», переиздававшейся в 1922 и 1926 годах, ученый, как известно, трактует слово аналогично художественному творчеству: «.язык есть столько же деятельность, сколько и произведение"116. Эта параллель позволила исследователю выделить двух равноправных субъектов языкового творчества — автора речевого акта и слушающего: «Искусство есть язык художника, и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусствапоэтому содержание этого последнего развивается уже не в художнике, а в понимающем"117. Произведение, таким образом, оказывается местом, где встречаются «свое» и «чужое» слово.
Мысль А. А. Потебни о том, что «.дух без языка невозможен, потому что сам образуется при помощи языка, и язык в нем есть первое по времени событие"118, оказывается продуктивной для русской религиозно-христианской философии, раскрывающей онтологическую природу слова. Причем здесь важной тоже оказывается идея всеобщей диалогической связанности: «Словам научает человека не антропоморфизиро-ванный Бог, но Богом созданный мир, онтологическим центром коего является человек, к нему притянуты, в нем звучат струны всего мироздания"119 .
Слово, понимаемое в качестве смысла (Jjoyog), позволяет рассматривать человека, им оперирующего, как субъект творческой деятельности. А поскольку смысл многомерен, то и философия, и филология начала XX века представляют слово многослойным явлением, содержащим разнокачественные параметры смысла. В работах П. А. Флоренского, протоиерея Сергия Булгакова, А. Ф. Лосева дифференцируются внешняя и внутренняя формы слова, его значение и смысл120. В работах В. В. Виноградова, Ю. Н. Тынянова, М.М.Бахтина121 художественное произведение рассматривается как эстетически организованная структура, как динамически развивающаяся конструкция, а автор — как семантико-сти-листический центр, как словесно-речевая структура произведения. Поскольку слово (произведение) видится неоднозначным, то и человек, раскрывающийся в слове осмысляется многомерным. Л. Карсавин выделяет понятия «индивидуальной личности» и «симфонической личности», рассуждает о взаимосвязи таких параметров личности как «совершенство» и «несовершенство"122. И, наконец, речевая деятельность рассматривается М. Хайдеггером как способ бытия-в-мире123.
Данные посылки и определяют методологическую базу нашей работы. Системно-субъектный подход к материалу не является единственным, а сочетается с культурологическим, интертекстуальным, типологическим, лингвосемантическим, однако данные интерпретаторские стратегии подключаются лишь по мере необходимости.
До определенной степени именно подходом к материалу и определяется научная новизна работы. В философской и филологической мысли 1920;х годов мы использовали тот срез смысла, который оказался абсолютно адекватным предмету изучения — художественным текстам с проявленной металитературной установкой. Идеи, разработанные в области философии слова, мы интегрировали в область литературоведческого анализа и продемонстрировали возможную методику их приложения к анализу художественного текста. Литературоведческие категории «слово», «сюжет», «жанр», «род» рассмотрены нами сквозь призму субъектности. Мы не только описали те субъекты, которые организуют слово, сюжет, жанр и род в выбранных для анализа текстах, но — что самое главное — показали, как пишущий и говорящий человек самоопределяются в слове, как сюжетное и жанровое мышление становится для них новым языком самовыражения и способом утвердиться в бытии. Освоение человеком Слова представлено нами как новый, не прописанный пока еще сюжет русской литературы 1920;х годов. В историко-литературном отношении новизна работы определяется тем, что в сферу научного анализа введены романы С. 3.Федорченко «Народ на войне», А. Ганина «Завтра», Б. Пильняка «Машины и волки», а также получен нетрадиционный результат прочтения цикла рассказов И. Бабеля «Конармия», произведений А. Платонова «Котлован» и «Че-Че-О», пародии М. Булгакова «Багровый остров».
Научная новизна позволяет определить и параметры использования работы. Она может применяться в практике вузовского изучения литературы: в общих курсах по теории литературы и истории русской литературы XX века, в спецкурсах по методике анализа художественного текста, по поэтике русской прозы 1920;х годов, а также в практике изучения литературы в лицейских и гимназических гуманитарных классах.
Диссертация состоит из настоящего введения, трех частей, заключения и библиографии, насчитывающей 521 название. Каждая часть, в свою очередь, включает по несколько глав.
В первой части «Сказовый рассказчик и романный автор: принципы взаимодействия малой и большой жанровых форм в прозе конца 1910;х — начала 192 0-х годов» речь пойдет о характере языкового и жанрового мышления различных субъектов речи и сознания, организующих целое произведения из речевых фрагментов. В первой главе здесь проанализирована книга С. 3.Федорченко «Народ на войне», спроецированная на логику литературного процесса конца 1910;х — начала 20-х годов. Во второй главе исследуются жанрообразующая функция слова и сюжета в цикле рассказов И. Э. Бабеля «Конармия». Выбор этих текстов обусловлен тем, что именно они, на наш взгляд, продемонстрировали возрождение романной формы в прозе 192 0-х годов на основе использования традиций психологической прозы, которые проявлены в конструкции целого, и обновления субъектной организации произведения, которая представлена фрагментом.
Вторая часть работы «Слово как способ самосознания в мифопоэти-ческой прозе» представляет соответственно в двух главах романы А. Ганина «Завтра» и Б. Пильняка «Машины и волки». Здесь также анализируется двойственная природа автора (свой—чужой) и описывается спродуцированный ею мифопоэтический сюжет слово-миро-и-самосотво-рения. Выбор этих произведений позволяет показать, как в 1920;е годы перестраивалась усвоенная прозой символистская романная традиция.
В третьей части диссертации «Формы авторского присутствия и их семантика в художественных текстах второй половины 192 0-х годов» в трех главах: «Категория жанра в „Багровом острове“ Михаила Булгакова», «О лирических свойствах прозы Андрея Платонова», «Принципы организации поэтического языка и функция жанровой модели архаической трагедии в романе Константина Вагинова «Козлиная Песнь» «— поставлен вопрос о том, как романное мышление, освоенное литературой в 1920;е годы, проявляется в нероманных жанрах второй половины десятилетия, как изменяется здесь функция автора, организующего целое текста своей точкой зрения, проявленной в характере оперирования словом и жанром.
В заключении сделаны выводы и сформулирован собственно-литературоведческий и общегуманитарный смысл проведенного исследования, открывающий дальнейшие перспективы в изучении данной темы.
Примечания.
1 Белая Г. А. Закономерности стилевого развития советской прозы. М., 1977. С. 239.
2 Т ам же.
3 Здесь в первую очередь стоит упомянуть сборники статей под серийным названием «Мастера современной литературы», опубликованные под редакцией Б. В. Казанского и Ю. Н. Тынянова, сделанные по образцу коллективной монографии, в которых — что, на наш взгляд, очень важно — целостно описывалась структура художественного мышления писателя (См.: М. Зощенко: Статьи и материалы. JT., 1928; Борис Пильняк: Статьи и материалы. JT., 1928; И. Бабель: Статьи и материалы. JT., 1928). Вопросы художественного мастерства в 1920;е годы обсуждались повсеместно. Ими была занята опоязовская критика и критика «Перевала», они возникали в выступлениях представителей социологического метода в литературоведении и рапповской критики. Сумма представлений о качествах поэтики новой литературы, накопленных критикой и литературоведением в этот период, позволила в дальнейшем сформулировать понятие релятивистской эстетики, приложимой к культуре слова XX века в целом.
4 Грознова Н. Ранняя советская проза. 1917—1925. Л., 1976; Скобелев В. П. О народном характере в прозе А. Платонова 20-х годов // Творчество А. Платонова: Статьи и сообщения. Воронеж, 1970. С. 56—74- он же. Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов (к проблеме народного характера). Воронеж, 1975; Кургинян М. Человек в истории XX века. М., 1989.
5 Кожевникова Н. А. Пути развития сказа в русской литературе XIX— XX веков // Синтаксис текста. М., 1979. С. 276—298- Мущенко Е. Г., Скобелев В. П., КройчикЛ.Е. Поэтика сказа. Воронеж, 1978; Проблемы стиля и жанра в советской литературе: К вопросу о сказовой форме. Свердловск, 1974. Сб. 5.
6 Бузник В. В. Русская советская проза 20-х годов. Л., 1975; Ско-роспелова Е. Русская советская проза 20—30-х годов: судьбы романа. М., 1985; Скобелев В. П. Поэтика русского романа 1920—1930;х годов: Очерки истории и теории жанра. Самара, 2001; Советский роман: Новаторство. Поэтика. Типология. М., 1978; Хабин В. Рождение русского советского романа. Варшава, 1980.
7 Великая Н. Советская проза 20-х годов: Формирование эпического сознания и проблема повествования: Учеб. пособие. Владивосток, 1972; Гладковская Л. Рождение эпопеи «Железный поток» А. С. Серафимовича. М.- Л., 1963. ¦
8 См. сборники научных статей «Проблемы стиля и жанра в советской литературе» (Свердловск, 1974) — Скобелев В. П. Слово далекое и близкое: народ-герой-жанр. Самара, 1991.
9 Др, а г омир е цк, а я Н. В. Стилевые искания в ранней советской прозе // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении: Стиль. Произведение. Литературное развитие. М., 1965. С. 123—172- Белая Г. А. Проблемы активности стиля: К исследованию исторической продуктивности стилей 20-х годов // Смена литературных стилей: На материале литературы XIX—XX вв. М., 1974. С. 129—153- она же. Закономерности стилевого развития советской прозы. М., 1977; Кожевникова Н. А. Отражение функциональных стилей в советской прозе // Вопросы языка современной русской литературы. М., 1971. С. 93—117.
10 См., например: Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979; Исаак Бабель в современном прочтении // НЛО. 1993. № 4. С. 197—242- Мефри А. Б. Стиль Исаака Бабеля // Обзор славянского языка. 1977. Т. 44. С. 361—380.
11 Особо следует обратить в этом плане на труды, идущие под рубрикой «XX век.
Литература
Стиль" (Екатеринбург, 1994—1999).
12 См., например: Кобринский А. Проза А. Платонова и Д. Хармса: К проблеме порождения алогичного художественного мира // Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж, 1994. Вып. 3. С. 82—94- Малыгина Н. М. Эстетические принципы авангарда в художественной системе Андрея Платонова // Русская литература XX века: Направления и течения. Екатеринбург, 1995. Вып. 2. С. 68—75- Нойхаузер Р. Авангард и авангардизм: По материалам русской литературы // Вопросы литературы. 1992. Вып. 3.
Смирнов И. П. Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.
14 Гройс Г. Утопия и обмен. М., 1993; Чудакова М. О. Судьба «самоотчета-исповеди» в литературе советского времени (1920;е — конец 1930;х годов) // Поэтика. История, литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М., 1999. С. 340. См. также: Чудакова М. О. Судьба «самоотчета-исповеди» в литературе советского времени (1920;е — конец 1930;х годов) // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сборник к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М., 1999. С. 340. См. также: Чудакова М. О. Опыт историко-социологического анализа художественных текстов (на материале литературной позиции писателей-прозаиков первых революционных лет // Чтение: Проблемы и разработки. М., 1985. С. 112— 113- она же. Русская литература XX века: проблема границ предмета изучения // Проблемы границы в культуре: Studia Russica Helsinquensia et Tartuensia. Tartu, 1998. C. 206. См. также о явлении самоцензуры как о модели социального поведения писателя, описанном в ст.: Чудакова М.О.
Сквозь звезды к терниям // Новый мир. 1990. № 4. С. 242—262.
15 См.: Парадоксы русской литературы. С.-Пб., 2001; Тюпа В. И. Постсимволизм: Теоретические очероки русской поэзии XX века. Самара, 1998; Лейдерман Н. Л. Теоретические проблемы изучения русской литературы XX века // Русская литература XX века. Екатеринбург, 1992. Вып. 1. см. об этом: Иванов В. Вс. О взаимодействии символизма, предсим-волизма и постсимволизма в русской литературе и культуре конца XIX — начала XX века // Литературный процесс и развитие русской культуры XVIII— XX вв. Таллин, 1985. С. 10—13- он же. О воздействии «эстетического эксперимента» Андрея Белого (В.Хлебников, В. Маяковский, М. Цветаева, Б. Пастернак) // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 338—366- Тюпа В. И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии XX бека. Самара, 1998; Дзуцева Н. В. Время Заветов: Очерки поэтики и эстетики постсимволизма. Иваново, 1999.
I7 Иванов Вяч. О секте и догмате // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 197. то ли мы еще видели.": Из дневников Лидии Гинзбург // Лит. газета. 1993. 13 окт. С. 6.
Силард Л. Поэтика символистского романа конца XIX — начала XX веков // Проблемы поэтики русского реализма XIX века. Л., 1984. С. 265— 284- Иль ев С. П. Русский символистский роман: Аспекты поэтики. Киев, 1991; Барковская Н. В. Поэтика символистского романа. Екатеринбург, 1996.
Барковская Н. В. Указ. раб. С. 4.
21 т ам же .
22 Там же. С. 282. Там же.
24 Иванов Вяч. Заветы символизма //.Иванов Вяч. Указ. раб. С. 184. Т ам же .,.
26 Т ам же. С. 190.
27 Белый А. Между двух революций. М., 1990. С. 435.
28 Блок А. Соч.: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 679.
29 Там же. Т. 2. С. 260—261.
30 Там же. С. 261—262.
31 Ильев С. П. Указ. раб. С. 162.
32 См. указанную работу Н. В. Барковской.
33 Иванов В.Вс. О взаимоотношении символизма, предсимволизма и постсимволизма в русской литературе и культуре конца XIX — начала XX века. С. 11.
34 Бахтин М. М. Слово в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 144.
Барковская Н. В. Указ. раб. С. 6. долгополов JI. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988.
С. 85.
37 Бахтин М. М. Указ. раб. С. 82.
38 о функциях «будничного» слова у И. Анненского см.: Мусатов В. В. К истории одного спора (Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский) // Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1991. С. 31. Быт не был для символистов запретной темой. Но в символизме и постсимволизме проза-измы, с помощью которых изображается бытовая тематика, функционально разграничиваются. На это очень точно указал Л. Долгополов: «.поэтика „бытовых“ стихотворений Белого будет широко использована Пастернаком, который, однако, лишит их драматизма, но увидит в самом „быте“ скрытую значительность и даже величие» (Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». С. 124).
Это, как известно, отмечено исследователями стиха уже в десятые годы. См.: Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 109- Недоброво В. Анна Ахматова // Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой. М., 1989. С. 238— 241.
40 см> 0б этом: Дуганов Р. В. Велимир Хлебников: Природа творчества. М., 1990. С. 133—152.
41 Тынянов Ю. Н. Промежуток // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 168.
42 Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня // Тынянов Ю. Н. Указ. раб. С. 151.
43 Тынянов Ю. Н. Промежуток // Тынянов Ю. Н. Указ. раб. С. 168.
44 Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня // Тынянов Ю. Н. Указ. раб. С. 151.
45 Т ам же. С. 150.
Полонский Вяч. О литературе: Избр. раб. М. 1988. С. 403. 47 Т ам же .
Тынянов Ю. Н. Промежуток. С. 168. Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня. С. 151.
50 Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 203—204.
51 Там же. С. 204.
52 о нарушении традиционных эстетических правил организации слова гра-фоманствующего рассказчика, изображенного Ф. М. Достоевским, см.: Смирнов И. П. Преодоление литературы в «Братьях Карамазовых» и их идейные источники // Die Welt der Slaven XLI. 1996. С. 275—298- Зверева Т. В. Проблема слова и структура романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Ижевск, 1998. нов он тем, что первый из всех поэтов он настоял на праве поэта быть искренним до вульгарности <.> Его вульгарность является таковой только для людей книги. Когда он хочет «восторженно славить рейхстаг и Бастилию, кокотку и схимника, порывность и сон», люди газеты не видят в этом ничего неестественного <.> Пусть за всеми «новаторскими» мнениями Игоря Северянина слышен твердый голос Козьмы Пруткова, но ведь для людей газеты и Козьма Прутков нисколько не комичен <.> Многих такие стихи трогают до слез, а то, что они стоят вне искусства своей дешевой популярностью, это не важно. Для того-то и основан вселенский эго-футуризм, чтобы расширить границы искусства" (Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 171—172) .
54 Т ам же. С. 172.
Об изменении функций поэтического слова и принципов его оценки в литературно-эволюционном процессе см.: Гинзбург Л. О лирике. Л., 1974; Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., 1977.
Крученых А. Заумный язык Сейфуллиной, Вс. Иванова, Леонова, Бабеля, А. Веселого и др. М., 1925. С. 5—12.
57 Там же. С. 15.
5^ Там же. С. 28.
59 т ам же. С. 53.
60 Т ам же. С. 40.
61 Т ам же .
62 Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка // Тынянов Ю. Н. Литературный факт. М., 1993. С. 46—54.
Тынянов Ю. Н. Промежуток. С. 168.
64 Вейдле В. Петербургская поэтика // Вопросы литературы. 1990. № 7. С. 115.
65 мущенко Е.Г., Скобелев В. П., Кройчик Л. Е. Поэтика сказа. Воронеж, 1978. С. 8—9.
66 Там же. С. 9. '.
Рыбаков Н. Поэтика сказа // Некоторые вопросы русской литературы XX века: Сб. трудов МГПИ. М., 1973. С. 252. Сильман Т. Заметки о лирике. Л., 1977. С. 6.
69 Там же.
70 Виноградов В. В. Язык Зощенко (Заметки о лексике) // Мастера современной литературы. М. Зощенко: Статьи и материалы / Под ред. Б. В. Казанского, Ю. Н. Тынянова. Л., 1928. С. 81.
71 Зощенко М. Рассказы и повести. Л., 1959. С. 41.
72 Каргашин И. А. Сказ в русской литературе. Калуга. 1996. С. 31—32.
73 Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня. С. 160.
74 Шкловский В. Указ. раб. С. 34.
Здесь мы должны возразить И. А. Каргашину, утверждающему, что «рассказываемое событие» «организовано эпическим способом: герой рассказывает о том, что было, о совершившемся ранее» (Каргашин И. А. Указ. раб. С. 35.). В самом рассказе не важна использованная форма глагольного времени, важно, что у героя не возникает эпического отношения к изображаемому. Этим и определяется перевод события в план драматического монолога, организованного рассказчиком.
Шкловский В. О Зощенко и большой литературе // Мастера современной литературы. С. 22.
77 Анализ подобной модели лирического цикла см., напр.: Серова М. В. Поэтика лирических циклов в творчестве Марины Цветаевой. Ижевск, 1997. С. 11—54.
78 О диалектике соотношения части и целого в цикле см.: Дарвин М. Н. Проблема цикла в изучении лирики. Кемерово, 1983. С. 13—14.
79 Гинзбург Л. Я. К постановке проблемы реализма в пушкинской литературе // Пушкинский временник. 2. М.- Л., 193 6. С. 398.
Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня. С. 150.
Виноградов В. В. Избр. труды. Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 247.
82 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 256— 257 .
Смирнов И. П. Бытие и творчество. Marburg, 1990. С. 20.
84 Подтверждая эту мысль, лучше всего сослаться на замечание М. Чуда-ковой: «Зощенко стремился воссоздать те словесные формы, .в которых должна была воплотиться „ураганная идеология“ революционных слоев, если бы она искала себе адекватного воплощения» (Чудакова М. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979. С. 65) .
85 Н. Корниенко справедливо замечает, что в платоновском тексте «велика функциональная нагрузка сцен познания человеком мира и себя в мире» (Корниенко Н. Жанровое своеобразие повести Платонова // Взаимодействие метода, стиля и жанра в советской литературе. Свердловск, 1988. С. 77.
8^ См.: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975. С. 447—483.
87 Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л., С. 150.
88 о типе художника в авангардном искусстве см.: Г рой с Б. Утопия и обмен. М., 1993. С. 20—32- Смирнов И. П. Бытие и творчество. С. 19— 28- он же. Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994. С. 181—230.
89 См.: Блок А. Интеллигенция и революция. Крушение гуманизма // Блок А. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 218—228, 305—327- Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1918. С. 26—27.
90 См. об образе пролеткультовского художника и о задачах пролеткультовского искусства: Богданов А. Искусство и рабочий класс. М., 1918.
91 Протоиерей Сергий Булгаков. Философия имени. Изд-во «КаИр», 1997. С. 32.
92 см. об этом: — Г рой с Б. Утопия и обмен. С. 30—74.
Чудакова М. О. Указ. работы.
А.Блок, например, по этому поводу писал: «Цивилизовать массу не только невозможно, но и не нужно. Если мы. будем говорить о приобщении человечества к культуре (курсив автора. — Е.П.), то неизвестно еще, кто кого будет приобщать с большим правом: цивилизованные люди — варваров или наобороттак как цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурную ценностьв такие времена бессознательными хранителями культуры оказываются более свежие варварские массы» (Блок А. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 311—312).
95 Полонский Вяч. Указ. раб. С. 4 03.
96 Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 2 61.
97 Там же. С. 270.
98 Там же. С. 257.
99 Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 277.
ЮО Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня. С. 150.
101 Там же. С. 151.
Ю2 Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции. С. 273.
ЮЗ Лейдерман Н. Л. Движение времени и законы жанра: Жанровые закономерности развития советской прозы в 60—70-е годы. Свердловск, 1982. С. 31.
Ю4 На данную возможность востребованного литературой начала 1920;х годов романного мышления указал В. П. Скобелев: «Настойчивое стремление целого ряда прозаиков той поры именно к „романному“ способу художественного мышления определялось как особенностями переживаемой эпохи, так и потребностями собственно-эстетического сознания. Чем более зыбкой, социально-изменчивой, неустойчивой становилась эмпирическая действительность, тем острее, тем насущнее ощущалась эстетическая потребность в широкомасштабном осмыслении ее — в создании той художественной концепции, которая бы, так сказать, собрала разрозненные, внешне не всегда связанные между собой факты в рамки единого, внутренне целостного художественного мировосприятия» (Скобелев В. П. Слово далекое и близкое: Народ—герой— жанр. Самара, 1991. С. 265).
Ю5 рымарь Н. Т. Хаос и космос в структуре романного мышления // Динамика культуры и художественного сознания (философия, музыковедение, литературоведение). Самара, 2001. С. 71.
Ю6 Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избр. раб. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 415.
107 Там же. С. 420.
Ю®О семантической функции монтажа в литературе 20-х годов написано немало. Следует лишь отметить в свете наших рассуждений, что монтажная композиция выполняет одновременно две функции в тексте — эпическую (раздвигает рамки малых жанров, а, с точки зрения Ю. Н. Тынянова, «величина конструкции» — вполне достаточное условие жанрообразования) и лирическую (в основе монтажной композиции лежит фактор ритма). лотман Ю. М. Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы структурного изучения текста // Труды по знаковым системам. IV. Тарту, 1969. С. 209.
11® Кассек Д. Сборник Б. Пильняка «Рождение человека» (о малой прозе 30-х годов) // Б. А. Пильняк: Исследования и материалы. Коломна, 1997. Вып. II. С. 61.
HI Цит. по коммент. Е. А. Тоддеса, А. П. Чудакова, М. О. Чудаковой к ст.: Тынянов Ю. Н. Литературный факт. С. 514—515.
112 Кассек Д. Указ. раб. С. 61.
113 Замятин Е. И. Избр. произведения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 311.
Скобелев В. П. Поэтика русского романа 1920—1930;х годов: Очерки истории жанра. Самара, 2001. С. 7.
См.: Корман Б. О. Заметки о проблеме автора // Проблема автора в художественной литературе. Воронеж, 1972; он же. Избр. труды по теории и истории литературы / Предисл. и сост. В. И. Чулкова. Ижевск, 1992; он же. Изучение текста художественного произведения. М., 1972; он же. История и теория в книге о лирике // Проблема автора в художественной литературе. Ижевск, 1974; он же. Итоги и перспективы изучения проблемы автора // Страницы истории русской литературы. М., 1971; он же. Лирика и реализм. Иркутск, 1986; он же. Лирика Некрасова. Воронеж, 1964 (2-е изд. Ижевск, 1978) — он же. Литературоведческие термины по проблеме автора: В помощь студенту-заочнику, специализирующемуся по литературе. Ижевск, 1982; он же. Практикум по изучению художественного произведения. Ижевск, 1977; он же. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов // Проблемы истории критики и поэтики реализма. Куйбышев, 1981. С. 39—54.
116 потебня А. А. Эстетика словесного творчества. М., 1976. С. 57.
117 Там же. С. 181.
118 Там же. С. 69.
И9 Протоиерей Сергий Булгаков. Указ. раб. С. 42.
120 См.: Протоиерей Сергий Булгаков. Указ. раб.- Флоренский П. А.
У водоразделов мысли. М., 1990; Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993.
121 Бахтин М. М. Указ. работыВиноградов В. В. Проблема образа автора в художественной литературе // Виноградов В. В. О теории художественной речи. М., 1971. С. 105—211- Тынянов Ю. Н. Указ. работы.
122 Карсавин Л. О Личности // Карсаван Н. Религиозно-философские сочинения. М., 1992. Т. 1. С. 3—232.
123 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
ЧАСТЬ I.
СКАЗОВЫЙ РАССКАЗЧИК И РОМАННЫЙ АВТОР: ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОЙ И БОЛЬШОЙ ЖАНРОВЫХ ФОРМ В ПРОЗЕ КОНЦА 1910;Х — НАЧАЛА 192 0-Х ГОДОВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Написанная работа является опытом филологического прочтения тех идей о слове, которые были выработаны философским и художественным сознанием начала XX века и воплотились в художественном тексте 1920;х годов.
Литература
этого периода предстала в книге как область самосознания человека, народа и самой литературы1. Из всего обилия текстов, созданных в данную эпоху, мы выбрали такие, которые свидетельствуют о феноменологической природе художественного творчества и раскрывают его как способ бытия-в-мире2. Данную природу творческого акта прозрели и актуализировали символисты. Она стала способом их жизни в искусстве. Постсимволистская литература пошла дальше по пути художественного познания самой природы творчества и сделала феноменологическую сущность последнего объектом своего изображения. Именно поэтому в литературном процессе 1920;х годов так явственно качество металитературности. Металитератур-ность стала формой существования литературы и проявлялась не только в текстах, организованных традиционным книжным автором, но и в текстах, где авторство осваивалось как новый, не опробованный пока еще человеком способ проявленности в мире. Эпоха войн и революций приковала внимание художников к человеку в его социально-историческом и психологическом опыте. Но у литературы оказался еще один специфический, востребованный именно данной культурной эпохой объект художественного изображения, — человек в его слове. Такой ракурс зрения на слово как на адекват творящей личности, как на аналог человека пишущего подготовила несколько ранее наука о языке. И очевидно не случайно работа А. А. Потебни «Мысль и язык» с ее идеей, активно использованной в начале XX века и художниками, и филологами: «.искусство то же творчество в том самом смысле, в каком и слово"3, — дважды переиздавалась в 20-е годы. Слово как «орган мысли и непременное условие всего позднейшего понимания мира и себя"4 стало объектом внимания философии в эту эпоху. Русская религиозко-христианская филесофия о смыслила феноменологическую ¦¦ и софий- ^ w ную природу человека, явленного в слове, а. само-слово описала как многомерную. категорию:/, сущность которой извлекается?- из внешней и внутренней формы, слагается из значения и смысла. Сложность самого объекта осмысления — слова — обусловила и неоднозначный взгляд на того, кому оно принадлежит, кто им владеет. Потому закономерным в 1920;е годы оказалось формулирование категорий «автор» и «авторство», осуществленное параллельно в философии, и в филологической науке. Художественная литература этого времени превращает категорию «автор» в объект изображения, чем демонстрирует кризисное, переходное свое состояние, вылившееся в событие саморефлексии. Все перечисленные факторы явились предпосылкой поставленной в работе проблемы субъектности в литературе 1920;х годов.
Второе десятилетие XX века рассмотрено нами как целостная, динамичная эпоха культурного развития, на разных этапах которой литература решала необходимые, определяющиеся потребностями саморегуляции, задачи. Научная мысль давно пришла к выводу о том, что структурообразующим фактором этой эпохи стало движение к эпосу, закономерно повышающее художественный статус прозаических жанров. Начавшийся в первой половине десятилетия процесс самоопределения прозы был связан не только с обращенностью искусства слова к социально-исторической проблематике, диктуемой эпохой войн и революций, и к новому типу автора, спродуцированного этим временем, но — что самое главное для литературы — необходимостью восстановить жанрово-родовой баланс, разрушенный в предшествующую эпоху. Чтобы обрести жанрово-родовую адекватность, прозе нужно было не только освоить тематику, заданную конкретикой исторического времени, но и воплотить ее в свойственном прозаическим жанрам художественном языке. Проблема состояла в том, что язык этот к началу 1920;х годов был утрачен. На рубеже XIX—XX вв.еков, высвободив себя из-под власти «служилых» функций, литературное слово за короткий промежуток времени (с 1890-х по 1910;е годы) поменяло свою сущность. Из знака мира оно превратилось в знак знака. Его ценность определялась пре y имущественно реальностью. .литературного дискурса. Поэтому. по еле дую: щая. литературная эпоха,-, стала. реакцией на эту. тенденцию. С одной стороны, она закрепила, укоренила и развила ее в формах авангардного искусства и искусства, обслуживающего власть, с другой — начала искать способы возвращения слову референциального статуса, о необходимости которого одним из первых заговорил А. Блок в статье «О современном состоянии русского символизма». Но это возвращение происходило в других условиях, когда на авторские права стал претендовать человек, до того момента находившийся в состоянии дословности, и когда Автор в общественном сознании утрачивал самоценность и превращался, наравне со всеми, в «трамвайную вишенку страшной поры». Таким образом, общеэстетическая задача данной литературной эпохи (возвращения слову референциального статуса) накладывалась на еще одну проблему — способа жизни человека в слове как в знаке. Субъекту, пребывавшему до того в состоянии патриархальности и дословности, предстояло освоить реальность языка, подобно тому, как он осваивал социально-историческую реальность. Процесс самоопределения в слове как в мире (ибо слово стремилось в данную эпоху стать знаком мира) мы выделили в особый сюжет, разработанный прозаическими жанрами 1920;х годов. Сам по себе этот сюжет содержит романный потенциал, ибо моделирует речевую биографию человека, детерминированную его социальным статусом и духовными возможностями.
Роман оказался «культурным заказом» эпохи начала 1920;х годов. Будучи самым репрезентативным прозаическим жанром, он мог удовлетворить ее потребность в эпическом отражении мира. Однако мы обратились к таким произведениям, в которых скорее проявилось романное мышление, чем воплотился романный жанровый канон. Это позволило нам проследить некоторые пути становления романного сознания и романной прозы.
Достаточно перспективным, на наш взгляд, явился опыт С. 3.Федорченко и И. Э. Бабеля. Тема войны, к изображению которой они обратились, сама по себе содержала эпический потенциал и придавала их прозе эпический: — размах. Это проявилось в характере жанрового мышления писателей, воплощавших эту тему: Федорченко не ограничилась, созданием одной-книги, а Бабель — написанием разрозненных рассказов. Однако, нам важно, что использованная писателями большая жанровая форма позволила им решить проблему «романного» слова, организующего повествование. Язык в произведениях И. Бабеля и С. Федорченко представляет собой социально-разнородную систему языков. Но не это главное. Новым «романообразующим» фактором их произведений оказывается речевой субъект, организующий повествование, способный выстроить иерархию языков и самоопределиться в ней. В результате в книге С. 3.Федорченко субъект лишь формально является анонимным сказовым рассказчиком. По существу его слово романно, ибо в нем осуществляется акт самосознания. Это слово заряжено исходной аналитической установкой, с которой субъект подходит к книжному и устно-поэтическому языку, внутри которых самоопределяется. В цикле рассказов И. Э. Бабеля Лютов, формирующийся в качестве писателя, тоже оказывается в ситуации речевого выбора. Ему приходится столкнуться с имперсональными языками национально-религиозного коллектива и переживающего процесс политизации общинного коллектива. Эти языки проникают в сферу его речи. Но он выбирает личностный язык художественного творчества и воплощается на этом языке в акте самосотворения. Сказовый рассказчик организует в произведениях С. 3.Федорченко и И. Э. Бабеля малые жанры — фрагмент, рассказ. Трехтомное повествование о трех войнах (империалистической, классовой и братоубийственной), которое осуществила С. 3.Федорченко, и цикл рассказов И. Э. Бабеля (т. е. большая жанровая форма) востребовали и другой тип повествователя. Его можно назвать «романным автором», ибо в характере организации целого он использует модель социально-психологического романа, по которой выстраивает большую жанровую форму. Он на языке конструкции, названий частей, глав, рассказов, из которых состоит большая жанровая форма, организует повествование о сказовом речевом субъекте, который переживает процесс обретения слова, а через это — себя в мире.
Данный опыт формирования романной модели из фрагментов оказы— ваетоя не единственным в начале 1920;х. годов. Есть другая ветвь повествовательной прозы, которая наследует традиции мифопоэти-ческой романной структуры, разработаннойсимволистами. К таковым можно отнести произведения А. Ганина «Завтра» и Б. Пильняка «Машины и волки». Но если поэтика символистского романа выстраивается на основе идеи разрушения сложившегося жанрового канона, то художественный мир этих произведений уже оказывается диалогически настроенным по отношению к самой символистской деструктивной традиции. Завоевания символистов они не отвергают, но, следуя им, обнаруживают стремление сформировать «романостремительные» тенденции. Эти тенденции проявляются в характере оперирования словом, которым владеет субъект повествования. Последний имеет амбивалентную природу (литератор-крестьянин, индивид-всечеловек, человек-мир). Амбивалентная природа субъекта оказывается источником мифотворчества, условием реализации идеи универсализма, к осуществлению которой стремился символистский роман. Но слово субъекта в произведениях А. Ганина и Б. Пильняка не только творит мир. Имя в произведении продуцирует романную историю. Оно становится само «героем» романной истории. Роман превращается в разворачивание содержащейся в имени метафорики. Сюжет и система образов выстраиваются таким способом, что представляют собою историю воплощения романного Имени, то есть того авторского слова, с которого начинается произведение. Слово, мыслимое в качестве Имени, предстает в эстетическом целом как организованный субъектом речи и сознания космос. Эта тенденция к тому, чтобы отразить в истории слова не распад мира, а его становление, позволяет считать произведения А. Ганина и Б. Пильняка воплощающими романную эстетику, смоделированными по образцу традиционной романной структуры, хотя и А. Ганин, и Б. Пильняк характером композиции своих произведений разрушают «романную перспективу». Оба писателя «даль свободного романа» перечеркивают фрагментарной, кускообразной структурой текста своих произведений. Текст А. Ганина — это сохранившийся отрывок романа, поделенный на маленькие главы, где описание профанируется самой изобразительной установкой —- создать не развернутое повествование, а рассказать «кое о чем», «немного»: :или^- - «несколько». Б. Пильняк все время стремится подменить романного: повествователя, поэтому его произведение превращается в своеобразную энциклопедию различных речевых жанров, которые и взрывают изнутри романный жанр. Однако исходная мифо-поэтическая установка противостоит распаду мира и распаду жанра. Слово как Имя, сюжетно организующее разнородный материал, воплощает миф о романе, что и организует космос произведения.
Вполне логичным было бы показать дальше, как воля к роману, характерная для эпохи начала 20-х годов, воплотилась в собственно-романных структурах, тем более, что к середине десятилетия «романы пришли со всех сторон» (Ю.Н.Тынянов). Но мы вновь обратились к произведениям нероманного типа, составившим в конце 1920;х годов оппозицию литературе, воплощающей нормативные установки формирующейся новой эстетики, и задались вопросом о том, что обеспечило их эстетическую и этическую репрезентативность в этот период. В поле. нашего зрения попали маргинальные произведения (например, «Багровый остров» М. Булгакова) или писатели, ощущавшие свою марги-нальность в литературной ситуации конца 1920;х годов (А.Платонов, К. Вагинов). Наш выбор определялся тем, что мы поставили перед собой не задачу описания романного жанра, способного обеспечить писателю надежное место в истории культуры, а постарались уяснить, как через произведение художник обретает (если воспользоваться хайдеггеровской формулой) бытие-в-мире.
Литература
XIX—XX вв.еков, разрушив жанровую иерархию, продуцировала такие художественные структуры, которые позволяли реализовать жизнетворческий потенциал самого искусства. М. Булгаков обнаружил этот потенциал в пародии, К. Вагинов — в форме архаической трагедии. Сделав предметом своего изображения различные модели искусства (у Булгакова это искусство народной комедии, у Вагинова — креативное, миметическое и конъюнктурное искусство), эти художники обнажают творческий и феноменологический потенциал каждой. Соответствующим образом они рассматризают результат' воплощения «художника в каждой структурной модели искусства, и приходят к выводу, что исторически существующие или социально востребованные формы искусства слова’ограничены в своих жизнетворческих возможностях. Духовно продуктивными в «Багровом острове» и «Козлиной песни» являются наджанровые структурные модели — пародия, архаическая трагедия. Именно они обеспечивают возможность субъекту, выступающему в роли автора, обрести бытие в знаковой реальности искусства как в подлинной и единственно сущ-ностно данной. Герои, выступающие в качестве субъектов творчества в этих текстах объектны для пародирующего слова автора в «Багровом острове» и вариантны для инвариантного авторского сознания в «Козлиной песни». Все они исчерпываются моделями своего искусства, их творческий потенциал ограничен эстетическими возможностями той или иной модели. Автор в качестве абсолютного творца выражается на общеродовом языке искусства, который в его воспроизведении является языком личного, а не нормативно-предписанного творчества. Каждый из героев этих произведений, представленный в качестве субъекта творчества, оперирует языком той или иной эстетической системы. Автору доступны языки любых исторически-воплощенных форм культуры, и в своей творческой деятельности он может менять функции этих языков и тем самым уводить искусство с тупикового пути, обеспечивая ему бессмертие. Для такого автора феноменологичность искусства состоит в мифологичности5.
В прозе А. Платонова, в отличие от «Багрового острова» или «Козлиной песни», человек пишущий не представлен ни персонифицированно, ни в виде языковой маски. Он существует в произведении как языковая субстанция, как языковое тело текста. Субъект повествования является носителем внеличной ценности языка и, благодаря этому, аккумулирует его многомерный смысл. Это и есть его онтология, в отличие от героев, которые присваивают, как правило, какой-то один из доступных смыслов, соответствующих их земной практике. Но и герои невольно оказываются в силовом поле космичных языковых смыслов. Тогда-то и возникает драматическое напряжение между различными, семантическими пластами, поражающее платонозского героя чувством /"тоски" от земной практики частного человеческого существования .
Самоопределение в слове — это не выбор стиля, а выработка философии существования. Тексты, созданные в 1920;е годы, предстали как тексты самосознания. В них и человек, и народ, и литература обрели свою онтологию. А поскольку «присутствие есть со-бытие"6, они априорно (в существе своем, а не в повествовательной форме) диалогичны. Они все есть Слово, обозначающее «присутствие» Автора, того человека, след которого постаралась стереть эпоха, в которую ему выпало быть художником. А «слово одинаково принадлежит и говорящему, и слушающему, а потому значение его состоит не в том, что оно имеет определенный смысл для говорящего, а в том, что оно способно иметь смысл вообще. Только в силу того, что содержание слова способно расти, слово может быть средством понимать другого"7.