Очерк четвертый СТАДИАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ДИСКУРСНЫХ ФОРМАЦИЙ
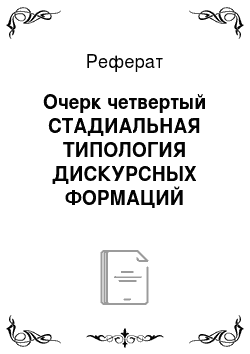
Референтная компетенция первой дискурсной формации базируется на прецедентной картине мира, где значимо лишь то, что повторяется, узнаваемо воспроизводится (в самой действительности или в ритуальной ее репрезентации). В рамках такой картины мира актант предстает реализатором некоторой функции миропорядка, своего предназначения в нем. При этом дискурс претендует на референтную прозрачность… Читать ещё >
Очерк четвертый СТАДИАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ДИСКУРСНЫХ ФОРМАЦИЙ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Говорить — значит участвовать в эволюционном приключении говорящего человечества.
О. Розеншток-Хюсси Компаративная риторика — это риторика дискурсных формаций. Для нее не обязательно всякий раз сравнивать два или несколько текстов. Осуществляя компаративно-дискурсный анализ даже единичного текста, идентифицируя его принадлежность к определенной дискурсной формации, мы тем самым сопоставляем его со всеми другими текстами: уподобляем одним (аналогичным по своей формации) и отмежевываем от иных.
Ниже будут очерчены «семантические суперструктуры» (ван Дейк) четырех дискурсных формаций, нашедших свое стадиально определенное место в ментальной эволюции культуры.
Для кратких иллюстраций я буду обращаться к «Скучной истории» А. П. Чехова — литературному произведению, представляющему собой своего рода «маленькую энциклопедию» разнородных коммуникативных стратегий.
Дискурс покоя
1.0. Наиболее архаичная дискурсная формация мифа носит статуснороевой характер, поскольку не ведает еще ролевой дифференциации участников коммуникативного процесса. Мифическое (или аналогичное мифу) общение протекает в унитарном социальном пространстве экзистенциального равенства субъектов жизни. Оно базируется на эквиполентной коммуникативной метаситуации, уравнивающей субъекта и адресата как взаимотождественные, зеркально симметричные инстанции.
Миф как моноформа первобытной культуры является идеальным коммуникативным пространством: не ведая ни авторского творчества, ни новизны сообщений, ни множественности истолкований, миф оказывается сверхтекстом коллективной автокоммуникации, манифестируемой в ритуале. Здесь позиции коммуникативного субъекта, коммуникативного объекта и коммуникативного адресата пока еще нераздельны — это позиции носителей единого «роевого» Мы-сознания, будь его носителем жрец, жертва или рядовой участник ритуала, — но уже и неслиянны. Эта неслиянность креативного, референтного и рецептивного начал культуры собственно и создает культурное пространство как внеживотное (мета-инстинктивное), но пока еще недискретное пространство при-общения.
Природе этой, по сути дела, хоровой дискурсной формации отвечает характеристика Ойгеном Розенштоком-Хюсси пения как коммуникативного процесса: «Если язык во всех случаях предполагает наличие некоего внутреннего пространства, где он может священнодействовать, соединяя собеседников», то «пение проникает, так сказать, в самую сердцевину этого процесса. Всякая речь имеет своим источником единство. Никто не мог бы говорить без веры в единство, а единство не существует во внешнем мире. Когда мы поем, мы ощущает себя внутри целого; мы чувствуем себя в мире как дома. Петь — значит говорить не от себя лично, а говорить хором»[1].
Классическая риторика, исходя из радикальной поляризации коммуникантов на оратора и аудиторию, не рефлектировала хоровые формы общения. По этой причине исторически первоначальную дискурсную формацию можно назвать дориторической. Но архаичность роевого менталитета вовсе не исключает присутствия явлений данной формации в пределах позднейших культурных эпох, включая современность. Таковы, например, агитационные двустишия Маяковского или современные рекламные ролики. По своей коммуникативной природе они безавторские и безгеройные; даже известный актер в рекламном ролике демонстративно покидает сферу актерских амплуа и выступает одним из «нас».
1.1. Референтная компетенция первой дискурсной формации базируется на прецедентной картине мира, где значимо лишь то, что повторяется, узнаваемо воспроизводится (в самой действительности или в ритуальной ее репрезентации). В рамках такой картины мира актант предстает реализатором некоторой функции миропорядка, своего предназначения в нем. При этом дискурс претендует на референтную прозрачность в отношении к действительности: дискурсия сводится к артикуляции некоторого общего референтного содержания. Осуществление такого коммуникативного акта исходит из презумпции общезначимой внетекстовой реальности объекта общения, воспроизводимого в знаках текста. Поэтому хоровое единогласие и составляет коммуникативный ресурс референции мифологического типа.
Референтная модальность высказываний такого рода является модальностью знания — то есть такого содержания сознаний, которое не зависит от самого сознания (неинтенционально). Оно ограничено областью значений, однако не связано никакой концепцией (простейший пример — знание таблицы умножения). Передаваемое в качестве готового содержание мысли не нуждается в концептуальной аргументации (интерсубъективной проверке на убедительность). Здесь «рассказчик истории обладает компетенцией только потому, что он был когда-то ее слушателем»[2].
«Хранитель университетских преданий» швейцар Николай охарактеризован в «Скучной истории» Чехова как субъект типично мифического дискурса с прецедентной картиной мира. Он повествует «о необыкновенных мудрецах, знавших всё, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, и многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого». Но в той же самой формации хорового единогласия с референтной модальностью знания выдержаны и иного рода высказывания: ежедневные утренние монологи жены Николая Степановича, которая «аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки — и всё это таким тоном, как будто сообщает мне новость».
1.2. Креативная компетенция статусно-роевого дискурса определяется индексалъной модальностью дискурсии — логосом «безличного слова» (6, 420), присущего мифу или рекламе (этой своеобразной мифологии нашего времени), где «особенности индивида исчезают, поглощенные функцией»[3]. Индексальность свойственна также ритуалам повседневного общения. (Чеховский швейцар Николай, встречая профессора, произносит соответственно погоде: «Мороз, ваше превосходительство!» или «Дождик, ваше превосходительство!»).
Индексальный логос дискурсии состоит в использовании языка как системы указательных знаков-индексов. А «индекс, — по определению Чарльза С. Пирса, — есть знак, который сразу же утратил бы свое характерное свойство, делающее его знаком, если убрать его объект»[4]. Простейшими примерами слов в индексальной функции могут служить имена собственные[5]. Пример самого Пирса: «Когда кучер, пытаясь привлечь внимание пешехода и заставить поберечься, выкрикивает „Эй!“, то […] восклицание это является индексом, ибо направлено на то, чтобы поставить пешехода в реальную связь с объектом, каковым является его местонахождение в отношении к приближающейся лошади» (207).
В высших (культурообразующих) формах дискурсивных практик, прежде всего, ритуально-фольклорных, индексальное слово приобретает статус «священного и авторитарного слова с его непререкаемостью, безусловностью, безоговорочностью»; это «инертное слово с ограниченными возможностями контактов и сочетаний […] Слово, требующее благоговейного повторения, а не дальнейшего развития, исправлений и дополнений» (6, 389).
Коммуникативный ресурс такой дискурсии составляет транзитивность (переходность) ее значений, перемещаемых из одного сознания в другое без существенных семантических искажений. Индексальное течение речи опирается на совокупность стереотипных представлений о денотативных означаемых. Ведь коммуникативное пространство хорового единогласия не знает конструктивного напряжения между субъектом и адресатом высказывания; синкретизм этих позиций исключает проблематику некоммуникабельности, столь актуальную для культуры Нового времени.
При рассмотрении знака как тройственного единства сигнала, значения и смысла, семиотический феномен индекса предполагает первичность значения, синкретическую сращенность его со смыслом и произвольность сигнальной сторона знака, закрепляемой за данным значением лишь ее повторяемостью, прецедентностью. Подобное значение выступает в нераздельном единстве со своим смыслом (поглощает собственную, по слову Пирса, «интерпретанту»), но допускает широкий спектр синонимии своих сигналов. Метасубъектная функция авторства при индексальной дискурсивности проявляется в выборе средств текстуальности из этого спектра, но она не предполагает формирования самих значений.
«Положение субъекта» (Фуко) в рамках этой формации можно определить как самоустранение — такое коммуникативное поведение, которое предполагает равнозначность и взаимозаменимость различных субъектов в качестве исполнителей одного и того же дискурса. Одновременно и сам этот дискурс вполне синонимичен любому иному высказыванию с аналогичной референцией. Так, многие мифы и иные фольклорные произведения оказываются внешне разнообразными текстами об одном и том же.
Здесь, как в историях швейцара Николая, который от своих предшественников «получил в наследство много легенд из университетской жизни», мы встречаемся с «исполнительской», по Перельману, позицией субъекта речи. Несмотря на то, что Николай «прибавил к этому богатству много своего добра», он отнюдь не претендует на личное авторство; это анонимная форма авторства.
Такая креативная компетенция базируется на том, что «мы не в состоянии все время быть личностями […] Мы живем тогда волевым напором традиций прошлого, которые воспроизводим в качестве предличностного и общего для нас наследия»[6]. Но и этот способ риторического поведения является на деле способом коммуникативного самооправдания: говорящий манифестирует свою приобщенность ко всеобщему достоянию. Этим объясняется, в частности, стертость границ между отдельными дискурсами в пределах дориторической формации: композиционные факторы начала и конца текста здесь не имеют того конструктивно-концептуального значения, какое им присуще в иных формациях.
1.3. Рецептивная компетенция роевого дискурса определяется этосом идентичности. Поскольку в качестве своего «прогностического конструкта» (Перельман) высказывание дориторической формации предполагает адресата, идентичного субъекту коммуникации, целевая установка такого общения состоит в хоровой идентификации всех «своих».
Базовой интенцией адресованности при такой коммуникативной установке выступает интенция покоя — преодоления тревоги, сохранения и поддержания прецедентного миропорядка. Покой как снятие встревоженное™ — это основополагающая сверхценность в коммуникативном пространстве мифа; «в своей первоначальной форме тревога человека связана с самим появлением мышления»[7]. Коммуникативная актуализация сверхценности покоя часто предстает в осложненных модификациях преодоления страха, устранения факторов угрозы, утраты, озабоченности, чем и определяется инвариант циклического (мифологического) сюжета: утрата — поиск — обретение[8].
Именно риторическим эффектом покоя — ухода от сверхличных требований ролевого долженствования, снятия зависимости от собственных желаний, от личностной ответственности перед другим — и объясняется, по-видимому, многообразно проявляющаяся в современной культуре тенденция к восстановлению дориторической формации.
Из дориторического этоса идентичности коммуникантов закономерно следует репродуктивность мышления как когнитивная модальность рекурсии. «Предвосхищаемое ответное слово» (ВЛЭ, 93) здесь идентично слову произносимому. Чтобы стать полноценным участником коммуникативного события в рамках первоначальной дискурсной формации, реципиент должен обладать способностью хранить в памяти и воспроизводить текст этого события (миф) как некое общее достояние. Забота адресата, определяемая этосом хорового высказывания, состоит в обретении и сохранении статуса приобщенности к общезначимой информации.
1.4. Коммуникативные события дориторической формации являют собой дискурсы, реализуемые в ментальном пространстве хорового единогласия. Фигура «солиста» здесь не более чем статус, в принципе достижимый (при известных условиях) каждым. Общение же обеспечивается имитативной метастратегией. Так, повседневные наши приветствия при встрече знакомого человека носят вполне ритуальный характер, а стандартное приветственное высказывание является имитацией аналогичных высказываний других людей.
Показательными примерами дискурсии с интенцией покоя (этосом идентичности) предстают в произведении Чехова утренние беседы супруги Николая Степановича. Но они не достигают своей риторической цели (практической они лишены), поскольку их адресату чужда эквиполентная коммуникация единогласия, следуя которой жена привыкла «мое жалованье называть нашим жалованьем, мою шапку — нашей шапкой». Однако сама говорящая, подобно первобытным носителям мифа, своими бесконечно воспроизводимыми монологами успокаивает самое себя, вновь и вновь ритуально идентифицируя некую (в действительности утраченную) стабильность семейных отношений.
В легендах швейцара Николая сам их носитель и любой его доверенный адресат обретают идентичность причастности к незыблемо справедливому миру науки, к общему достоянию героизированного университетского прошлого.
Можно констатировать, что в основе первой (дориторической) дискурсной формации обнаруживается Мы-менталитет «матричного сознания» (Розеншток-Хюсси).
- [1] Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994. С. 181.
- [2] Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998. С. 57.
- [3] Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. С. 129.
- [4] Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М., 2000. С. 218. Страницыэтого издания далее указываются в скобках.
- [5] Ср.: В мифе «имя героя начинает развертываться в действие […] при этом геройсовершал только то, что семантически сам значил» (Бройтман С. Н. Историческаяпоэтика // Н. Д Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. Теория литературы: в 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 63).
- [6] Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. С. 170.
- [7] Тейяр де Шарден. Феномен человека. С. 181.
- [8] См. Гринцер П. А. Древнеиндийский эпос. М., 1974.