Очерк десятый ЧЕХОВСКИЙ НАРРАТИВ КАК ДИСКУРС ОТВЕТСТВЕННОСТИ
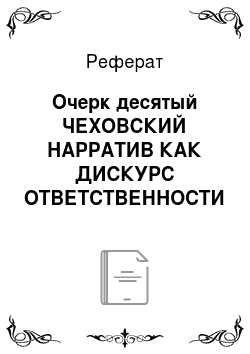
Первая и вторая главы «Архиерея» завершаются одинаковыми репликами вечно недовольного Сисоя: «Не ндравится!» Глава третья завершается альтернативной по своей настроенности репликой самого преосвященного: «Как хорошо!» С этой же мыслью он и умирает. Однако следующая за его смертью финальная часть повествования амбивалентна по своему эмоциональному строю. Возникает некоторое поле… Читать ещё >
Очерк десятый ЧЕХОВСКИЙ НАРРАТИВ КАК ДИСКУРС ОТВЕТСТВЕННОСТИ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Его нельзя уже сравнивать с прежними русскими писателями — с Тургеневым, с Достоевским или со мною.
Лев Толстой Принципиальный отход чеховского литературного творчества от предшествующей классической традиции, разрыв, который Витторио Страда именует «самой глубокой революцией в русской литературе»[1], стал ощутимым для наиболее чутких современников еще при жизни писателя. Общеизвестны слова Толстого о том, что «Чехов создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы писания»[2].
Впрочем, кардинальная новизна и значимость чеховского наследия для мировой литературы вполне осознается только в XX веке. Причем это осознание на протяжении столетия нарастало и углублялось — по мере того, как проявлялись свойственные новейшей литературе черты неклассической художественности. Однако и до сего времени остается актуальной сформулированная В. Б. Катаевым задача определения «роли его (Чехова. — В. Г.) творчества в переломе, свершившемся в русской эстетике на рубеже двух столетий»[3].
Рассуждая с позиций компаративной риторики, суть этого перелома заключается в радикальном обновлении коммуникативных стратегий художественного письма, приобретающем в XX столетии масштабы новой дискурсной формации.
А. Д. Степанов в интересном, глубоком и значительном по своим результатам исследовании, полемизируя с автором этих строк, необоснованно, на мой взгляд, сводит понятие коммуникативной стратегии к характеристикам одной только «авторской инстанции», а не дискурса в целом — не «всей коммуникативной цепи»[4]. Исходя из «тезиса о самодостаточности коммуникативной проблематики» (19) для Чехова и ограничиваясь «тем аспектом образа автора, который стоит за всеми коммуникативными тактиками текста» (56), он утверждает: «Мы можем исключить из рассмотрения аспект коммуникации „повествователь“ — „читатель“» (55). Отсюда трактовка коммуникативного события не как метатекстуального взаимодействия (со-бытия) носителей сознания, но всего лишь как «смещения речевого жанра» (70) в плоскости текста. Отсюда же и вызывающий возражения вывод: «Чеховское понимание коммуникации остается по сути скептическим даже в рассказах, неизменно оставляющих у читателей светлое чувство» (335). Наконец, в глубине авторской стратегии Чехова исследователь обнаруживает «скепсис по отношению к самой возможности существования адекватного адресата» (365), неверие в «возможность единения» (364). Иначе говоря, А. Д. Степанов рассматривает чеховское творчество как позднее явление постриторической дискурсной формации и дивергентной ментальности.
В последнее время участились работы, анализирующие коммуникативное поведение героев Чехова[5], выявляющие в его произведениях риторическую проблему «препятствий, мешающих реальному (а не явленному в феноменах сознания, в „творимой легенде“) человеческому контакту»[6]. В этих работах убедительно доказывается, что коммуникативная несостоятельность общения составляет один из ключевых аспектов чеховской тематики. По справедливому замечанию А. Д. Степанова, «антагонисты Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского понимают позиции друг друга […] они слушают и слышат […] Первым писателем, тематизировавшим провал коммуникации и сделавшим его центром своего творчества, был Чехов»[7].
Столь решительный вывод был подготовлен чеховедами предыдущих поколений, начиная с А. П. Скафтымова, обнаружившего, что в мире чеховских героев «каждый среди других — один. И отношения между ними рисуются в подчеркнутой разрозненности и несливаемости»[8]. Сошлюсь на одно из многочисленных суждений подобного рода, принадлежащее 3. С. Паперному: «Чехов отказывается от такого разговора героев, в котором ощущается их тесный, непосредственный контакт, их взаимозависимость. Диалог выступает не как слитный словесный массив, не как спор героев об одном и том же. Скорее, это разговор персонажа с самим собой»[9]. Небезосновательной представляется мысль о том, что сверхзадача чеховского диалога — «утвердить самостоятельность каждого персонажа по отношению друг к другу, автономность круговорота его жизни перед лицом самодвижущегося бытия»[10].
Вглядываясь во множество развернутых писателем ситуаций «провала коммуникации»[11] — не только комических, но и глубоко драматичных, — возникает соблазн определить поэтику Чехова вообще как поэтику «глухонемого» слова. Эта оксюморонная метонимия не надумана, а подсказана текстами самого Чехов. Так, в «Бабьем царстве» весьма значимо присутствие «глухонемой девицы». У вдовы Лукерьи из «Студента» «выражение было странное, как у глухонемой». В «Архиерее» упоминается «архимандрит, молчаливый и глуховатый», и т. п. А вот характерный образец чеховского глухонемого слова:
- — Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите.
- — Одно слово? Извольте: тарарабумбия.
- («Володя большой и Володя маленький»)
Приняв за точку отсчета всего чеховского творчества юношескую драму, мы вынуждены будем констатировать, что текстуально оно открывается обменом поистине «глухонемыми» репликами (Трилецкого и Анны Петровны):
- — Что?
- — Ничего…
Весьма показателен для героев Чехова и жест коммуникативного поведения Ольги в «Трех сестрах», которая, «уходя к себе за ширму», произносит: «Оставь это. Я все равно не слышу». Подобные примеры легко могут быть многократно умножены.
Если на одном полюсе коммуникативного мира «Бабьего царства» обретается «глухонемая девица, которая стыдится чего-то и говорит: „блы, блы“», то на другом — главная героиня, о которой сказано: «Ей нравилось, что она так хорошо говорит». Однако эта противоположность мнимая, ибо Анна Акимовна и сама непрерывно стыдиться чего-то (своего богатства, неумения вести дела, желания выйти замуж), а ее столь удачная, как ей представляется, речь совершенно игнорируется преследующим собственный корыстный интерес собеседником и произносится в коммуникативной пустоте.
Проблеме глухонемого слова непосредственно посвящен один из последних чеховских рассказов — «На святках», опубликованный «Петербургской газетой» 1 января 1900.
Текст письма, призванного установить коммуникативный контакт, но лишенного такой возможности в силу своей абсурдности, выступает квинтэссенцией речевой действительности данного произведения. Рассказ открывается безответной репликой грамотея Егора: «Чего писать?» Вопрос этот пустой, ибо Егор все равно составит текст письма из того единственного, чем набита его голова (обрывками фраз из воинского устава). Завершается рассказ репликой номинального адресата письма — швейцара водолечебницы: «Душ Шарко, ваше превосходительство!» Это ответ на вопрос генерала, который также коммуникативно пуст, поскольку генерал каждый раз спрашивает одно и то же и тотчас забывает. Здесь даже жарящаяся свинина наделяется даром слова, поскольку выговаривает: «флю-флю-флю». Но и текст самого письма, отправляемого с таким трудом, есть не более чем бессмысленное «флю-флю» или «блы-блы».
Глухонемое слово чеховских персонажей свидетельствует об эгореферентности их коммуникативной стратегии — стратегии отнесения высказывания не к общезначимому миру всеобщего бытия, а к индивидуально значимой, субъективной картине мира. В чеховском мире обычно каждый говорит о своем (даже трактирный приживал Егор, исповедально прибавляющий к уставным формулировкам, что «перьвейшый наш Внутреный Враг есть: Бахус»). Порой эта стратегия достигает законченной автокоммуникативности: например, Рашевич («В усадьбе») говорит, «наслаждаясь своими мыслями и звуками собственного голоса».
Однако для Чехова дивергентная стратегия разногласия — это воспроизводимая практика коммуникативного поведения персонажей, а не собственная стратегия его поэтики. Если бы было справедливо мнение А. Д. Степанова, будто «коммуникативная стратегия автора явно направлена на введение в текст фатики как таковой и ради нее самой» (297), а не ради формирования художественного впечатления с проективной модальностью, то писательство Чехова следовало бы уподобить речам Рашевича. Между тем собственные художественные тексты писателя всей своей поэтикой актуализируют конвергентную стратегию согласия.
Прежде всего, их референтную компетенцию составляет отнюдь не «случайностный поток бытия»[12], открытый читательскому произволу ценностной ориентации в нем. Подобно герою «Скучной истории», чеховский нарратор разворачивает мнимо окказиональную наррацию «в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать». Но при отсутствии императивности эта картина предполагает синергетическую коммуникативную ситуацию взаимодополнительности креативного и рецептивного сознаний. Чеховский нарратив ориентирован на принципиальную возможность взаимопонимания, преодолевающего некоммуникабельность чеховского человека.
Иногда такие моменты чудом состоявшегося коммуникативного события становятся предметом художественного изображения, как в рассказе «На святках» (в чем, собственно и состояла его «святочность», канонически требовавшая счастливого конца трогательной истории). Ефимья не читает абсурдистского текста письма: первых слов его оказалось достаточно, чтобы она, плача и смеясь, стала рассказывать своим детям об их бабушке и дедушке. В мыслях старухи Василисы и ее дочери присутствует одна и та же деревенская жизнь, хотя она и видится им в разных тонах. Риторические картины мира отправителя и получателя злосчастного письма не тождественны, однако и не чужды друг другу; они — кореферентны, взаимодополнительны, что подчеркивается «марьяжностью» их обращений к «Царю небесному», с одной стороны, и к «Царице небесной» — с другой.
Чеховский нарративный дискурс осуществляет инспиративную метастратегию диалогического согласия, кореферентного отнесения высказывания к индивидуально значимому миру «другого» (читателя с его, говоря по-чеховски, «личной тайной»), но без отказа от собственной (авторской) картины мира.
Упрощенный механизм организации синергетической коммуникативной ситуации демонстрируется в «Студенте»:
- — Небось, была на двенадцати евангелиях?
- — Была, — ответила Василиса.
- — Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь Петр понимаешь ли тоже грелся, как вот я теперь …
Вопрос Ивана имеет целью отнюдь не выяснение того, посещает ли вдова пасхальные службы (это ему и так известно). Посредством риторического вопроса, а также последующих «помнишь», «слышала», «понимаешь», уподоблением евангельской и сиюминутной житейских ситуаций — всеми этими приемами будущий проповедник актуализирует в личном опыте собеседницы кореферентный участок картины мира, образующий (в конвергенции с его собственным опытом) интерсубъективную реальность диалогического согласия.
Аналогичным образом, хотя, разумеется, много искуснее и сложнее, строятся Чеховым его собственные художественные высказывания. Можно сказать, что повествование Ивана Великопольского об отступничестве и душевной муке святого Петра оказывается метатекстуальной моделью чеховского нарратива.
Специфика нарративного дискурса состоит именно в том, что он наделяет факт или некоторую совокупность фактов статусом событийности (см.: Очерк пятый). Здесь, говоря словами Бахтина, на передний план «выходит новое и главное действующее лицо события — свидетель и судия» (ЭСТ, 341). Иначе говоря, событие неотделимо от его пристрастной интерпретации в качестве значимого (для кого-то) беспрецедентного и необратимого деяния или происшествия. Никакой природный катаклизм или социальный казус вне соотнесенности с сознанием «свидетеля» как носителя некоторых норм бытия, пока еще не является событием.
В классических нарративах XIX века функция «свидетеля и судии» реализовалась фигурой повествователя или рассказчика. Читатель оказывался перед лицом вполне осмысленного, ментально завершенного события, ограничиваясь ролью участника только «события рассказывания». В ранних произведениях Чехова мы тоже нередко имеем дело именно с таким строем повествования. Например:
Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий подвижной старикашка лет 65-ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами.
Совершенно очевидно, что девятилетний герой рассказа в принципе не мог бы мыслить своего дела в таких категориях и такими словами. Даваемая повествователем характеристика окончательна и неоспорима, она оставляет читателю позицию пассивно внимающего.
Поздний чеховский нарратив организован, как правило, иначе. Он вовлекает читателя в состав самого рассказываемого события, наделяя инстанцию адресата свойствами самостоятельного свидетеля происходящего. Так чеховский студент, будучи читателем Евангелия (внутритекстовый аналог отношения адресата к тексту), занимает воображаемую позицию непосредственного свидетеля:
В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания…
Обратим внимание на роль, отводимую чеховским нарратором слушателю некоторой истории в метарассказах писателя (жанровая форма «рассказа о рассказе»). Взволновав слушательницу изложением известного ей евангельского события, Иван Великопольский предполагает, что не столько его рассказывание, сколько само расказанное им «имеет к ней какое-то отношение». Он размышляет о своем неожиданном коммуникативном успехе как о естественном следствии человеческой солидарности — личной вовлеченности адресата в то далекое событие:
Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.
Еще очевиднее роль слушателей как участников-свидетелей повествуемой жизни, а не только рассказа о ней, в «маленькой трилогии». Иван Иваныч делает самостоятельный и притом весьма радикальный вывод из рассказанной Буркиным истории: «…нет, больше жить так невозможно!» Самому же рассказчику этот вывод чужд: «Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч».
В свою очередь,.
… рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин.
Уже эти не весьма обычные для традиционного рассказа реакции слушателей вынуждают читателя совершать выбор и оценивать рассказ персонажа по-своему, то есть стать активно причастным свидетелем события общения людей, составляющего предмет чеховской наррации.
Рассказ Алехина, напротив, не разобщает, а сближает персонажей, однако не нарративным искусством того, кто «рассказывал им с таким чистосердечием», а их свидетельской причастностью к повествуемой жизни: «…они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой». (Напомню композиционную значимость этих фраз, составляющих концовку всей трилогии).
В концовке «Рассказа старшего садовника» повествователем также актуализируется читательская возможность занять собственную проективную позицию по отношению к вставному рассказу: «Михаил Карлович кончил. Мой сосед хотел что-то возражать ему, но старший садовник сделал жест, означавший, что он не любит возражений…» Ранее о рассказывавшем персонаже сообщалось, что «выражение лица у него было необыкновенно важное и надменное; он не допускал противоречий и любил, чтобы его слушали серьезно и со вниманием». Читателю остается задуматься о непрозвучавшем возражении и стать независимым слушателем рассказанной истории, свободным от монологического согласия с нарратором (характерного для классического литературного письма).
Следует и нам задуматься, в чем рассказ Алехина ближе к авторской нарративной стратегии зрелого Чехова, чем рассказы Буркина и Чимши-Гималайского? Отвечу словами В. Я. Лакшина: «в отказе от миссии учительства», в том, что «Чехов не навязывал никакого постулата», а «моральная требовательность обращалась им прежде всего на себя»[13]. Эти слова вполне применимы и к Алехину — рассказчику, «индивидуализирующему» собственную историю любви как «отдельный случай». Тогда как первые два рассказчика трилогии резко порицают своих персонажей, решительно обобщают и вообще прибегают к коммуникативной стратегии учительства. Буркин — учитель по профессии, а Иван Иваныч страстно проповедует: «Не давайте усыплять себя!»; «не уставайте делать добро! Счастья нет, и не должно его быть», поскольку цель жизни, на его взгляд, «в чем-то более разумном и великом», нежели личное счастье.
Неуместность данной проповеди ненавязчиво обнаруживается тем обстоятельством, что обращена она к натрудившемуся за день, и поэтому как раз засыпающему от усталости Алехину. А вот умозаключение, оспаривающее отрицание счастья, читателю приходится делать самостоятельно. Если, конечно, он готов к такому умозаключению, для которого в чеховском тексте имеются лишь искусно вплетенные предпосылки аллюзивного характера.
Например, два рассказчика-охотника представляют собой традиционно комическую «карнавальную пару», что неявно, но неизбежно дискредитирует серьезность их высказываний. Напомню: Чимша-Гималайский — «высокий худощавый старик с длинными усами»; Буркин же — «человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс». Однако эти портреты далеко разведены в тексте, и комизм их соседства открывается только достаточно пристальному чтению.
Проективная модальность «свидетеля и судии» событийности рассказанного, восполняющего авторскую позицию, придается инстанции чеховского адресата многообразными путями.
Нередко статусом события происшедшее наделяется (или не наделяется) сознанием самого персонажа, отнюдь не обладающего авторитетностью повествующей инстанции. Это оставляет вопрос о событийности повествуемого для читателя открытым.
Если «дама с собачкой» «к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, то для Гурова в очередном курортном соитии со случайной знакомой состав события отсутствует. Но спустя некоторое время тот же персонаж неожиданно усматривает событийность в совершенно случайной и незначительной «подробности» бытия: «Подошел какой-то человек — должно быть, сторож, — посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой». Переломное событие в жизни героя, приводящее к его преображению, с посторонней точки зрения, является ничтожной частностью повседневного существования: «Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова» и т. д. (см.: Очерк пятый).
Такие повествования, как «На подводе» или «У знакомых», с классических позиций, представляются и вовсе бессобытийными.
В рассказе «У знакомых» ожидаемых событий спасения имения от торгов и объяснения героя по поводу возможной женитьбы так и не происходит, исходная ситуация в финале восстанавливается, что подчеркнуто повторным чтением пригласительной записки. С другой стороны, Подгорин (едва ли случайная аллюзия фамилии Подколесина из гоголевской «Женитьбы») бежит из имения, сохраняя свою чуть было не утраченную независимость, и это является неким поступком, осуществлением выбора, то есть событием.
Ореол событийности нередко придается повествуемому искусной чеховской детализацией, создающей для читателя эффект непосредственного присутствия. Например: «Сквозь опущенные шторы сюда не проникали солнечные лучи, было сумеречно, так что все розы в большом букете казались одного цвета».
Один из наиболее очевидных способов вовлечения читателя в состав рассказываемого события составляют так называемые открытые финалы. Эту конструктивную особенность П. М. Бицилли считал «главной» для чеховских произведений: «нет „развязки“, „завершения“, разрешения жизненной драмы»[14]. Однако открытые финалы у Чехова не релятивно-случайностны; они — вероятностны: «Поживем — увидим» («Три года»). Или: «И казалось ему, что этого нельзя поправить» («Соседи»), но действительно ли положение непоправимо, или только «казалось» — решать читателю.
Вспомним некоторые из наиболее знаменательных открытых финалов чеховской прозы:
…и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла («Студент»).
И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается («Дама с собачкой»).
Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город — как полагала, навсегда («Невеста»).
Подчеркнутые слова, придающие концовкам модальность субъективной «кажимости», порой расцениваются интерпретаторами как ироническая авторская дискредитация легковесного оптимизма героев. При этом авторская инстанция мыслится всеведающим творцом своего мира, каким он представал в классике XIX столетия. Однако нарратор чеховского художественного дискурса лишь выявляет некоторый спектр вероятности последующего развития событий. Конечно, каждого из этих персонажей в ходе продолжения их существования (если бы оно было действительным) могли бы постичь глубокое разочарование и жизненная неудача. Но в то же время у нас нет существенных оснований сомневаться в том, что происшедшие с ними перемены необратимы.
Проблематизируя событийность в прозе Чехова, В. Шмид пишет, например, о рассказе «Студент»: «пустая бутылка, этот подчеркиваемый звуковым повтором начальный мотив, указывает на несостоявшееся событие» и «становится символом мнимого прозрения»[15]. Между тем, если в начальных фразах этого текста действительно доминирует фонема У, озвучивая угнетенное состояние героя (например: «жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку»; «в лесу неуютно, глухо и нелюдимо»), то в заключительных явственно преобладает фонема, А («правда и красота»; «сладкое ожидание счастья» и др.). Анаграмматическим ключом для этого повтора, сигнализирующего о происшедшей перемене, служит слово «заря».
Нередки у Чехова и концовки мнимой завершенности. Например, скрытый оксюморон — жила, чтобы не жить — взрывает и обесценивает смысловой итог душевных терзаний героини рассказа «В родном углу»:
Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет хорошо…
Через месяц Вера жила уже на заводе.
Многие концовки явственно свидетельствуют о недостижимости повествованием некоего финального смысла. Такова, например, фраза, завершающая «Мою жизнь»:
А когда входим в город, Анюта Благово, волнуясь и краснея, прощается со мною и продолжает идти одна, солидная, суровая. И уже никто из встречных, глядя на нее, не мог бы подумать, что она только что шла рядом со мною и даже ласкала ребенка.
Читателю, знакомому с иным обликом героини, остается самостоятельно решать, какой из них подлинный. Или осмыслить его неопределенность.
Нарративная стратегия чеховского повествования базируется на конвергентности креативного и рецептивного актов и несет в себе риторическую интенцию солидарности. Инстанция читателя вводится в структуру произведения как невербальная — когнитивная — составляющая его текста. Именно этим Чехов, как представляется, и пролагает путь неклассической художественности XX столетия.
Прецедент художественной коммуникации такого рода был создан Пушкиным в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина, изданных А. П.»[16], однако в классике XIX века существенного развития не получил. Так, например, Толстой, для которого «повести Пушкина голы как-то»[17], в искуснейших лабиринтах своих «сцеплений» все точки над i расставляет сам, не доверяясь читателю.
Коммуникативная стратегия художественного письма реализуется его поэтикой. С этой точки зрения, поэтика Чехова — инспиративная поэтика: не провоцирующая адресата на автокоммуникативную реакцию (такова провокативная стратегия многих явлений искусства авангардистского толка), но проективно инспирирующая процесс смыслообразования в сознании адресата. Внимательного читателя писатель втягивает в захватывающую игру аллюзий — игру не самодельную, а порождающую эффект «света в конце туннеля», когда читателю, как героям «Дамы с собачкой», представляется, «что еще немного — и решение будет найдено».
Аллюзия трактуется в данном случае не как элементарная отсылка, но как риторическая фигура умолчания: поэтическая (внелогическая) энтимема, реализующая инспиративные возможности художественного языка для формирования проективного смысла (в отличие от смысла готового — эмблематического). Речь, стало быть, идет не об аллюзиях в специальном значении этого термина (хотя и они используются Чеховым весьма обильно), но о специфическом для чеховской прозы «плетении мотивов» (не только интертекстуальных, но и внутритекстовых), о чеховских принципах семантически активной композиции и т. п. моментах его поэтики, риторическая фигуративность которой может в целом быть определена как метаболическая.
Не лишая читателя самостоятельности, такая поэтика формирует для него некоторую анфиладу вероятных смыслов, некоторый спектр допустимых, но инициативных прочтений, что являет собой феномен интерактивной формы авторства. В частности, членение на главы в произведениях Чехова служит тонким орудием, своего рода «скальпелем» креативной воли, апеллирующей к воле рецептивной. Ибо сильная пауза конца главы создает семантически акцентированное место в тексте.
Первая и вторая главы «Архиерея» завершаются одинаковыми репликами вечно недовольного Сисоя: «Не ндравится!» Глава третья завершается альтернативной по своей настроенности репликой самого преосвященного: «Как хорошо!» С этой же мыслью он и умирает. Однако следующая за его смертью финальная часть повествования амбивалентна по своему эмоциональному строю. Возникает некоторое поле эмоционально-волевой тональности, в котором читателю самому приходится позиционировать себя относительно его полюсов. Если В. Б. Катаев полагает, что рассказ в целом «безмерно печален»[18], то В. Страда утверждает, что при чтении этого «самого, пожалуй, совершенного» из чеховских рассказов вовсе «не возникает чувства отчаяния и беспомощности»[19]. Если А. С. Собенников усматривает здесь «восстановление человека»[20], то А. Щербенок — разоблачение «иллюзорной субстанциализации смысла», поскольку «безыскусственный финал рассказа […] снимает абсолютную необходимость веры»[21].
Заключительная глава и рассказ в целом завершается словами о том, что преосвященного Петра.
…совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят…
И ей в самом деле не все верили.
Обратим внимание на странности повествования в этом отнюдь не «безыскусственном» финальном фрагменте текста. О Марии Тимофеевне говорится отчужденно как о некой старухе, чье материнство специально оговаривается, словно мы знакомимся с нею впервые. Будто и читатель уже забыл о героях рассказа. Тем самым личная память читателя оказывается противопоставленной всеобщему забвению и включенной в ситуацию выбора между верой и неверием (ибо «не все верили»).
Другая странность состоит в явной несогласованности глагольных времен: старуха, которая «живет теперь» (единственный в тексте всего рассказа случай употребления настоящего времени в речи повествователя), «выходила», «сходилась», «начинала рассказывать», «говорила». Несогласованность настоящего времени придаточного предложения с прошедшим временем главного оставляет место для вопроса: а как же обстоит дело «теперь»? Но стоит читателю задаться подобным вопросом, как ответ на него приходится искать в себе самом: верю ли я лично в небесследность прожитой кем-то жизни, в «субстанциальность» ее смысла?
Все эти инспиративные тонкости рассказывания, всегда диалогически адресованного — в противоположность монологическому «поведыванию» (какова, например, речь повествователя в эпилоге «Преступления и наказания»), — не снимают, разумеется, общей элегической тональности концовки. Однако автор предлагает нам не меланхолическую исчерпанность одинокого существования, но его драматически напряженный, открытый финал.
В «Архиерее» имеет место сквозное противостояние двух лейтмотивов: давящих монастырских стен, потолков, ставен — с одной стороны, и поначалу лунного, а затем яркого солнечного света — с другой. В этом противостоянии складывается амбивалентно-метаболический образ ухода героя из жизни: «А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!» Подобная рассогласованность внешней и внутренней сторон умирания глубоко инспиративна. За читателем оставляется право (или, скорее, на него возлагается ответственность) самостоятельного смыслового завершения созданной автором художественной ситуации пасхальной смерти-воскресения — амбивалентной ситуации, пронизанной в равной степени мотивами как тоскливого одиночества, так и всеобщей праздничности.
Все столь многочисленные примеры нарративной (отнюдь не эстетической) незавершенности зрелых произведений Чехова, открытости излагаемых историй, неоднозначности характеров и ситуаций отвечают сформулированному в XX веке Вернером Гейзенбергом «принципу соотношения неопределенностей»: вероятности последующих изменений ситуации не произвольны (хотя и не однозначны); они — взаимодополнителъны. При этом само понятие «неопределенности» в отношении к Чехову позаимствовано мною не столько из физики новейшего времени, сколько у самого писателя. В юношеской драме Чехов устами персонажа Глагольева рассуждал о «выразителе современной неопределенности» как «состоянии нашего общества», о «русском беллетристе», который «чувствует эту неопределенность», который «не знает, на чем остановиться»[22]. Зрелый Чехов не то, чтобы «не знает», — он, по-видимому, не считает для себя возможным вносить собственную определенность в жизнь, самоопределяющуюся экзистенциальными выборами (поступками) каждого своего субъекта.
П. Н. Долженков, говоря о «принципе неопределенности» у Чехова, мыслит его как авторскую концепцию («мир произведений Чехова — мир неопределенности»), что ведет к утверждениям о «чеховском скептицизме»[23]. В наше время заметно умножились приверженцы мнения о принципиальном скептицизме и релятивизме писателя, но это, по всей видимости, следствие нашего же (современного) умонастроения. Ибо приписывание скепсиса самому чеховскому нарратору предполагает взгляд с позиций классической поэтики (и классической физики) XIX столетия. Между тем, чеховские «неопределенности» формируют инновационную роль читателя как аналогичную роли наблюдателя в квантовой физике, где он оказывается неустранимым фактором хода и результата эксперимента. Иначе говоря, чеховский текст подобен гейзенберговой природе, которая при всей ее объективности «выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов»[24]. Аналогия с общеизвестными словами Чехова о «правильной постановке вопросов» очевидна.
Упрощенно говоря, как было показано А. Д. Степановым, оптимистически настроенный читатель получает возможность наделять чеховский текст позитивным завершающим смыслом, а настроенный пессимистически — негативным. Этим создается характерный эффект чеховского письма, будто автор «с каждым читателем ведет задушевный разговор наедине»[25]. Отсюда столь значительные порой расхождения в истолковании эмоционально-волевой тональности одного и того же текста чеховедами самой высокой квалификации. Наиболее характерный казус — более чем вековое противостояние двух лагерей интерпретаторов «Душечки», читающих рассказ либо по-толстовски сентиментально, либо по-чеховски саркастически[26].
Сказанное отнюдь не означает, что в произведениях Чехова «нет места устойчивому смыслу»[27], и что Чехова, стало быть, можно читать, как вздумается. Б. Акунин или В. Сорокин в своих вариациях на чеховские темы — вовсе не истинные читатели Чехова; они, скорее, — его персонажи (в меру эгореферентности их абсурдистских текстов). Ибо Текст, все же, — далеко не Природа. В силу породившей его коммуникативной интенции всякий текст неизбежно обладает виртуальным сверхсмыслом. У Чехова это — некоторый интерсубъективный смысловой потенциал: достаточно определенное (и, соответственно, исследовательски определимое) соотношение взаимодополнительных неопределенностей, создающее, по словам В. Страды, «ощущение засюжетного пространства, просвета, за которым угадывалась бы незавершенность мира»[28].
Речь идет, разумеется, не о любых возможных перспективах «засюжетных» изменений сложившейся к финалу ситуации, но только о сценариях жизненного поведения, присущих «чеховскому человеку». Поэтому исход художественных построений зрелого Чехова всегда «одновременно четкий и двусмысленный: четкий потому, что полюс подлинного положителен по отношению к неподлинному (ср. „две жизни“ Гурова в „Даме с собачкой“. — В. Т.), но этико-интеллектуальное содержание и того и другого проблематично, и ни герои, ни рассказчик не в состоянии решить проблему»[29]. Ответственность за ее решение возлагается на читателя — «свидетеля и судию», собственно и формирующего своими нравственно-эстетическими предпочтениями затекстовое ментальное пространство жизни.
Природа чеховской неопределенности разъясняется в письме к Плещееву от 9 апреля 1889 г. Писатель, демонстрирующий своими произведениями, насколько «жизнь отклоняется от нормы», тут же признается в неопределенности этой нормы: «Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас»[30]. Судя по дальнейшему контексту этого знаменитого письма, единственным надежным ориентиром в онтологически неопределенном мире Чехова выступает ответственная свобода («рамка свободы») каждого субъекта самоопределения. Однако своеобразие чеховской нарративной стратегии не столько во взаимной деструктивной свободе самодостаточных участников коммуникативного «события рассказывания», сколько во взаимной их ответственности перед лицом «высокого смысла» (конечные слова рассказа «Студент») .
Адекватной чеховской ментальности представляется мысль Бахтина об истине, которая «принципиально невместима в пределы одного сознания», «требует множественности сознаний», поскольку «рождается в точке соприкосновения разных сознаний» (6, 92).
Вопреки давнишней идее А. П. Чудакова о принципиальной случайностности чеховской поэтики, в произведениях Чехова нет ничего случайного. Автор искусно формирует все необходимые предпосылки для классической завершенности целого. Но заключительный акт смыслового завершения (ответ на «правильно поставленный вопрос») он оставляет читателю, апеллируя к его коммуникативной, эстетической и моральной ответственности. В самых общих чертах это напоминает майевтику Сократа, ибо чеховская сверхзадача — «активизировать мысль человека, внушить ему интеллектуальную тревогу за необходимость решения вопроса жизни»[31]. Поистине, не только читатель читает рассказ Чехова, но и сам рассказ «читает» своего читателя: текст функционирует как тест.
Эффект интерактивного чтения достигается Чеховым, в частности, доведенной до совершенства нарративной техникой эпизодического членения текста. Рикёровская неупразднимость «эпизодического аспекта построения»[32] при рассказывании историй вытекает из необходимости вычленения события из процессуальной непрерывности бытия, то есть обнаружения его пространственно-временных границ и его актантного центра. Нарратив придает повествуемому событийность самой своей фрактальной упорядоченностью, дробящей континуальность временного потока на дискретные отрезки, традиционно именуемые эпизодами и «отличающиеся друг от друга местом, временем действия и составом участников»[33]. Такая или иная конфигурация эпизодов, будучи «архетипической формой»[34] наррации, обладает имплицитным смыслом и наделяет этим смыслом повествуемую событийную цепь даже независимо от авторской воли. Ибо история, по мысли Рикёра, «чтобы стать логикой рассказа», необходимо «должна обратиться к закрепленным в культуре конфигурациям, к схематизму повествования»[35].
Литературная классика XIX столетия оперировала, как правило, крупными, четко прописанными эпизодами, чей событийный статус обычно не подлежал сомнению. У Чехова иначе, но именно поэтому определенным образом упорядоченная цепочка микроэпизодов принимает на себя значительную смысловую нагрузку[36]. Напомню небольшой казус из истории публикации рассказа «На подводе».
Очень короткий, равноценный в этом отношении только конечному (двенадцатому), второй эпизод рассказа представляет собой следующий участок текста:
Когда отъехали версты три (пространственно-временной перенос), старик Семен, который правил лошадью (появление в тексте второго персонажа), обернулся и сказал:
- — А в городе чиновника одного забрали. Отправили. Будто, идет слух, в Москве с немцами городского голову Алексеева убивал.
- — Кто это тебе сказал?
- — В трактире Ивана Ионова в газетах читали.
С концовкой этот эпизод связывает только одно: реплики Семена. Во втором эпизоде они сообщают о событии чужой, далекой, почти ирреальной жизни, а в двенадцатом, напротив, возвращают героиню к ее собственному повседневному существованию.
Издатель «Русских ведомостей» Соболевский попросил этот ничтожный эпизодик снять из-за упоминания о недавнем действительном происшествии — убийстве московского градоначальника Алексеева. Чехов, однако, эпизод оставил, заменив одно преступление на другое, но сохранив привкус «немецкости» (аллюзия чуждости, далекости, невразумительности для простонародного сознания): «в Москве фальшивые деньги чеканил с немцами». Поясняя это решение, Чехов явственно обнаруживает свое внимание к значимости эпизода как структурной единицы нарратива: «…в этом месте рассказа должен быть короткий разговор, — а о чем, это все равно» (хотя, как видим, не вполне «все равно»).
Для иллюстрации смыслосообразной значимости конфигурации эпизодов у Чехова ограничусь всего лишь одним кратким, но знаменательным примером — системой эпизодов «Дамы с собачкой».
В соответствии с «закрепленным в культуре повествовательным схематизмом», занимавшим Рикёра, соотношение начального и конечного эпизодов нарративного текста неизбежно значимо. Это полюса напряжения нарративной «интриги» читательского ожидания. Текст «Дамы с собачкой» открывается словом «говорили», знаменующим говор безликой мужской толпы, поглощающей Гурова («…постоянные разговоры всё об одном. Ненужные дела и разговоры…» и т. д.). Заключительный эпизод рассказа начинается так: «Потом они долго советовались, говорили…» Здесь одно и то же по значению слово получает принципиально иной смысл межличностного, экзистенциального общения.
Весьма существенно для смысла целого и соотношение эпизодов, оказывающихся в композиционно эквивалентном положении, в особенности, на границах глав. В заключительных эпизодах первых трех глав Гуров остается в одиночестве, но в финальном эпизоде четвертой главы и рассказа в целом герои впервые не расстаются. Это подлинный итог коммуникативного «события рассказывания», хотя в референтной цепи рассказываемых событий герои остаются разобщенными силой житейских обстоятельств.
В заведомо сильной структурно-смысловой позиции — помимо начального и конечного эпизодов — всегда оказывается центральный эпизод (или оказывающийся в центре «пробел» меж эпизодами при четном их количестве), а также — для гармоничных конструкций, какими являются чеховские повествования, — эпизод, несущий в себе точку золотого сечения всей конфигурации.
Повествование «Дамы с собачкой» имеет в своем составе 29 эпизодов. Центральным (пятнадцатым) оказывается минимальный по объему — между возмутившей Гурова репликой знакомого чиновника в клубе и отъездом в город С. Этот эпизод переживаемого героем кризиса образован абзацем от слов «Гуров не спал всю ночь» до «не хотелось никуда идти, ни о чем говорить». Повышенная значимость данного переломного момента в истории героя (начинающееся пробуждение души и отделение от инерции пошлого «говорения») не подлежит сомнению.
Точка золотого сечения приходится на тот эпизод у дома Анны Сергеевны, где у Гурова «вдруг забилось сердце». Если вдумаемся, это и есть ключевое событие сюжета[37]. Анна Сергеевна еще в Ялте жаловалась на сердцебиение, а произошедшее у нее в номере даже не удостоено эпизода. Повествователь осуществляет эллипсис любовной сцены, пропадающей в разрыве между предыдущим и последующим эпизодами. А вот эллипсоидная фраза «у него вдруг забилось сердце» знаменует оживление, духовное пробуждение вечно сонного Гурова (в Ялте Анна Сергеевна жаловалась не только на сердцебиение, но и на бессонницу). В этот момент, как оказывается впоследствии, и зарождается его «другая жизнь».
Поразительное чутье нарративной конфигурации текста, отличавшее Чехова, отнюдь не предполагало искусственного, головного, расчетливого конструирования. Чеховские нарративы свидетельствуют об исключительном даре рассказывания — но не поверхностно-анекдотического (такой у писателя тоже был), а напряженно-смыслового, ожидающего от читателя высокой культуры художественного восприятия. Беспрецедентная глубина нарративизации повседневности позволяет Чехову, согласно мысли Бахтина, «создать жанр, который бы не предопределял, не ограничивал, не командовал, не стеснял бы „нелепого“ (с точки зрения наличных канонов) развития жизни» (6, 439).
Подводя итог, можно сказать, что предполагаемый чеховским нарративом читатель — не пассивный адресат замысла (авторского), но интерактивный субъект смысла (соавторского). Речь, однако, не идет о читательском произволе. Смыслоформирующая функция проективной инстанции восприятия в чеховской прозе носит солидаристский, конвергентный характер взаимодополнительности к «свидетельской» функции нарратора. Иными словами, коммуникативная метастратегия чеховской поэтики может быть адекватно описана в категориях бахтинского «диалогизма», а не свойственного классическому повествованию монологизма, предполагающего неоспоримую авторитетность нарративного свидетельства.
Между метасубъектными инстанциями Автора и Читателя чеховских произведений устанавливаются принципиально новые для литературы XIX века отношения. Если полифонический роман Достоевского, как было показано Бахтиным, привнес в литературу диалогизацию отношения авторского сознания к сознанию героя, то инновационная нарративная стратегия чеховского творчества привнесла диалогизированную открытость в соотношение авторского и читательского сознаний.
- [1] Страда В.
Литература
конца XIX века (1890—1900) // История русской литературы. XX столетие. Серебряный век. М., 1995. С. 48.
- [2] Цит. по: Сергеенко П. А. Толстой и его современники. М., 1911. С. 228.
- [3] Катаев В. Б. Спор о Чехове: конец или начало? // Чеховиана: Мелиховские трудыи дни. М., 1995. С. 7.
- [4] Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М., 2005. С. 54, 323. (Далеестраницы этого издания указываются в скобках.)
- [5] Помимо цитированной работы А. Д. Степанова и ряда статей на эту тему имеется заслуживающая внимания монография: Jqdrzejkiewicz Anna. Opowiadania AntoniegoCzechowa —? studia nad porozumiewaniem si^ ludzi. Warszawa, 2000.
- [6] Капустин H. В. «Чужое слово» в прозе А. П. Чехова: жанровые трансформации. Иваново, 2003. С. 73.
- [7] Степанов А. Д. Коммуникация и информация у Чехова // Дискурс. М.: РГГУ, 2002. № 10. С. 71.
- [8] Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 353.
- [9] Паперный 3. С. «Вопреки всем правилам…»: Пьесы и водевили Чехова. М., 1982.С. 191.
- [10] Иезуитова Л. А. Комедия А. П. Чехова «Чайка» как тип новой драмы // Анализдраматического произведения. Л., 1988. С. 334.
- [11] Щеглов Ю. К. Молодой человек в дряхлеющем мире (Чехов: «Ионыч») // А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов. Мир автора и структура текста. Tenafly, 1986. С. 23.
- [12] Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., 1971. С. 244.
- [13] Лакшин В. Я. О «символе веры» Чехова // Чеховиана. М, 1990. С. 11.
- [14] Бицилли П. М. Творчество Чехова: Опыт стилистического анализа // П. М. Бицилли. Трагедия русской культуры. М., 2000. С. 205.
- [15] Шмид В. Проза как поэзия. СПб., 1998. С. 294.
- [16] См.: Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина. Новосибирск, 2001. Гл. 6.
- [17] Толстой Л. Н. О литературе. М., 1955. С. 18.
- [18] Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М., 1979. С. 291.
- [19] Страда В. Антон Чехов // История русской литературы: XX век: Серебряный век. М, 1995. С. 61—62.
- [20] Собенников А. С. «Между „Есть Бог“ и „Нет Бога“…» (О религиозно-философскихтрадициях в творчестве А. П. Чехова). Иркутск, 1997. С. 149.
- [21] Щербенок А. Рассказ Чехова «Архиерей»: постструктуралистская перспективасмысла // Молодые исследователи Чехова, III. М., 1998. С. 119.
- [22] Чехов А. П. ПСС и П: в 30 т. М., 1974—1983. Соч., т. И. С. 16.
- [23] Долженков П. Чехов и позитивизм. М., 2003. С. 44, 21.
- [24] Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1963. С. 36.
- [25] Страда В. Антон Чехов. С. 49.
- [26] См. Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989. Гл. 3.
- [27] Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. С. 358.
- [28] Страда В. Антон Чехов. С. 58.
- [29] Там же. С. 62.
- [30] Чехов А. П. ПСС и П: в 30 т. Письма. Т. 3. С. 186.
- [31] Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. М., 1982. С. 34.
- [32] Рикер П. Время и рассказ. М.; СПб., 2000. Т. 1. С. 186.
- [33] Поспелов Г. Н. Проблемы литературного стиля. М., 1970. С. 54.
- [34] Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002. С. 27.
- [35] Рикер П. Время и рассказ. М.; СПб., 2000. Т. 2. С. 50.
- [36] Подробнее см.: Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса. Тверь, 2001; Тюпа В. И. Анализ художественного текста. М., 2006 (гл. 10).
- [37] «Главное событие рассказа — перемена, которая под влиянием этой любви происходит» (Катаев В. Б. Литературные связи Чехова. М., 1989. С. 101).