Эволюция личности М. Фуко
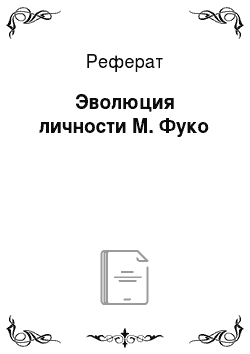
А вот еще одно размышление Фуко, важное для понимания его новой позиции, теперь уже о левых интеллектуалах. «Долгое время, — говорит Фуко в одной из бесед 1976 г., — так называемый «левый» интеллектуал брал слово — и право на это за ним признавалось — как тот, кто распоряжается истиной и справедливостью. Его слушали — или он претендовал на то, чтобы его слушали, — как того, кто представляет… Читать ещё >
Эволюция личности М. Фуко (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Я уже отмечал, что в своих последних статьях Фуко приписывает Платону создание концепции «эпимелии» — буквально «заботы о себе», на происхождение которой, по мнению Фуко, оказали влияние политические установки Платона: умение заботиться о себе являлось предварительным условием заботы о других (т.е. политического действия). Но в связи с этим невольно вспоминается императив матери Фуко, любившей повторять: «Что важно, так это управлять самим собой» [153. С. 396]. Однако, пожалуй, более существенно, что Фуко рос в атмосфере ожидания Второй мировой войны. Масштабность событий этого времени, вероятно, обусловила и значительность, и характер проблем, волновавших Фуко всю жизнь. Вот как он сам во взрослом состоянии отрефлексировал этот момент. «Угроза войны, — вспоминает Фуко, — была нашим горизонтом, рамкой нашего существования. Именно происходящие в мире события — в гораздо большей степени, чем семейная жизнь, — были субстанцией нашей памяти. Я говорю „нашей“, так как уверен, что большинство мальчиков и девочек в тот момент имели сходный опыт. Наша частная жизнь действительно была под угрозой. Может быть, поэтому-то я и зачарован историей и отношением, которое существует между личным опытом и теми событиями, во власть которых мы попадаем. Думаю, это и есть исходная точка моего теоретического желания» [Цит. по: 153. С. 397]. Обратим внимание на два пункта: интерес к истории и проблему участия в ней; мы увидим, что оба они позволяют понять одно из основных направлений интеллектуальных поисков Фуко.
Если иметь в виду период обучения в высшей школе (Фуко учился в Париже в Высшей нормальной школе), то интерес Фуко к истории дополняется, с одной стороны, увлечением (под влиянием своего преподавателя, философа Ж. Ипполита) философией, прежде всего гегельянской, с другой — относительно кратковременным (примерно два года) хождением в марксизм. Гегель и Маркс, точнее их методы реконструкции абсолютной идеи духа и капитала, вспоминаются, когда читаешь исследования Фуко по археологии знаний, а марксизм — когда пытаешься понять общественную деятельность Фуко и его отношение к буржуазному обществу. В 1978 г. свой альянс с компартией, на собрания которой он даже не ходил, Фуко представляет таким образом: «Для меня политика была определенным способом производить опыт в духе Ницше или Батая. Для того, кому после войны было двадцать лет, то есть для того, кто не был захвачен миром событий и моралью, присущей такой ситуации, как война, — чем же для него могла быть политика, когда речь шла о выборе между Америкой Трумэна и Советским Союзом Сталина? Или между старым французским Отделением рабочего интернационала и христианскими демократами? Вместе с тем для многих из нас, для меня — во всяком случае, было абсолютно очевидно, что положение буржуазного интеллектуала, должного функционировать в качестве преподавателя, журналиста или писателя внутри этого мирка, — это нечто отвратительное и ужасное. Опыт войны с очевидностью показал нам срочную, неотложную необходимость чего-то другого, нежели то общество, в котором жили, общество, которое допустило нацизм, которое легло перед ним, проституировало себя с ним. Да и то, что последовало после Освобождения , — из-за всего этого в наших душах крепко засело желание чего-то совершенно другого: не просто — другого мира или общества другого типа, но желание быть другими нам самим — быть совершенно другими, в совершенно другом мире, в соответствии с совершенно другими отношениями. Мы хорошо понимали, что от того мира, в тотальном неприятии которого мы жили, гегелевская философия увести нас не могла; что если мы желали чего-то совершенно другого, то должны были искать и другие пути; но от этих других путей — мы требовали от них, чтобы они вели нас — куда? — как раз к тому, что и было, как мы полагали, во всяком случае, — в демонстрациях» [Цит. по: 153. С. 401].
Критический и бунтарский дух Маркса чувствуется и в оценке Фуко современного общества и в тех его общественных начинаниях, которыми он известен. Но для нас, пожалуй, более интересна параллель установок Маркса на переделку общества, а не только его объяснение, и убеждения Фуко о том, что научное знание является условием изменения мира. «Что разум, — пишет Фуко, — испытывает как свою необходимость или, скорее, что различные формы рациональности выдают за то, что является для них необходимым, — на основе всего этого вполне можно написать историю и обнаружить те сплетения случайностей, откуда это вдруг возникло; что, однако, не означает, что эти формы рациональности были иррациональными; это означает, что они зиждятся на фундаменте человеческой практики и человеческой истории, и, поскольку вещи эти были сделаны, они могут — если знать, как они были сделаны, — быть „и переделаны“» [153. С. 441].Но если кто-то подумает, что Фуко был только последовательным гегельянцем и марксистом, то он ошибется. Указанные здесь гегельянские и марксистские установки и ценности не были единственными, наряду с ними Фуко исповедовал совершенно другие — персоналистические и отчасти экзистенциальные. Уже в Высшей нормальной школе, кроме марксизма, Фуко занимается феноменологией и экзистенциализмом. Для такого интереса у него было достаточно оснований: он остро переживал свою гомосексуальную половую ориентацию, не всегда справлялся со своей психикой, напряженно искал свой путь в жизни. «Сказать, — пишет С. Табачникова, — что студенческие годы были для Фуко сложными, — значит не сказать ничего. Сам он говорил о них как о „порой невыносимых“. Знавшие его в эти годы вспоминают о нем как о „болезненного вида юноше“, очень одиноком и даже „диковатом“. Ему так и не удается привыкнуть к студенческим формам общежития. Его отношения с другими очень непростые и часто конфликтные. Он ведет себя чрезвычайно агрессивно, постоянно высмеивает своих однокашников и задирает их, провоцируя ссоры. Он знает о своей исключительности и не упускает случая ее продемонстрировать. Понятное дело, скоро его начинают ненавидеть и считать чуть ли не сумасшедшим. В 1948 году к его странным выходкам добавляются неоднократные серьезные попытки, а также инсценировки самоубийства» [153. С. 403].
Вероятно, на почве изучения экзистенциализма и феноменологии, а также осознания собственного опыта жизни, Фуко, правда значительно позднее, приходит к идее работы над собой, ориентированной на конституирование себя («вырывание себя у себя») и «выслушивание» личного через общественное. «Идея некоторого опыта-предела, функцией которого является вырывать субъекта у него самого, — пишет Фуко, — именно это и было для меня важным в чтении Ницше, Батая и Бланшо; и именно это привело к тому, что какими бы академичными, учеными и скучными ни были книги, которые я написал, я всегда писал их как своего рода прямые опыты, опыты, функция которых — вырывать меня у меня самого и не позволять мне быть тем же самым, что я есть» [Цит. по: 153. С. 411]. А в 1981 г. в беседе («Так важно ли мыслить?») Фуко говорит: «Каждый раз, когда я пытался проделать ту или иную теоретическую работу, это происходило из элементов моего собственного опыта, всегда находилось в соотношении с процессами, которые, насколько я видел, развертывались вокруг меня. Именно потому, что, как мне казалось, я распознавал в вещах, которые я видел, в институциях, с которыми имел дело, в моих отношениях с другими — трещины, глухие толчки, разные дисфункции, — именно поэтому я и принимался за некоторую работу, своего рода фрагменты автобиографии» [Цит. по: 153. С. 406]. Не правда ли, эти размышления напоминают мысли молодого Маркса?
Интеллектуальная развилка и выбор пути. В этом пункте может возникнуть закономерный вопрос: а каким образом Фуко теоретически соединяет гегельянство-марксизм с феноменологией-экзистенциализмом? Первый подход, например, в качестве исходной реальности полагает или разворачивающуюся абсолютную идею, или общественную практику, в которой субъекты (личность) выступают всего лишь материалом; второй подход, напротив, кладет в основание реальности именно личность и ее сознание. Первоначально Фуко склонялся к приоритету субъективного подхода. Он выступает с идеей «антропологического проекта», но, правда, одновременно пытается истолковать личность в марксистских понятиях (отчуждения и пр.). Однако очень скоро Фуко резко меняет ориентацию: полностью отказывается от второго подхода в пользу первого. Возможно, в принятии этого решения сыграло роль рассуждение «по Канту», т. е. сдвижка с «обусловленного на условия»: что, спрашивается, детерминирует поведение и сознание личности, если не язык, практика и другие культурно-исторические образования? Обсуждая этот поворот в творчестве Фуко, С. Табачникова пишет: «Только в одном месте находим слова, которые могли бы помочь понять, как для Фуко совмещались эти два способа мысли: „…если эта субъективность умалишенного является одновременно и призванностью миром, и заброшенностью в него, то не у самого ли мира следует испрашивать секрет этой загадочной субъективности?“» Вот здесь мы подходим, быть может, к сути той трансформации, которую претерпела мысль Фуко на рубеже 1950—1960;х гг.: начиная с Истории безумия («История безумия в классическую эпоху», 1961. — В. Р.) он не просто отказывается от того, чтобы ставить вопрос о «человеке» и о «субъективности» в экзистенциально-феноменологических или в марксистских терминах, — он вообще перестает мыслить в терминах субъективности, тем более — искать ее «секреты» где бы то ни было и в чем бы то ни было. Фуко уходит от экзистенциалистской онтологии «изначального присутствия», «присутствия-в-мире», как уходит он и от марксистской онтологии «отчуждения», оставляя прежние темы разве что в качестве мишеней для нападок. Уходит, казалось бы, радикально и решительно. Не для того, однако, чтобы перейти к какой бы то ни было другой, но стоящей в том же ряду, форме мысли о человеке. Задача построения «антропологии конкретного человека» оборачивается особого рода историческим анализом и критикой самих мыслительных и культурных предпосылок, в рамках которых только и мог возникнуть такой проект, — критикой, которая, по сути дела, ищет возможность для самой мысли быть другой. Это и есть рождение того, что исследователи назовут потом «машиной философствования».
Фуко, а он сам будет называть «критическим методом», или «критической историей», или — одним словом — «археологией» [Цит. по: 153. С. 423].
Здесь я не могу удержаться от сопоставления выбора Фуко с аналогичным предпочтением моего учителя Г. П. Щедровицкого и его группы в середине — конце 1950;х гг. Следуя за А. Зиновьевым, Щедровицкий разделял в то время основные методологические установки марксизма, но одновременно сотрудничал с психологами в семинаре «Психология мышления и логики», который в Институте психологии вел П. А. Шевырев. Оказавшись перед похожим выбором — положить в основание реальности мышление, рассматривая его как культурно-историческое образование, или, напротив, мыслящего психологического субъекта, Щедровицкий ни минуты не колеблется, выбирая первое. Практически уже в конце своего творческого пути он еще раз декларирует этот выбор, полемизируя со всеми своими оппонентами. Вот соответствующий фрагмент из лекции по истории Московского методологического кружка, прочитанной Щедровицким в 1989 г.
«Сагатовский когда-то, после 1961—1962 годов сформулировал это в дискуссии со мной очень точно и прямо: «Георгий Петрович, ахинею вы несете. Есть люди, которые мыслят, но нет мышления и нет никакой деятельности». Люди — это реальность, и люди иногда мыслят, иногда действуют, иногда любят. Это и есть реальность. Психологизм здесь выражен философски предельно точно… Можно реализовать мышление на людях, а можно на смешанных системах людей и машин. Главное — что есть мышление, а на чем оно реализуется — неважно… надо понять, что мир людей, или люди как таковые с их психологией, есть вторичный мир, реализация мира мышления и деятельности, и если мы хотим закономерно все это понять и представить, мы должны рассматривать мир мышления и деятельности, а не мир людей, поскольку люди есть случайные эпифеномены мира мышления и деятельности…
Итак, основная проблема, которая встала тогда, в 50-е годы — звучит она очень абстрактно, я бы даже сказал схоластически, не боюсь этого слова, — это проблема: так где же существует человек? Является ли он автономной целостностью или он только частица внутри массы, движущаяся по законам этой массы? Это одна форма этого вопроса. Другая — творчество. Принадлежит ли оно индивиду или оно принадлежит функциональному месту в человеческой организации и структуре? Я на этот вопрос отвечаю очень жестко: конечно, не индивиду, а функциональному месту!.. Утверждается простая вещь: есть некоторая культура, совокупность знаний, которые транслируются из поколения в поколение, а потом рождается — ортогонально ко всему этому — человек, и либо его соединят с этим самым духом, сделают дух доступным, либо не соединят…
Мышление было положено как новая реальность в мир, реальность, отдельная от реальности материи и противостоящая ей. И было заявлено, что это особая субстанция, существующая в социокультурном пространстве. Тем самым был преодолен психологизм, или натурализм" [179. С. 56—57].
В целом Фуко делает похожий шаг, с одной поправкой: он не редуцирует подобно Щедровицкому субъекта к функциональному элементу деятельности и мышления, а ставит своей целью показать, что субъект не только является производным от языка и общественной практики и именно в этом своем качестве и должен быть взят в анализе, но также существо изменяющееся. Поясняя в 1981 г. свой выбор и подход, Фуко пишет: «Я попытался выйти из философии субъекта, проделывая генеалогию современного субъекта, к которому я подхожу как к исторической и культурной реальности; то есть как к чему-то, что может изменяться. Исходя из этого общего проекта возможны два подхода. Один из способов подступиться к субъекту вообще состоит в том, чтобы рассмотреть современные теоретические построения. В этой перспективе я попытался проанализировать теории субъекта (XVII и XVIII в.) как говорящего, живущего, работающего существа. Но вопрос о субъекте можно рассматривать также и более практическим образом: отправляясь от изучения институтов, которые сделали из отдельных субъектов объекты знания и подчинения, то есть — через изучение лечебниц, тюрем… Я хотел изучать формы восприятия, которые субъект создает по отношению к самому себе» [Цит. по: 153. С. 430].
Понятие диспозитива и оценка общественных феноменов. Если продумать логику творческой мысли Фуко, то можно наметить следующую схему. Осуществив кардинальный выбор в пользу культурноисторической реальности, Фуко начал с анализа того, что лежало как бы на поверхности — с языка и вещей (многие, наверно, помнят его известную книгу «Слова и вещи»), С этого возникает интерес Фуко к дискурсу, который первоначально понимался просто как высказывающая речь о вещах и мире. Однако уже в исходном пункте анализа у Фуко подразумевался особый контекст существования языка и вещей, а именно общественная практика, которая рассматривалась, с одной стороны, в историческом и культурном планах, с другой — в социальном, как отношения власти и управления. Продолжая сравнение, отметим, что Щедровицкий и его последователи под влиянием логических исследований начали с анализа знаний и мышления, которые тоже брались в контексте исторической общественной практики.
Затем вполне в духе требований кантианского разума Фуко переходит к анализу тех условий, которые обусловливали существование (жизнь) языка и вещей. Исследования Фуко показывают, что это, во-первых, правила, нормирующие высказывающую речь, во-вторых, практики, в которых вещи и правила складываются и функционируют.
Примерно в это же время представители Московского методологического кружка от анализа знаний и мышления переходят к анализу деятельности, внутри которой и знание и мышление истолковываются как элементы.
Очередной в логическом отношении шаг Фуко — переход в поисках детерминант и условий (теперь уже относительно правил и практик) к анализу властных отношений. Фуко замыкает все три слоя анализа, как я отмечал выше, на основе понятия диспозитива, который наиболее обстоятельно рассмотрен им на материале истории сексуальности. Щедровицкий замыкает свои слои исследования сначала на идею деятельности (она объявляется исходной реальностью), затем на идею «мыследеятельности», которая помимо планов деятельности и чистого мышления содержит план коммуникации (т.е. тоже некоторый социальный аспект).
Используя понятия диспозитива, дискурса, властных отношений и ряд других (одновременно конституируя их), Фуко, как я отмечал, предпринимает анализ целого ряда феноменов (безумия, сексуальности и т. п.), выступающих одновременно как культурно-исторические и индивидуально-психические образования. Например, он показывает, что современное понимание сексуальности возникает под влиянием таких формировавшихся в XVII—XVIII вв. практик, как христианская исповедь, медицинский и педагогический контроль, практика наказания преступников, причем, во всех них усиливаются репрессивные и контрольные элементы. С точки зрения Фуко, все это позволило распространить властные отношения на новые области человеческого поведения. В результате проведенного анализа Фуко удалось показать, что сексуальность не есть натуральное явление и лишь отчасти имеет биологическую природу; напротив, сексуальность — явление культурно-историческое и даже социотехническое, поскольку его определяют социальные практики и отношения. Одновременно Фуко приходит к выводу о том, что сексуальность патологична в своей основе и является инструментом власти и подавления человека. Но, как я также отмечал, «поздний Фуко» отказывается от того типа реконструкции, который наметит в зрелые годы.
Пересмотр ценностей. Движение к «философии спасения». Почему же Фуко в последний период своего творчества намечает другой способ реконструкции истории общественных и индивидуальных явлений? Можно выделить по меньшей мере два обстоятельства, обусловившие подобную трансформацию.
Первое обстоятельство было связано с тем, что, осознавая собственную общественную практику и свои ценности, Фуко решительно расстается с марксистской установкой на переделку мира. Вместо этого он вырабатывает новый подход. Фуко не отказывается нести посильную ответственность за ход общественных событий и истории, но считает, что это возможно лишь при определенных условиях. Необходимым условием общественной активности личности, утверждает теперь Фуко, является внимательное выслушивание истории и общественной реальности, чтобы понять, как и в каком направлении действовать. Только в этом случае можно надеяться вписаться в ход истории и повлиять на нее. В статье «Что такое просвещение?» Фуко пишет:
«Я хочу сказать, что эта работа, производимая с нашими собственными пределами, должна, с одной стороны, открыть область исторического исследования, а с другой — начать изучение современной действительности, одновременно отслеживая точки, где изменения были бы возможны и желательны, и точно определяя, какую форму должны носить эти изменения. Иначе говоря, эта историческая онтология нас самих должна отказаться от всех проектов, претендующих на глобальность и радикальность. Ведь на опыте известно, что притязания вырваться из современной системы и дать программу нового общества, новой культуры, нового видения мира не приводят ни к чему, кроме возрождения наиболее опасных традиций» [161. С. 52].
А вот еще одно размышление Фуко, важное для понимания его новой позиции, теперь уже о левых интеллектуалах. «Долгое время, — говорит Фуко в одной из бесед 1976 г., — так называемый „левый“ интеллектуал брал слово — и право на это за ним признавалось — как тот, кто распоряжается истиной и справедливостью. Его слушали — или он претендовал на то, чтобы его слушали, — как того, кто представляет универсальное. Быть интеллектуалом — это означало быть немного сознанием всех. Думаю, что здесь имели дело с идеей, перенесенной из марксизма, причем марксизма опошленного… Интеллектуал, дескать, выступает ясной и индивидуализированной фигурой той самой универсальности, темной и коллективной формой которой является якобы пролетариат. Вот уже многие годы, однако, интеллектуала больше не просят играть эту роль. Между теорией и практикой установился новый способ связи. Для интеллектуалов стало привычным работать не в сфере универсального, выступающего — образцом, справедливого-и-истинного-для-всех, но в определенных секторах, в конкретных точках, там, где они оказываются либо в силу условий работы, либо в силу условий жизни (жилье, больница, приют, лаборатория, университет, семейные или сексуальные отношения)». «Такая, — комментирует С. Табачникова, — развертывающаяся в конкретных областях, или, как говорит Фуко, — на „площадках“, работа позволяет или должна позволять интеллектуалу — и именно здесь для него и происходит сопряжение гражданского и собственно философского — „диагносцировать настоящее“. Что должно заключаться не в простом выделении характерных черт того, что мы такое есть, но в том, чтобы, следуя сегодняшним линиям надлома, стараться ухватить, через что и каким образом то, что есть, могло бы не быть больше тем, что есть. И именно в этом смысле описание должно делаться всегда соответственно своего рода виртуальному разлому, который открывает пространство свободы, понимаемое как пространство конкретной свободы, то есть — возможного изменения» [153. С. 391].
Второе обстоятельство было не менее существенным. Применение разработанного Фуко метода «критической истории» приводило к такой картине действительности, в которой личность и ее поведение были полностью обусловлены социальными отношениями и реальностью. Получалось, что человек может только плыть по течению, следуя неумолимым законам общественного и исторического развития. Но этот вывод из собственных исследований никак не мог устроить Фуко, который со студенческих лет не просто сочувствовал философии экзистенциализма и феноменологии, но и был весьма активной общественной фигурой. Однако и это не все. Был еще один момент, для философа, может быть, даже более важный. Представления о мире и человеке, полученные Фуко, не позволяли ему понять, а как он должен жить сам, в чем состоит его «путь к спасению».
«Философия спасения» — это такая философия, которая не только дает осмысление человеческого бытия, но и говорит, какова цель жизни любого человека, не исключая, естественно, и самого творца данной философии, а также как эту цель реализовать. Уже философия Платона может считаться такой. В ней цель жизни человека и самого Платона задается идеей обретения божественного мира идей с помощью занятий философией и совершенствования себя и окружающей земной жизни. Философия М. Мамардашвили — один из известных мне последних вариантов «философии спасения». Например, Мамардашвили в своих «Лекциях о Прусте» трактует свою философскую работу как особый духовный опыт спасения, в ходе которого он уясняет и открывает другой мир (миры) и учится жить в нем. Мамардашвили творчество Пруста истолковывает как некий духовный поиск, который проделывается Прустом на свой страх и риск, как жизненная задача; не как рассуждение, не как построение эстетической или философской концепции, а именно как задача, которую древние называли спасением.
Однако уже Аристотель, вышедший, как известно, из школы Платона, создает философскую систему, в которой нет прямого указания, как жить самому философу. И представления Фуко, развитые в основных его работах, не отвечали на подобный вопрос. Но Фуко тяготел к тому, чтобы получить ответ на вопрос о том, как ему жить, именно в собственной философской системе. В последний период своего творчества он упорно ищет решение этой задачи, которая соединяется в его сознании с проблемой преодоления человеком социальной обусловленности. Нельзя сказать, что это ему удалось, но во всяком случае несколько важных ходов он намечает.
Среди практик, конституирующих человека, Фуко находит (открывает) такие, которые помогают человеку меняться и развиваться [160]. Эти практики Фуко называет «практиками (техниками) себя», считая, что даже моральное поведение человека не могло сформироваться без их влияния. «Если придерживаться, — пишет Фуко, — известных положений Хабермаса, то можно как будто бы различить три основных типа техник: техники, позволяющие производить вещи, изменять их и ими манипулировать; техники, позволяющие использовать системы знаков; и, наконец, техники, позволяющие определять поведение индивидов, предписывать им определенные конечные цели и задачи. Мы имеем, стало быть, техники производства, техники сигнификации, или коммуникации и техники подчинения. В чем я мало-помалу отдал себе отчет, так это в том, что во всех обществах существуют и другого типа техники: техники, которые позволяют индивидам осуществлять — им самим — определенное число операций на своем теле, душе, мыслях и поведении, и при этом так, чтобы производить в себе некоторую трансформацию, изменение и достигать определенного состояния совершенства, счастья, чистоты, сверхъестественной силы. Назовем эти техники техниками себя. Если хотеть проделать генеалогию субъекта в западной цивилизации, следует учитывать не только техники подчинения, но также и „техники себя“… Я, возможно, слишком настаивал на техниках подчинения, когда изучал лечебницы, тюрьмы и так далее. Конечно, то, что мы называем „дисциплиной“, имеет реальную значимость в институтах этого типа. Однако это лишь один аспект искусства управлять людьми в наших обществах. Если раньше я изучал поле власти, беря за точку отсчета техники подчинения, то теперь, в ближайшие годы, я бы хотел изучать отношения власти, отправляясь от „техник себя“ … Я не думаю, чтобы могла существовать мораль без некоторого числа практик себя. Бывает так, что эти практики себя оказываются сцепленными со структурами кодекса — многочисленными, систематическими и принудительными. Бывает даже, что они почти стушевываются в пользу этой совокупности правил, которые и начинают выступать потом как сущность морали. Но случается также, что эти практики образуют самый важный и самый активный очаг морали, и что именно вокруг них развертывается размышление. В этом случае практики себя приобретают форму искусства себя, относительно независимого от моральных законов. Христианство весьма заметным образом усилило в моральном размышлении принцип закона и структуры кодекса, даже если практики аскетизма и сохраняли в нем очень большое значение» [Цит. по: 153. С. 431, 315].
В связи с таким решением возникают два принципиальных вопроса: разве сами «техники себя» не обусловлены и каким образом они преодолеваются? Как Фуко отвечает на второй вопрос, можно понять на материале той же морали. В одной из бесед он говорит: «Поиск такой формы морали, которая была бы приемлема для всех — в том смысле, что все должны были бы ей подчиниться, — кажется мне чем-то катастрофичным». Этому Фуко противопоставляет «поиск стилей существования, настолько отличающихся друг от друга, насколько это возможно», поиск, которой ведется в «отдельных группах» [Цит. по: 153. С. 438].
Другой шаг в поисках решения проблемы состоял в принципиальном анализе обусловленности, начиная с социальной и исторической, кончая обусловленностью в сфере мышления самого Фуко. Вслед за М. Хайдеггером Фуко не переставал подчеркивать, что истинное мышление — это всякий раз новое мышление, что правильная мысль делает невозможным мыслить по-старому. Вообще мышление для Фуко выступает в качестве той точки опоры, используя которую, человек может изменить себя, преобразовать, вывести за пределы социальной и исторической обусловленности. «Эта критическая установка, — пишет С. Табачникова, — которую Фуко называет еще „установка-предел“, с очевидностью выходит за рамки чисто эпистемологической критики или аналитики власти, поскольку анализ форм знания и институциональных практик здесь является лишь условием возможности и инструментом критики форм субъективности и их трансформации… Если для Канта, напоминает Фуко в работе „Что такое Просвещение?“, основной вопрос состоял в том, чтобы „знать, какие границы познание должно отказываться переступать“, то для него самого вопрос этот трансформируется в вопрос о том, „какова — в том, что нам дано как всеобщее, необходимое, обязательное, — доля единичного, случайного и идущего от произвольных принуждений“. Речь, стало быть, идет о том, чтобы критику, отправляемую в форме необходимого ограничения, трансформировать в практическую критику в форме возможного преодоления» [153. С. 440—441].
Но как все-таки быть с личным спасением? Прямого ответа на этот вопрос в работах Фуко я не нашел, но косвенный вроде бы состоит в следующем. Спасение, в понимании Фуко, состоит не в обретении где-то Там некой подлинной реальности, а в достойном философа и человека образе жизни Здесь. Достоинство жизни по Фуко в том, чтобы правильно мыслить, преодолевать социальную и историческую обусловленность, вносить посильный вклад в совместную жизнь людей, делать из себя своеобразное произведение искусства. «Вопрос, — писал Фуко, — состоял в том, чтобы знать, как направлять свою собственную жизнь, чтобы придать ей как можно более прекрасную форму (в глазах других, самого себя, а также будущих поколений, для которых можно будет послужить примером). Вот то, что я попытался реконструировать: образование и развитие некоторого практикования себя, целью которого является конституирование самого себя в качестве творения своей собственной жизни» [Цит. по: 153. С. 315]. Почему произведение искусства? Возможно, потому, что именно в искусстве произведению можно придать любую мыслимую форму (в данном случае придать нужную форму собственной жизни), а также потому, что в реальности искусства достижим идеал, а ведь для рациональной личности достижение идеала и есть утешительная форма спасения.