Объективное бытие и «Я-бытие»
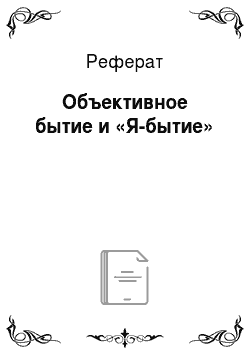
В науке пересмотр основ проявился в возникновении новых теорий (квантовой механики и теории относительности Л. Эйнштейна), ключевым понятием которых стало понятия наблюдателя, совершенно невозможное для классического подхода. Это, конечно, не значит, что объективное бытие утрачивает свой статус, но с необходимостью открываются новые его стороны, в которых нет места разрыву с бытием человека… Читать ещё >
Объективное бытие и «Я-бытие» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Именно в XX столетии эта проблема выдвинулась на передний план, хотя ее назревание чувствовалось уже в конце XIX в., особенно в творчестве Ф. М. Достоевского. Если угодно, то было предчувствие страшных потрясений, ожидавших человечество, когда потерпели крушение основанные на рационалистических посылках попытки устроительства «новой» жизни. Потерпела крах концепция объективного и безразличного к человеку бытия, овладев законами которого, человек может как высшее существо преобразовать мир по своему усмотрению. Своеобразная «религия человекобожества», по выражению С. Н. Булгакова, сначала вознесла человека, а затем низвергла его в черно-кровавую бездну, символами которой стали польский Освенцим, «леденящий Освенцим Колымы» и испепеляющий «гриб» Хиросимы. Кризис XX столетия охватил все стороны цивилизации, выросшей из «семян» Нового времени. Он властно потребовал «очеловеченья» жизни (вот парадокс: рационалистическая и гуманистическая мысль, поставившая Человека с большой буквы во главу всего, оказывается, не оставляла места для просто человека!).
В науке пересмотр основ проявился в возникновении новых теорий (квантовой механики и теории относительности Л. Эйнштейна), ключевым понятием которых стало понятия наблюдателя, совершенно невозможное для классического подхода. Это, конечно, не значит, что объективное бытие утрачивает свой статус, но с необходимостью открываются новые его стороны, в которых нет места разрыву с бытием человека. В философских концепциях XX столетия акцент делается на бытии прежде всего как человеческом существовании: бытие есть наша жизнь. Так, для В. Дильтея подлинное бытие — это целостная жизнь. М. Хайдеггер критикует подход к бытию как чему-то извне данному и противоположному субъекту. Для него проблема бытия имеет смысл лишь как проблема человеческого бытия, проблема предельных оснований жизни человека. Самым важным выражением общечеловеческого способа бытия считается страх перед ничто. Анализ бытия надо начинать с нас самих. Это сущее есть мы сами, которые в числе прочих возможностей бытия имеем возможность вопрошания: кто мы и зачем, в чем смысл нашего бытия? Тот, кто ставит вопрос о бытии, в первую очередь сам есть наличное бытие, которое имеет понимание своего бытия. Это и есть экзистенция (от лат. existentia — существование). Объективное бытие и «Я-бытие» суть разные виды бытия. Признание только одного объективного бытия равноценно самозабвению. Для человеческого бытия в экзистенциализме духовное и материальное слиты в единое целое: это одухотворенное бытие (особенно в религиозном экзистенциализме Н. А. Бердяева и др.). Главное в этом бытии — сознание временности (экзистенция есть «бытие к смерти»), постоянный страх перед последней возможностью — возможностью не быть: сознание уникальности, бесценности своей личности!
Совершенно иначе поворачивается соотношение бытия и небытия: «Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие» (Ф. М. Достоевский). В «пограничной ситуации» (на грани небытия, смерти, уничтожения личности) возникают острые переживания бытия. Они совмещаются с проблемами этическими, с моральным выбором на грани жизни и смерти, который должен делать человек. Здесь наше время вернуло нас к фундаментальным философским вопросам, которые не решит «объективная» наука: сколь угодно скурпулезное описание физических процессов и причин, их вызывающих, не раскрывает суть трагизма ситуации. Перед нами другой вид реальности, человеческий феномен. Это то, что именуется злом.
Иначе поворачивается соотношение человека и Бога. Трудно, а быть может даже невозможно, представить мыслящему человеку полноценную, преисполненную истинно высокой духовности жизнь, без признания соотнесенности его бытия с трансцендентными ценностями, предопределенными Богом и охраняемыми религией. Религиозное сознание не позволяет мыслить нашу земную жизнь как исчерпывающую полноту цели, т. е. весь смысл нашего бытия и бытия рода человеческого. Человек, следовательно, должен иметь более отдаленную цель (как свой трансцендентный сверхидеал), лежащий не в этой жизни, а за ее пределами, в ином мире. Печальный, но нередко встречающийся факт: человек слышит или интуитивно чувствует голос Бога, лишь попав в беду, будучи, к примеру, поражен роковой болезнью. В пограничной ситуации человек оказывается одиноким во Вселенной, он жаждет Бога. Религиозное переживание состоит здесь в том, что Бог выступает не как устроитель объективной Вселенной, нечто вроде великого Часовщика (образ которого рождается в физических картинах), а как единственное живое существо в мире, помимо данного человека, — во Вселенной, сжавшейся до размера больничной кровати или тюремной камеры!
Разница в осознании бытия XX столетием и веками, ему предшествовавшими, ярче всего отразилась в искусстве. Здесь интересно сопоставить творчество самого, быть может, великого экзистенциального художника XX столетия А. И. Солженицына (1918—2008) с творчеством Ф. М. Достоевского (1821 — 1881). Достоевский, безусловно, предшественник экзистенциалистов, но у его героев еще есть возможность обсуждать вопросы общего устройства мира (диалоги Ивана и Алеши Карамазовых), чисто теоретически взвешивать «слезинку ребенка» и грядущее «счастье человечества», отвергать мир, созданный Богом, и «почтительно билет Ему возвращать»[1]. Для героев Солженицына «стены мира резко сдвинулись», они тоже ведут диалоги: на барачных нарах, в тюремной камере, на койке «ракового корпуса» или во фронтовой землянке Первой мировой войны. Но не до счастья человечества им сейчас — «счастья» уже наступившего или ощутимо грядущего. Обсуждается вопрос жизни именно этого отдельного человека в этот «один день». Как быть? Можно ли применять насилие: не во имя «общей цели», а просто чтобы не дать себя убить? В чем смысл жизни для того, кто завтра обречен умереть от рака? Вопросы, которые для героев Достоевского все же можно охарактеризовать как «онтологические», для героев Солженицына бесповоротно стали «экзистенциальными».
Стоит сказать и вот о чем. Указанные особенности осознания категории бытия как «Я-бытия», или экзистенции, нельзя воспринимать просто как исторически обусловленные жестокими реальностями XX столетия. Это определенная, крайне важная ступень в познании бытия, и ушедший век в этом смысле носит переломный, переходный характер. По-видимому, имеется линия, непосредственно идущая от Ренессанса и эпохи Просвещения, и пас ждет переход к «новому Средневековью», согласно выражению, встречающемуся у Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова. Эта мысль (хоть и с противоположной по форме метафорой) непосредственно выражена А. И. Солженицыным в его «Гарвардской речи» (1978): «Если не к гибели, то мир подошел сейчас к повороту истории, по значению равному повороту от Средних веков к Возрождению, и потребует от нас духовной вспышки, подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как и в Новейшее время, растоптана наша духовная жизнь. Этот подъем подобен восхождению на следующую антропологическую ступень. И ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх»[2].
Б. Рассел в своей концепции бытия попытался снять противопоставление объективного и субъективного существования в понятии «существование вообще». По его мнению, существует только один «реальный мир» и воображение, например, Шекспира — его часть. Реальны и мысли, которые возникали у Шекспира, когда он писал «Гамлета». Точно так же реальны мысли, которые возникают у нас, когда мы читаем эту трагедию. Все это скорее лежит в русле традиционно-рационалистическом, чем философия «экзистенции», но выражает ту же тенденцию: преодоление ограничений, идущих от Нового времени.