Артистизм открытой формы.
Магия недосказанного
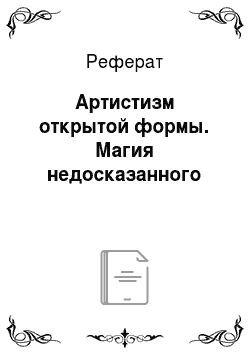
Если композитор, к примеру, далеко уходит от привычного уху, публика злится на него точно так же, как злилась бы в подобном случае на художника или писателя. В свое время чуткий Кокто излишне категорично утверждал, что в «Фаусте» Ш. Гуно любят, в то время как в «Тристане и Изольде» Р. Вагнера — занимаются любовью. Это так и нс так. С позиций художественного сознания начала XX в. действительно… Читать ещё >
Артистизм открытой формы. Магия недосказанного (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Завершая произведение и обращаясь к публике, автор словно говорит: «Вот вам мое творение, а теперь, если можете, закончите его сами, в вашем уме и сердце». Поэтика открытости и бесконечности художественного утвердилась еще со времен немецкой классической философии. Гегелевское определение прекрасного как «идеи в ее внешнем инобытии» фактически тождественно установлению Шеллинга о том, что прекрасное — «бесконечное, выраженное в конечном», а также формулировке Шиллера: прекрасное — это «свобода в явлении». Таким образом, артистизм открытой формы — достояние не только современных художественных практик, но и свойство любого классического произведения, обладающего колоссальным запасом прочности, таящего резервы смысла, предназначенные к разгадке временем.
В этом отношении настоящая трагедия, которая все время подкарауливает художника, состоит в том, что тот намерен осуществить свой идеал слишком полно. Ведь максимально и детально осуществленный замысел лишается своего чуда и тайны, переходит в область чистого интеллектуализма. Так, критики, говорящие о некоторой холодности и «сделанности» судьбоносной картины Л. Иванова «Явление Христа народу», в частности, видят причину этого в излишней прорефлектированности художественных намерений автора, на протяжении почти трех десятилетий взращивавшего, выверявшего и претворявшего свой сложный замысел. Любое «выводное знание» гасит недосказанность и переводит художественные достоинства из артистических в иной план. Возможно, был прав и русский литературовед и эстетик В. Боткин в своем отзыве о немецком поэте, когда констатировал: «У Гёте житейская мудрость очень часто сильнее его поэтического таланта… Но великий, всеобъемлющий ум его достигает как бы степени таланта»[1].
Проблема открытости и бесконечности произведения искусства имеет свое более широкое основание в неклассических философско-антропологических теориях, согласно которым сам человек — результат случайных комбинаций. Природа все время экспериментирует, разрушая старые комбинации и создавая новые. Поэтому любые попытки человека упорядочить природу противоречат ее сущности. Только деструктивность, случайность, непредсказуемость и прихотливость новых связей отражает существо природного механизма. В хаотичности человека тем самым заключена некая потенциальность органичности. Когда это осознается, на первый план выдвигается идея индивидуальной воли, не скованной никакими законами и открывающей простор для «случайности».
На степень недосказанности, открытости артистического письма влияет и переунлотненность нынешней художественной памяти человечества. Многократно исхожены возможности всех мыслимых стилей. Креативность может быть найдена там, где ее совсем не ожидаешь. Если ранее, образно говоря, здание сооружалось с помощью лесов, то ныне приходилось признать, что художник может оставить леса и убрать само здание, да так, что при этом в лесах сохранится вся архитектура. В XX в. не раз рождались манифесты, в которых подвергались сомнению ценности «культурно-дрессированного ума» нашего современника, способного легко находить отмычки к любым стилевым приемам и шифрам. Между тем в сознание человека по-иастоящему входит не то, восприятие чего почти доведено до автоматизма, а произведение, являющее собой «предмет, трудный для сборки», в котором живут зоны непроясненное™, неочевидных связей. Р. Щедрин рассказывал, как одна немецкая звукозаписывающая фирма в 2001 г. сделала ему предложение сочинить вступление к Девятой симфонии Бетховена (!). Композитор, услышав это, в первый момент подумал, что он недостаточно хорошо понимает немецкий язык продюсера. Позже, обдумав заказ, Щедрин дал согласие — и ныне мы знаем много похожих эпизодов музыкальных, театральных, литературных ремейков, когда намеренно сталкиваются разные стилистические системы, провоцируя неожиданный синтез, сопряжение разных сознаний, форм, далеко отстоящих голосов, порождающих принципиально новое художественное качество. Современному автору вполне внятно: творческий продукт должен завоевывать контакты, хотя бы и ценой недоразумения; в любом случае гораздо продуктивнее прятать свои богатства, которые откроются понемногу, с течением времени. Произведение, которое не хранит никакого секрета, отдается слишком быстро, рискует быстро отгореть, не оставив никакого следа.
Если автор стреляет слишком метко и притом из чересчур совершенного оружия, то пуля проходит навылет. Как только поэзия становится ясной для всех, она перестает быть притягательной для некоторых. В свое время еще Аполлинер говорил о свете «столь неясном, что можно взглядом проникнуть в самую глубину»[2]. Идея о том, что артистическое пребывает нс в удовольствии от гладких произведений, побуждающих к расслабленности и к отдыху, а рождается из чувства дискомфорта, беспокойства, «поэтической хромоты», а порой и небрежности — проходит лейтмотивом в эстетике Кокто[3]. Художник способен усилить это болезненное ощущение догадки, нераскрытое™. В итоге творение похоже на текст, начало которого нам известно, но продолжение которого мы не можем прочесть, словно он напечатан на оборотной стороне страницы, а читать мы можем только лицевую. Смутная изнанка создает особую энергию напряжения. И чем выше эта энергия, тем сильнее аура произведения. Кокто готов с энтузиазмом воспевать бесконечность, рождающуюся на столь редком пограничье хромоты и изящества: «Поэзия предрасполагает к сверхчеловечекому. Атмосфера сверхчувственного, которая обволакивает нас, обостряет наши тайные чувства, и наши щупальца углубляются в бездны, о каких не ведают наши официальные чувства. Ароматы, долетающие из тех недоступных сфер, вызывают ревность „официальных“ чувств. Они бунтуют. Они изнуряют себя. Пытаются совершить труд, превосходящий их силы. В человеке воцаряется великолепный хаос. Внимание! Тому, кто пребывает в подобном состоянии, все может предстать как чудо»[4].
Идеи того, что подлинный художественный потенциал сегодня враждебен всякой нормативности, что артистическое рождается на путях шероховатого письма, противостоящего отполированным временем формам, развивает и современный поэт Ш. Абдуллаев. По его словам идеальное стихотворение должно быть, прежде всего «не — идеальным, необязательным, случайным, этакий уродец. Кто знает, возможно, именно это обстоятельство — обманчивое несовершенство, бесцельность, нарочитое косноязычие — делает поэтическое произведение более живым, более естественным и приближает его к чему-то безусловному, как сама реальность? В хорошем произведении всегда найдется место, где отчетливо видны швы. Я подозреваю, что главное для поэта — не пространство слов, которое кичится своей завершенностью и волшебным звучанием, а попытка выделить какие-то невыразимые, скрытые стороны человеческой всеобщности. Очень редко нам удается ощутить некую силу, которая придает происходящему невероятную чувственную наглядность и одновременно загадочность»[5]. Действительно, манифест Абдуллаева ярко отражает ориентиры современного художественного сознания, избегающего излишней определенности и «подрессоренности» творческого высказывания. Еще в 1960;е гг. Ю. Кублановский написал такую строчку о стихах А. Тарковского — «Поэзия ваша живет в порочном круге совершенства», подчеркнув тем самым глубоко самобытную интонацию Тарковского, контрастирующую с общепринятой и привилегированной стихотворной формой советского времени.
Среди многочисленных образцов поэтики недосказанного — и творчество П. Мамонова. Каждое его явление в моноспектаклях («Лысый брюнет», «Шоколадный Пушкин» и др.) нагнетает особую атмосферу наваждения-гипноза. То, что он изображает, нельзя сконструировать и копировать в более или менее завершенной форме: можно только прожить. Болезненные движения вывернутых ног, надтреснутый голос, хрип, всхлипы, скрежеты и стоны, которые он извлекает из себя, — и начинается шаманство. Как гипнотизер с пластикой птеродактиля, птицы он ведет зрителя через свои бессонницы, животные желания и звериную тоску. Перед нами — искаженный жизнью человек, но человек — пытающийся говорить, пытающийся с напряжением произвести человеческий жест в нечеловеческом мире.
Было бы вместе с тем натяжкой сопрягать артистизм исключительно со свойством недосказанности и открытости. По-видимому, у любого воспринимающего искусство желание окунуться в новое укоренено с потребностью хотя бы контурно ощутить некий знаменатель, связывающий парадоксальные правила игры. Влечение к единству столь сильно в человеке, что художник в процессе созидания произведения старается, пусть даже через сложные опосредования, выстроить явные и неявные намеки, помогающие зрителю объединить происходящее хотя бы в воображении.
Если композитор, к примеру, далеко уходит от привычного уху, публика злится на него точно так же, как злилась бы в подобном случае на художника или писателя. В свое время чуткий Кокто излишне категорично утверждал, что в «Фаусте» Ш. Гуно любят, в то время как в «Тристане и Изольде» Р. Вагнера — занимаются любовью[6]. Это так и нс так. С позиций художественного сознания начала XX в. действительно может казаться, что французским композитором любовное чувство воссоздано языком выразительного «художественного этикета». В сравнении с ним Вагнер — безудержно выхлестывает страсть вовне, достигая предельного исступления, урагана чувств, рушащего архитектонику отдельных оперных номеров. Вместе с тем относительность такой исторической оценки Вагнера очевидна. Если сегодня, скажем, сравнить того же «Тристана» с «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича — то, уже не раздумывая, мы станем утверждать, что в «Тристане» любят, а в «Леди Макбет» занимаются любовью. В ряде центральных сцен симфонические картины пьянящего чувства у Шостаковича максимально обнажены, бесстыдны, для их воплощения современным ухом найдена лексика бушующей и чрезмерной оргиастической стихии.
Очевидно, так устроены человеческие механизмы адаптации авангардного художественного языка. Отступление от рифмы и от жестких правил ради иных интуитивных правил ведет к жесткому упорядочиванию и рифме с новыми ограничениями. Всякий раз, когда искусство приближается к высшему совершенству, именуемому классикой, оно провоцирует рождение новых импульсов художественного мышления, чьи зоны недосказанности и открытости рождаются на совсем неожиданных основаниях. В итоге понимаешь, что явление артистического максимума — эго лишь мгновение, это молодость, которая наступает и проходит в любом возрасте, в любых стилях, но никогда не бывает долговечной. Когда импрессионисты множат цветовые спектры в своих пейзажах, Сезанн проводит четкие границы и рисует вечные яблоки, которые не подточет ни один червь. Когда звуки Моцарта становятся кружевными и слишком ангельскими, приходит восстанавливающий равновесие драматизм музыки Бетховена, предельно человеческий. Когда боги Вагнера начинают тяготить музыку непомерной грандиозностью, приходит Дебюсси с лирикой затонувшего замка, склонившейся над водой лилии. Наблюдая эти исторические механизмы резкой смены приемов формообразования, в основе их всегда можно обнаружить сильную интуитивную тягу художников к тому, что могло бы ощущаться как победа новой витальности над прежней организацией.
- [1] Письма к А. В. Дружинину (1850−1863). М., 1928. С. 40.
- [2] Apollinaire G. Chroniques d’art (1902—1918). Р., 1960. Р. 48.
- [3] Оценивая поэтическое чутье Кокто, А. Карпентьер восклицал: «Кокто — истинныйСтрадивари среди барометров».
- [4] Кокто Ж. Петух и Арлекин. С. 650.
- [5] Абдуллаев Ш. Идеальное стихотворение — как я его понимаю // Абдуллаев Ш. Двойнойполдень. СПб., 2000. С. 77.
- [6] Кокто Ж. Петух и Арлекин. С. 697.