Феномен художественных стратегий.
Намеренность и бескорыстность как разные ориентиры творчества
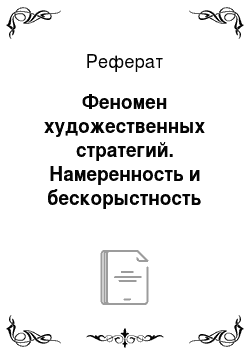
Так, Г. Шульпяков, откликаясь на публикацию мемуаров А. Пекуровской, точно воспроизвел эту систему «подстав» и «подтасовок» в создании мифопоэтических образов большинства ленинградских авторов, эмигрировавших в 1970;е гг.: «Они (за исключением Бродского) и эмигрировали как-то несерьезно — кто из-за долгов, кто — чтобы не сесть за фарцу, кто — окончательно запутавшись в своих скромных донжуанских… Читать ещё >
Феномен художественных стратегий. Намеренность и бескорыстность как разные ориентиры творчества (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Понятие «творческие стратегии», столь распространившееся в современной исследовательской литературе, без сомнения, актуализировалось в искусствознании XX в. именно по причине роста удельного веса выстроенного, выверенного, продуманного художественного поведения в целостной системе деятельности творца. Для классического искусствознания разговор о творческих стратегиях непривычен. Идеи призванности художника, возделывающего свой талант наперекор обстоятельствам и окружению, ведомого чутьем, интуицией, озарением, — общеизвестные аксиомы многовековой теории искусства. Более того, в этом смысле понятие «стратегии» применительно к творческой личности кажется не вполне корректным: оно явно включает в себя принцип расчета, принцип продумывания составляющих успеха, принцип наиболее выгодного помещения «символического капитала» и, конечно же, существенно сужает само представление об истоках и механизмах творчества («Гения без воли нет, но еще больше нет, еще меньше есть без наития»[1]).
Вместе с тем нельзя оспорить и тот факт, что реализация врожденного (сакрального!) предназначения художника всегда свершалась в пространстве конкретной культуры: во все времена творец (явно и безотчетно) выверял собственные цели и способы их достижения. Уже первые шаги любого начинающего мастера по профессиональной идентификации себя с художественной средой, со статусом деятеля искусства заключают в себе элемент выбора, а значит, и творческой стратегии. Другое дело, что «во всякой стратегии всегда смешивается сознательное с бессознательным, расчет с иррациональностью, свободный выбор с вынужденностью, которая зачастую даже не воспринимается в качестве таковой. В стратегии всегда присутствует „чутье“, интуитивное ощущение выгодных шагов; она может быть понята лишь как реальность, конструируемая историческим наблюдением», — справедливо отмечает французский историк и социолог Виала[2]. В этом смысле, даже не будучи словесно оформленными, стратегии как способ достижения максимального самоуглубления в своем творчестве (и даже как способ выживания в своей профессии) просматриваются и на этапах существования классического искусства. Таким образом, художественные стратегии не есть элемент принципиально инородный искусству; о «неестественности» художественных стратегий говорят в том случае, когда мы сталкиваемся с форсированными методами достижения успеха любой ценой, вопреки реальной значимости произведения, в опоре на новейшие PR-технологии, просчитанные приемы манипулирования общественным мнением.
Сколь ни был бы иррационален творческий порыв, спонтанная активность всегда корректируется направленной деятельностью художника. Автор отдает себе отчет в том, что он хочет создать, — на какую тему, в какой технике. Явно и имплицитно сам по себе такой акт выбора выражает собой представление художника о возможностях своего искусства, хотя бы контурные представления о его потенциальной аудитории. Одержимость творческими намерениями, соседствующая с их обдумыванием, шлифовкой, выбором между разными набросками, черновыми вариантами — все это и есть ресурсы творческих стратегий мастера. Зачастую творческий путь мастера образует траекторию, которую сам художник не в состоянии объяснить рационально. Но в любом случае следы его философских, эстетических рефлексий прочитываются в корпусе созданных произведений, в векторе творческой эволюции самого автора.
Итак, первая причина, заставившая исследователей обсуждать феномен творческих стратегий, — деятельность художника массовой культуры, породившая особый тип автора-прагматика, улавливающего потребности социальной психологии и обслуживающего сложившиеся в обществе вкусы. Вторая причина интереса к «стратегийному поведению» — усиление теоретического фермента в сознании художника высокой культуры, подтверждаемая, с одной стороны, колоссальным распространением эстетических манифестов деятелей искусства с начала XX в., а с другой — выверенностью имиджа их авторов. Речь идет об обилии программных деклараций, сопутствующих художественным произведениям, дополняющим их, а иногда — и образующих с ними единое целое, а также о продуманности художниками внешних шагов, учитывающих специфику собственной аудитории. Эти две относительно новых доминанты, прочно обосновавшиеся в системе художественной деятельности с начала XX в., с течением времени обнаружили тенденцию к усилению своего значения. Налицо — резкий сдвиг внутри самого творца, внутри его художнического сознания: адекватное постижение произведения отныне возможно только на тщательно возделанном теоретико-эстетическом фоне. Соседство невербализуемых художественных смыслов с вполне вербализуемыми манифестами, намерениями, «философиями искусства» и есть дополнительная причина, почему искусствознание усилило свое внимание к сегменту «рационализируемых» и вполне сознательных побуждений художника. Оказывается, что без новых объясняющих теорий становится невозможным адекватное восприятие произведений, и их художническая статусность в любой момент может быть поставлена под сомнение.
Как уже отмечалось, элементы осознанного и манифестируемого поведения присутствовали в искусстве и два века назад, уже начиная с романтизма. «Быть поэтом стало особой заботой, и старания писателей создавать свой собственный образ достигли ювелирной изощренности. В XIX веке искуснее всего это делал Лермонтов, а в XX веке еще искуснее — Анна Ахматова», — замечал Гаспаров[3]. Вместе с тем преднамеренность, если она выступала на первый план и начинала доминировать, всегда оказывалась губительной для творчества. Вспоминается жесткий отзыв Блока о ранней Ахматовой: «Ахматова пишет стихи так, как будто на нее глядит мужчина, а нужно их писать так, как будто на тебя смотрит Бог. Как перед Богом, то есть предстояпие»[4]. В этой связи нельзя не высказать естественно возникающее сомнение: немыслимо вести речь о творческих стратегиях как фундаментальных основаниях художественной деятельности, вписанных в нее изначально. Стратегийность художественного поведения — это явление, обрамляющее художественное творчество, но не вторгающаяся внутрь его.
Если предположить, что у обычного человека стратегия действительно состоит в планировании ситуации, структурировании се и выборе последующих шагов, то к художнику это неприменимо хотя бы потому, что в отличие от обывателя с его ведущей стратегией к адаптации, приспособлению, адекватному поведению в ситуации, занятия художественным творчеством обнаруживают тенденцию к самоотречению, к большему доверию к вымыслу, чем к «точке зрения жизни», к императивам художественного мира с его особыми законами и мифологемами.
Вместе с тем сегодня в научной литературе появилось множество исследований, абсолютизирующих социологический фактор художественного творчества, стремящихся сквозь терминологию и основные понятия из общей социологии по-новому осознать сложную проблематику процессов искусства. Так, например, Берг считает продуктивным анализировать нс «поэтику», а авторские стратегии, полагая, что всякое художественное сочинение избирает какую-то стратегию по отношению к ситуации. Действительно, как уже было сказано, можно предположить, что желание равняться на интересы и ожидания публики, т. е. считаться с рыночными механизмами, ведет к росту стратегийности художественного поведения автора (художница Т. Назаренко: «Изменились интересы моей публики и в тематике картин я иду вслед за зрителем»). Однако подобная модель художественного творчества далеко не повсеместна и не узурпирует все иные возможности сложного отношения: автор — вещь — исполнение. Если авторские стратегии и вплетены какой-то неосознаваемой побудительной силой в творчество, то в лучшем случае, возможна их «затылочная» фиксация. Проблема состоит в том, что деяния, относимые к области продуманных шагов, самим автором вовсе не осознаются как «стратегийное поведение». В большей или меньшей явленности художественных стратегий выражает себя оппозиция между высоким и массовым искусством, возрастающая в наше время.
Описывая содержание современного художественного процесса, Берг ведет речь о «символическом капитале», за который на «художественном поле» борются разные конкурентные группы и присвоение которого выражается в «овладении наиболее ценимыми и актуальными для общества символами и атрибутами»[5][6]. «Ставкой и целью этой борьбы является власть в социальном и психологическом пространстве и идея обладания». Показательно, что исследователь предпочитает говорить не о художественном явлении как таковом, а о его художественной функции[5]. В этой связи на основе анализа деятельности разных литераторов, опирающихся на несовпадающие референтные группы, делается попытка выявить «наиболее успешные авторские стратегии»[8].
Подобный угол зрения на историю отечественной литературы приводит автора к явным натяжкам. Например, к выводу о стратегии «постепенного упрощения стилистики у Ахматовой и М. Зощенко, Н. Заболоцкого и Пастернака в 40-е — 50-е годы» XX в., которая объясняется адекватной реакцией на трансформацию «читательских ожиданий и перемещения зон власти из области функционирования радикальных практик в поле массовой культуры»[9]. Последовательная реализация подобного метода «социологического подозрения» приводит к обнаружению автором стратегии «двойной бухгалтерии» у Г. Горбовского, начинавшего с неподцензурных произведений, а затем переключившегося на пространство официальной литературы. «Другие, например, А. Битов, напротив, начинали с ориентации на официальную печать, а затем пытались совместить стратегию признанного советского писателя с практикой публикации некоторых произведений в „тамиздате“. Более сложную стратегию успеха, которую можно обозначить, как присвоение символического капитала постоянного присутствия на границе, воплощал Е. Евтушенко»[10]. «Стратегия Бродского была другой, ибо ему первоначально удалось добиться успеха в пространстве неофициальной литературы и только после суда… привлечь к себе внимание как советского истеблишмента, так и Запада»[11]. А возмущение властей выходом альманаха «Метрополь» было использовано его авторами «в виде своеобразной долгоиграющей акции, позволившей завоевать максимум успеха уже в период перестройки»[12].
Невозможность согласиться с приведенными выводами связана, прежде всего, с тем, что подобный исследовательский ракурс ставит в один ряд, уравнивает деятельность художников-творцов со «ставкой ценою в жизнь» и художников-коммерсантов. Очевидно, понятие стратегии в равном смысле не применимо к тем и другим. Одни художники ходили по острию ножа, рисковали в своем стремлении быть услышанными, творить без цензурных препон; другие — либо принимали правила игры, либо, отчаявшись в художественных средствах, эксплуатировали имидж «непримиримого оппонента», старались снискать себе скандальную славу. Усилия художников разного типа базировались на совершенно противоположных творческих принципах и взглядах на роль и возможности творчества. Поэтому и сегодня повороты в разных художнических судьбах, на наш взгляд, нельзя мыслить через общий знаменатель — лишь как расчет набрать сколько-то очков, как чистую «пиаровскую» акцию.
Время — лучший арбитр художественных достижений, безжалостный к судьбе «преднамеренных» творений. Как демонстрирует новейший художественный процесс, суггестивные функции «раскрученного художника» с уменьшением активности и усердия его «референтных групп» могут быстро ветшать и рушиться. Это — неизбежный удел конъюнктурных авторов, вложивших в сложную систему собственного «утверждения-продвижения» далеко не только творческие усилия, создавшие над своим именем искусственный ореол, никак не соответствующий мере таланта. Этот феномен уже замечен и проанализирован в отечественной критике.
Так, Г. Шульпяков, откликаясь на публикацию мемуаров А. Пекуровской, точно воспроизвел эту систему «подстав» и «подтасовок» в создании мифопоэтических образов большинства ленинградских авторов, эмигрировавших в 1970;е гг.: «Они (за исключением Бродского) и эмигрировали как-то несерьезно — кто из-за долгов, кто — чтобы не сесть за фарцу, кто — окончательно запутавшись в своих скромных донжуанских списках, кто — из приключенческих соображений. Что делать — портовый город, белые ночи, бедные люди: романтика! Свой оправдательный приговор они выпишут себе сами, но уже там, в Америке, где, собственно, и произойдет их реальная демифологизация. Там из одиноких рейнджеров Невского проспекта они превратятся в большую склочную семью без гроша за душой… Но чем хуже будет им там, тем лучше будет им здесь — великий миф будет раздуваться в обратной пропорции к мелкому быту. По мере демифологизации там, здесь нам будут „впаривать“ про великую эпоху окрыленных людей, которые фланировали по Невскому, на ходу сочиняя гениальные вирши»[13].
- [1] Цветаева М. Об искусстве. С. 74.
- [2] Впала Л. Рождение писателя: социология литературы классического века // Новоелитературное обозрение. 1997. № 25. С. 21.
- [3] Гаспаров М. Л. К статье М. Берга «Гамбургский счет» // Новое литературное обозрение.1998. № 34. С. 303.
- [4] Цит. по: Цветаева М. Об искусстве. С. 88.
- [5] Берг М. Литературократия: проблемы присвоения и перераспределения власти в литературе. М, 2000. С. 9.
- [6] Там же. С. 29, 39.
- [7] Берг М. Литературократия: проблемы присвоения и перераспределения власти в литературе. М, 2000. С. 9.
- [8] Среди способов «перераспределения власти» в литературе автор выделяет два начала: стратегию «властителя дум», опирающуюся на традиционные механизмы государственнойподдержки или не-поддержки, и стратегию «манипуляторов», завоевывающих положениев литературе благодаря перемещению сакральных идеологических формул // Берг М. Литературократия. С. 23.
- [9] Берг М. Литературократия. С. 47.
- [10] Там же. С. 244.
- [11] Там же. С. 251.
- [12] Там же. С. 252.
- [13] Шцлъпяков Г. Скверный анекдот, или Воскресение Довлатова // Независимая газета. Ex-Libris. 2001. № 23. С. 2.