Лекция 2 Событийное осмысление категорий материи и идеи.
Понятие энергии.
Язык как онтологический феномен
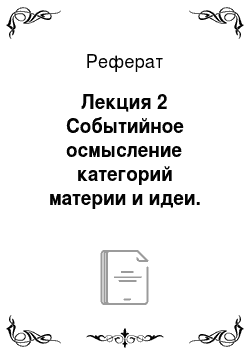
Оппозиция «материя — идея» выступает, пожалуй, наиболее ярким примером подобной трансформации. Осмысляемые в качестве «органов онтологии», и понятие материи, и понятие идеи радикально меняют свой смысл. Понятие «материя» теперь зп не указывает на «объективную реальность», область познания и преобразования, как это происходит в онтологии субъекта, но отсылает к одному из моментов моего… Читать ещё >
Лекция 2 Событийное осмысление категорий материи и идеи. Понятие энергии. Язык как онтологический феномен (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Оппозиция «материя — идея» выступает, пожалуй, наиболее ярким примером подобной трансформации. Осмысляемые в качестве «органов онтологии», и понятие материи, и понятие идеи радикально меняют свой смысл. Понятие «материя» теперь зп не указывает на «объективную реальность», область познания и преобразования, как это происходит в онтологии субъекта, но отсылает к одному из моментов моего бытия-в-мире, или — первичного переживания мира. Задача отражения полноты смысла, характеризующая это переживание, всегда предполагает обращение к тому, что этот смысл содержит, к некоей основе мира и его вещей, с которыми я уже связан. Эта предполагаемая основа и есть материя, но именно потому, что в моем бытии-в-мире мне встречаются именно вещи (res), на первом плане здесь оказывается понятие «реальность», с которым и соотносится понятие материи. Реальность же, будучи осмысляемой как «орган онтологии», и есть то, к чему обращен мой вопрос о бытии (смысле) в контексте первичного переживания мира. Выражаясь языком ранней философии М. Хайдеггера, реальность есть то, на что «ориентирована наша заботливость»[1] и что открывается нам прежде всего как «подручное»: «Если мы отвергаем превратное направление интерпретации мира, т. е. не пытаемся объяснить его самообнаружение исходя из постижения вещей, но, наоборот, понимаем последнее как укорененное в первом, то нам становится ясно, что присутствие заботливости впервые являет нам то, что мы в теоретико-познавательной ориентации называем первоначальной данностью. Опять же то, что действительно дано изначально, представляет собой не воспринимаемое, но присутствующее в озабоченном обхождении, подручное в пределах досягаемости»[2].
Иными словами, только мое уже-действие-в-мире открывает мне реальность (вещи) — как-то, с чем я соприкасаюсь в этом действии. И только в контексте действия (события) может возникнуть представление о реальности и материи — как «самих по себе». Очевидно, что эта «отсылающая» функция категорий реальности и материи может выполняться только при одном важнейшем условии: обнаруживая реальность как подручное, мыслящий должен одновременно обнаруживать и удерживать в акте рефлексии и категорию «мир» — как ту «среду смысла», в которой он уже действует. Эта необходимость «двойного взгляда» — на вещь и на то, в чем она мне открывается, — утверждается Хайдеггером и в так называемый «поздний» период его творчества: «Допуская, чтобы вещь осуществлялась в своем веществовании из мирящего мира, мы вспоминаем о вещи как вещи. Вспоминая таким образом о ней, мы позволяем мирящему существу вещи задеть нас. Вспоминая, значит думая о вещи как вещи, мы оказываемся способны к ней при-слушаться. Мы тогда — в строгом смысле слова — послушны ей. Мы оставили позади себя претензию на всякую безусловную отвлеченность от вещи»[3].
«Осуществление вещи… из мирящего мира» и есть, собственно, то, что происходит со мной до всякого противопоставления «я» и «объективной реальности», иными словами, я начинаю «отдавать себе отчет» о реальности, уже находясь во взаимодействии с вещами, будучи погруженным в «среду смысла».
Таким образом, «объективная реальность» и соответственно материя как объект познания и преобразования не есть нечто существующее «само по себе», но рождается как эффект моего бытия-в-мире. Признание этого положения является характерным признаком феноменологически ориентированной онтологии[4]. Помимо философии М. Хайдеггера к этой традиции можно причислить французских феноменологов XX столетия — Ж. П. Сартра, М. Мерло-Понти, Ж. Л. Нанси и др. Реальность, с которой я встречаюсь в моих ощущениях и которую (как это происходит в контексте онтологии субъекта) необходимо было бы рассматривать как «материальную», феноменология всегда осмысляет как момент моего переживания мира.
Именно так, к примеру, трактуется «вещь» в работе М. МерлоПонти «Феноменология восприятия»: «…вещь не является действительно данной в восприятии, она схватывается нами изнутри, воссоздается и переживается нами в той мере, в какой она связана с миром, основные структуры которого мы несем в себе, и вещь является только одним из их возможных проявлений. Человеческая жизнь „понимает“ не только определенную среду, но и бесконечное количество любых возможных окружений, и она понимает себя, поскольку она заброшена в естественный мир»349.
Таким образом, то, что в рамках классической онтологии всегда так или иначе есть до и вне человека, будь то материя как «первооснова вещей», как «материал божественного творчества» или как «объективная реальность», в онтологии неклассического типа есть продукт уже случившейся встречи «я» и «мира». Примечательно, что осознание этого обстоятельства имеет место и в науке XX в., прежде всего в лице тех ее представителей, которые пытаются рассуждать в «модусе понимания», т. е. философии. К подобным мыслителям, без сомнения, можно причислить одного из создателей квантовой физики В. Гейзенберга, констатировавшего в середине XX столетия возникновение новой ситуации в современном естествознании, в которой «…оказывается… что те составные части материи, которые мы первоначально считали последней объективной реальностью, вообще нельзя рассматривать „сами по себе“, что они ускользают от какой бы то ни было объективной фиксации в пространстве и времени и что предметом научного анализа в принципе может быть только наше знание об этих частицах… Стало быть, и в естествознании предметом исследования является уже не природа сама по себе, а природа, поскольку она подлежит человеческому вопрошанию, поэтому и здесь человек опять-таки встречает самого себя»[5]. Само же «человеческое вопрошание», в котором и предполагаются природа, материя, «объективная реальность», осуществляется только в контексте бытия-в-мире, всегда уже «заряженного» смыслом.
Итак, реальность и ее основа, «материя», это то, с чем я имею дело в рамках первичного стремления к осмысленности мира как целого. Именно поэтому ни одно из этих понятий невозможно устранить из области онтологического мышления: они не указывают на то, что еще должно быть найдено и удостоверено, но именуют то, что всегда уже предположено в любой из вариаций человеческого бытия. Но это означает, в свою очередь, что свойства того, что именуется реальностью и материей, не существуют как данные раз и навсегда, но также варьируются в зависимости от своего «событийного» контекста. Эти свойства определяются тем, какую «конфигурацию» примет отношение «человек — мир» в том или ином «событии бытия». Последнее порождает «одновременно и условия сознания, и условия „случания“ явлений, которые осознаются. Вещи не приходят в голову уже наделенными свойством порядка; человек создает условия, в которых порядок и гармония могут быть восприняты и увидены. Опыт — реальная часть действительности. .»[6]. И соответственно любое знание о материи — реальная «часть» того события, в котором бытие осмысляется тем или иным образом. Но это означает, что материя — как основа реальности — не существует, но возникает, точнее создается, в контексте того или иного события бытия. Мои действия с вещественной основой мира и мое знание о ней — явления одного порядка. Отсюда следует, в свою очередь, что осмысление материи не может быть ограничено какими-то определенными рамками (здесь в очередной раз стоит вспомнить идею «бесконечно-возможного бытия», сформулированную В. С. Библером).
Такое понимание материи — как того, что всегда обусловлено конкретным событийным контекстом, — на первый взгляд, возвращает нас к тем представлениям о материи, которые характерны для античной онтологии Единого. Материя как неоформленное, неопределенное начало мира-космоса тоже есть нечто сугубо условное — чистая возможность. Между тем, при всем сходстве этих толкований материи, здесь имеется одно принципиальное отличие: в рамках онтологии Единого и материя, и оформляющая ее идея осмысляются субстанциальным образом, т. е. как «то, что есть». Материя — при всей ее текучести, бесконечной делимости, неопределенности — все же каким-то образом существует в качестве первоосновы всего. В онтологии события же материя лишена субстанциальности, — ее оформление совпадает с возникновением в контексте события бытия. В этом отношении пеклассическая онтология очевидным образом перекликается с определенными тенденциями развития современной науки.
Речь идет в первую очередь о синергетике как междисциплинарном научном подходе, исследующем сложные открытые саморазвивающиеся системы. Сама специфика этого предмета синергетического подхода свидетельствует о принципиально новом понимании материи — как того, что подлежит оформлению, организуется тем или иным образом. Утверждаемый синергетикой неспецифический характер процессов организации сложных открытых (обменивающихся со средой энергией и информацией) систем требует признания вторичности материи по отношению к тем или иным принципам ее упорядочивания, оформления. Само понятие самоорганизации, лежащее в основании синергетического подхода, предполагает в конечном счете первичность (если нс во временном, то в логическом смысле) действия упорядочивания по отношению к тому, что упорядочивается: любое «что» следует за «как». В рамках этой позиции, предполагающей отсутствие какойлибо данности, как раз и выступающей в классических вариантах онтологии под именем материи, синергетика действительно встречается с античной идеей неопределенного «первовещества», переосмысляя ее в динамическом ключе. Так, авторы одной из первых работ, содержащих фундаментальные положения синергетического подхода, И. Пригожин и И. Стенгерс, замечают относительно одного из важнейших понятий синергетики: «Неустойчивость свидетельствует о достижении пределов ньютоновской идеализации. Нарушается независимость двух основных элементов ньютоновской динамики: закона движения и начальных условий. Закон движения вступает в конфликт с детерминированностью начальных условий. В этой связи невольно вспоминается мысль Анаксагора о неисчерпаемости творческих возможностей частиц (семян), составляющих природу. По Анаксагору, любой предмет содержит в каждой своей части бесконечное множество качественно различных семян. В нашем случае любая область фазового пространства содержит огромное множество качественно различных режимов поведения»[7].
В философии конца XX в. одной из самых значительных попыток осмысления этой «чистой неустойчивости», т. е. становления, предшествующего любой данности, является концепция французского мыслителя Жиля Делеза. В одном из своих ключевых произведений — «Логика смысла» — Делез замечает относительно платоновского разделения «вещей» и «идей»: «Обладающие мерой вещи лежат ниже Идей; но нет ли ниже этих вещей еще какой-то безумной стихии, живущей и действующей на изнанке того порядка, который Идеи накладывают, а вещи получают?»[8]. Эта «безумная стихия», или «чистое становление», и оказывается одним из «героев» «Логики смысла». Предположение чистого становления как изнанки всего существующего ставит перед философом иную по отношению к классической онтологии задачу — описать сам процесс рождения вещей. Последние обнаруживаются только в событии, которое и есть смысл: «Смысл — это то, что может быть выражено, или выражаемое предложения, и атрибут состояния вещей. Он развернут одной стороной к вещам, а другой — к предложениям. Так что мы не будем теперь спрашивать, каков смысл события: событие и есть смысл как таковой. Событие по своей сути принадлежит к языку, оно имеет существенное отношение к языку; но язык — это то, что высказывается о вещах»[9].
Таким образом, смысл, или событие, всегда опережает и то, о чем говорится (вещи), и то, «чем говорится» (язык). Смысл — это всякий раз новая «конфигурация» отношения слов и вещей, складывающаяся в контексте проблемы: «Модус события — проблематическое. Нельзя сказать, что существуют проблематические события, но можно говорить, что события имеют дело исключительно лишь с проблемами и определяют их условие»[10]. Говоря огрублснно, событие-смысл — это вопрос, который разворачивается еще до того, как его осознают и формулируют, и только в контексте этого вопроса возникает та или иная определенность, позволяющая говорить о том, что есть (о вещах), и соответственно о материи как основе вещей. Получается, что формой, дающей определенность материи, выступает здесь не что-то данное, статичное, но сама проблема, которая никогда не дана, но обнаруживается только в своем разворачивании (событии). Именно поэтому форма или идея — как разворачивание проблемы — совпадает здесь с самим событием: «События идеальны»[11].
Это означает, в свою очередь, что идея и есть тот динамический (вопросительный) контекст, в котором, собственно, и обретает смысл любое решение проблемы (любой ответ): «Даже если решение снимает проблему, она тем не менее остается в Идее, связывающей проблему с ее условиями и организующей генезис решения как такового. Без этой Идеи решение не имело бы смысла»[12]. Итак, любые утверждения могут иметь смысл только «внутри» идеи как разворачивающейся проблемы. Это относится, разумеется, и к суждениям относительно материи как основы вещей: эти суждения могут быть разными в зависимости от идеи, «внутри» которой то или иное суждение о материи имеет смысл. Так, трактовка материи как «объективной реальности» и понимание материи как неопределенного и непознаваемого «первовещества» могут быть истолкованы как возникающие в контексте разных идей. По отношению же к «безумной стихии чистого становления» невозможно говорить ни о материи, ни об идее: там царит неразличимость.
Хаотический «фон» любого существующего порядка вещей утверждается и М. К. Мамардашвили, замечающим в работе «Стрела познания»: «Не естественный порядок вещей, предваряющий эволюцию и руководящий ею (изнутри), а хаотический мир равно природы и психики, упорядочиваемый самим свободным действием»[13]. Как уже отмечалось, действие здесь — синоним события, и, возможно, слово «действие» имеет здесь определенное преимущество: речь идет именно об акте, который, в силу того что не задан никаким предшествующим смыслом, является свободным. Это действие и есть, собственно, реализация способа бытия, выраженного формулой «Быть — значит быть (всякий раз) иным».
Осмысление понятий материи и идеи в контексте действия выявляет еще один пункт встречи современного естествознания и онтологии события, а именно понятие «энергия». В физической науке фундаментальный статус понятия энергии утверждается, в частности, В. Гейзенбергом: «Можно сказать, что все частицы сделаны из одной нервосубстанции, которую можно назвать энергией или материей. Можно сказать и так: первосубстанция „энергия“, когда ей случается быть в форме элементарных частиц, становится „материей“»[14]. Энергия в физике определяется, например, как мера движения или количество механической работы, которую может совершить физическое тело. Очевидно, что подобное определение призвано не столько прояснить смысл феномена, называемого словом «энергия» (задача осмысления никогда не является для науки основной), сколько задать условия применения этого термина в языке науки. Однако в вышеприведенном высказывании В. Гейзенберга понятие энергии, определяемой в качестве «первосбустанции», употребляется уже явно в философском смысле.
Между тем именно перемещение понятия энергии в философский контекст обнаруживает серьезные трудности, связанные с его осмыслением. На первый план выходит вопрос: «Как возможно помыслить энергию в качестве первосубстанции, — ведь энергия не может быть „подлежащим“, коль скоро указывает как раз на изменение, будь то „движение“ или „работа“?» Подобная формулировка вопроса неизбежно приводит к следующему выводу: осмысление энергии возможно только несубстанциальным образом, т. е. таким способом, который предполагает существование осмысляемого феномена лишь в самом акте его осмысления. Это означает, в свою очередь, что несубстанциальное понимание энергии есть не что иное, как совпадение мысли (об) энергии — и энергии мысли. Этот момент очень точно характеризуется Г. Б. Гутнером в работе «Субъект как энергия». Связывая «действие мысли» с «обнаружением форм»[15], автор далее соотносит понятия формы и энергии: «Мы можем говорить о форме как о действительности в том смысле, в каком она понимается у Аристотеля. Уместным представляется вспомнить соответствующий греческий термин „энергия“ (evepyeia), образованный от сочетания ev ерую eivai, т. е. буквально „быть в деле“. Форма, как следует из сказанного, существует только в деле, только в том мыслительном акте, который конституирует реальность. Бессмысленно искать формы гделибо помимо действия. Форма не вещь, которая может лежать „без дела“, когда ей никто не пользуется. Формы без дела попросту не существует»[16].
Иными словами, не существует формы (= идеи) без энергии, т. е. о-существления мысли. Вспомним, однако, что автор вышеприведенной цитаты говорит о «конститутировании реальности» в мыслительном акте. Соответственно энергия есть не что иное, как-то дело (действие), в котором возникают мысль и реальность, которая мыслится, идея (форма) и материя, которая о-формляется. Понятую таким образом энергию невозможно поместить на какое-то «место» среди уже существующих вещей, — она с необходимостью будет предшествовать всему и проникать собой это все. В контексте неклассической философской мысли энергия — парадоксальное понятие, возвращающее мысль к самой себе и тем самым связывающее мысль с ее предметом, вещью. В своем лекционном курсе «Энергия» (1990) В. В. Бибихин замечает: «Энергия, которую мы назвали, не „понятие“ энергии, не „определение“ энергии, не история концепции, не что-то из истории философских учений. Мы хотим иметь дело с самой энергией. Наше дело — энергия. Но как же гак — хотим иметь дело? Энергия сама и есть дело, она давно уже делает свое дело в нас, в деле, которым мы захвачены. Энергию не нужно определять, чтобы она была; не нужно даже искать ее; она есть и задела нас давно, задействует нас»[17].
Парадокс энергии одновременно и обнаруживается, и осмысляется в акте рефлексии в момент возвращения мысли к своему несубстанциальному «основанию». Именно поэтому энергия — как категория онтологии события — имеет, по сути дела, апофатический (негативный) смысл, указывая на тот фон, на котором разворачиваются те или иные идеи (формы) и соответственно возникает (обнаруживается) тот или иной «порядок вещей». Но коль скоро этот фон не может, в свою очередь, оказаться предметом познания и осмысления (всегда оставаясь их «средой»), то энергия как раз и может быть обнаружена только в том возобновляющемся движении смещения мысли, которое выступает основным алгоритмом онтологии события. Энергия не может быть осмыслена иначе, как в качестве каждый раз новой, иной самой себе.
Совершенно не случайными в этом контексте кажутся те «приключения» слова «энергия», которые сопровождают (характеризуют) его употребление в языке современной повседневности. Такие выражения, как «энергетический обмен», «плохая» или «хорошая энергетика», или даже «энергетический вампиризм», не просто злоупотребление псевдонаучной лексикой, но нередко еще и попытка указать на ту парадоксальную «основу», которая существует (точнее, возникает, актуализируется) еще до разделения мыслящего и мыслимого. Эта попытка, разумеется, чаще всего предпринимается безотчетно, опираясь на некое ощущение «первосубстанции», точнее — «несубстанциалыюй субстанции», которая и обозначается словом «энергия». Эта безотчетность также не случайна: «Энергия из тех предельных вещей, которым определения в принципе нет. И вовсе не потому, что энергия уходит в непостижимое начало вещей, а наоборот, потому что она так близка к нам, что решение о ней проходит через человека. Энергию надо уметь чувствовать, поэтому ее нельзя заранее определить. Определение нарушит ясность, с какой энергия должна быть нам явной…»[18].
Апофатический смысл понятия энергии, который «проглядывает» во многих случаях его употребления, предполагает допущение именно того «бесконечно-возможного бытия», о котором говорит В. С. Библер. Усматривая энергию «под» определенным образом структурированной материей, «под» тем или иным «порядком вещей», мы тем самым допускаем возможность любого из этих порядков, любой структуры и соответственно любых характеристик того, что мы называем материей. Тогда материя — в том или ином «событийном контексте» — обнаруживает те свои свойства, которые соответствуют определенному способу обращения с ней. Очевидно, что этот способ может быть реализован в опоре не только на науку, но и на другие формы познавательного «освоения» мира, на что и указывает американский философ науки П. Фейерабенд: «Науку всегда ценили за ее достижения. Так не будем же забывать о том, что изобретатели мифов овладели огнем и нашли способ его сохранения. Они приручили животных, вывели новые виды растений, поддерживая чистоту новых видов на таком уровне, который недоступен современной научной агрономии. Древние народы переплывали океаны на судах, подчас обладавших лучшими мореходными качествами, чем современные суда таких же размеров, и владели знанием навигации и свойств материалов, которые, хотя и противоречат идеалам науки, на поверку оказываются правильными»[19].
В свою очередь, тематизация энергии в онтологии события оказывается неразрывно связанной с обращением неклассической онтологии к проблематике языка. Эта на первый взгляд странная, неочевидная связь обнаруживается следующим образом: обращение к энергии как к «несубстанциальному основанию» всего существующего помещает меня в то «место», где рождается одновременно и способность вещей быть устроенными каким-либо определенным образом, и моя способность осмыслять эти вещи, определять их и соответственно говорить о них. Иными словами, именно в этом «месте» обнаруживается онтологическое измерение языка.
Тематизацию языка как онтологического феномена связывают в современной философии прежде всего с именем М. Хайдеггера. Уже в «Бытии и времени» вопрос о языке связывается Хайдеггером с вопросом о бытии сущего: «В конце концов философское исследование должно однажды решиться спросить, какой способ бытия вообще присущ языку… У нас есть наука о языке, а бытие сущего, которое она имеет темой, туманно; даже горизонт для исследующего вопроса в нем загорожен… Философскому исследованию придется отказаться от „философии языка“, чтобы спрашивать о „самих вещах“, и оно должно привести себя в состояние концептуально проясненной проблематики»[20].
Именно «спрашивая о самих вещах» — таких, какими они впервые даются в исходном (всегда уже осмысленном) переживании человеком мира, мы встречаемся с языком как онтологическим феноменом. Этот феномен предшествует всякому осознанному, «инструментальному» употреблению языка, «проглядывая» в осмысленном обращении человека с вещами, которые всегда есть «вещи мира»: «Вовне-выговоренность речи есть язык. Эта словесная целость как та, в какой речь имеет свое „мирное“ бытие, становится так обнаружима в качестве внутримирного сущего наподобие подручного. Язык может быть разбит на наличные слововещи»[21].
Иначе говоря, пытаясь выйти к этому первичному переживанию мира, которое именуется Хайдеггером «присутствием», мы застаем себя уже действующими в мире, и «наличные слововещи» и есть эти действия, соединяющие меня с вещами некоей осмысленной связью. Соответственно наряду со «смыслом» и «энергией» «язык» оказывается одним из имен бытия как события. В случае с употреблением именно этого последнего имени бытия внимание обращается прежде всего на тот порядок, который возникает в событии и одновременно определяет его. В работе «Путь к языку» М. Хайдеггер называет этот возникающий в событии языка порядок «разбиением»: «Разбиение есть собрание черт той разметки, которая прочерчивает разомкнутое, открытое пространство языка. Разбиение — рисунок области языка, строение того показывания, внутри которого, исходя из того, о чем идет речь, размечены места говорящих и их речи, сказанного и его несказанного»[22].
Именно этот ракурс осмысления языка — как события установления определенного «порядка мира» — и конкретизируется в определении X. Г. Гадамером языка как «опыта мира»: «Мир есть то целое, с которым соотнесен схематизированный языком опыт»[23]. Тогда обращение к этому «схематизированному опьггу мира» — в его динамике — и становится осмыслением бытия как разворачивания смысла, или герменевтической онтологией. И поскольку это разворачивание смысла имеет характер события (вспомним еще раз: «Быть — значит быть (всякий раз) иным»), то язык здесь может быть понят только как существующий в своих конкретных вариациях. Язык, таким образом, есть нечто множественное и одновременно единое, коль скоро, вне зависимости от своей конкретной упорядоченности, он всегда является опытом осмысления мира как целого.
Сам порядок языка становится объектом осмысления еще одного значительного направления философии XX в. — структурализма. Структура как центральное понятие этого подхода и есть та или иная упорядоченность, «внутри» которой вещи и выступают как нечто «подручное» для нас, говоря языком Хайдеггера. По выражению одного из видных представителей структурализма, Р. Барта, «целью любой структуралистской деятельности — безразлично, рефлексивной или поэтической, — является воссоздание «объекта» таким образом, чтобы в подобной реконструкции обнаружились правила функционирования («функции») этого объекта"'''9. Таким образом, обращение к анализу структуры является попыткой осмысления того, что уже происходит («функционирования объекта»), но результатом этой попытки должно стать формулирование правил, которым подчиняется происходящее. Тем самым структурализм пытается выделить из живой стихии языка те «каркасы», которые тем или иным образом эту стихию упорядочивают.
Однако если хайдеггеровский призыв «прислушаться к зову языка» таит в себе опасность утонуть в этой языковой стихии, структуралистский подход к языку несет опасность иного рода: утерять то живое начало, которое и делает тот или иной порядок осмысленным. Структура, утверждаемая в качестве того, что полностью определяет собой мышление и деятельность человека, претендует на то, чтобы занять место тотального порядка «законов природы». Здесь обнаруживается тот же вопрос, который послужил точкой перехода от онтологии субъекта к онтологии события: как возможно функционирование структуры, ведь для такого функционирования необходимо го, что «находится» вне структуры?
Этот парадокс структуры оказывается в центре внимания постструктуралистского подхода в философии, сформировавшегося в последние несколько десятилетий XX в. Одной из разновидностей[24]
постструктуралистского мышления является деконструктивизм, основоположник которого, французский мыслитель Ж. Деррида, отмечает вышеназванный парадокс, указывая на то, что любая структура нуждается в устойчивом начале, или центре: «…всегда считалось, что центр, единственный по определению, образует в структуре именно то, что, управляя структурой, ускользает от структурности. Вот почему с точки зрения классической мысли о структуре можно парадоксальным образом сказать, что центр находится как в структуре, так и вне структуры. Он является центром некоторой целостности, и в то же время эта целостность — поскольку центр ей не принадлежит — имеет свой центр в другом месте. Центр — это не центр»[25]. Положение «Все есть структура» внутренне противоречиво, коль скоро может быть сформулировано только тем, кто находится вне структуры. Поэтому задачей деконструкции (как одного из способов осмысления бытия как события) становится осмысление самой структуры как того, что возникает, точнее создается, в событии упорядочивания хаоса, или возникновения сущего из «ничто»: «Если центр — это перестановка вопроса, то только потому, что он был знаком того бездонного неименуемого колодца, который всегда переименовывали; знаком проема, который книга пыталась заполнить. Центр был именем дыры…»[26].
Можно сказать, что структрализм и постструктурализм фиксируют внимание на разных аспектах языка, понятого как событие: в первом случае мысль обращена на порядок, рождающийся в этом событии, во втором — на само событие (стихию) этого рождения.
Еще один значительный проект философского осмысления языка связан с именем австрийского мыслителя первой половины XX в. Людвига Витгенштейна. В своем раннем произведении «Логико-философский трактат», опубликованном в 1918 г., Витгенштейн определяет философию как «критику языка»[27].
Сам же язык для Витгенштейна представляет собой логическую систему, описывающую реальность, точнее — задающую, конструирующую эту реальность. Определяя язык как «целокупность предложений»[28], Витгенштейн утверждает: «Предложение конструирует мир с помощью логического каркаса, и поэтому в предложении, если оно истинно, действительно можно усмотреть все логические черты реальности»[29]. Этот «логический каркас», однако, постоянно затушевывается в повседневном употреблении языка, и задачей философии становится «очищение» этого каркаса от многочисленных, искажающих его наслоений. Именно поэтому, согласно Витгенштейну, «результат философии не „философские предложения“, а достигнутая ясность предложений. Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия призвана делать ясными и отчетливыми»[30].
На первый взгляд подобная позиция не имеет отношения к тем попыткам несубстанциального осмысления бытия, о которых идет речь на этих страницах. Однако сама трактовка философии как «деятельности по прояснению предложений» заставляет задаться вопросом: на что могла бы опереться такая деятельность, по сути дела — внешняя по отношению к языку как «логическому каркасу мира»? Ответ напрашивается сам собой: «опорой» здесь может служить только то несубстанциальное основание, в котором рождается язык и мир и которое выступает в неклассической онтологии под именем «события». С учетом этого «основания», которое самим Витгенштейном не проговаривается или, точнее, проговаривается отрицательным, апофатическим образом («Трактат» закачивается словами: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать»[31]), становится понятным появление в работах так называемого «позднего» Витгенштейна понятия «языковой игры». По выражению самого мыслителя, «термин „языковая игра“ призван подчеркнуть, что говорить на языке — компонент деятельности или форма жизни»[32].
Странным образом проект Витгенштейна, первоначально нацеленный на достижение предельной точности языка, а соответственно его рациональности, смыкается здесь с таким «иррационалистическим» подходом, как философия жизни. И в одном и в другом случае «жизнь» выступает в качестве того, что уже есть, того, в чем я всегда себя уже застигаю, начиная мыслить, наконец, того, что никогда не сможет стать для меня предметом. Языковая игра не сводится к определенным, четко сформулированным правилам употребления слов, в ней всегда присутствует элемент непознаваемого, того, что сродни скорее искусству, нежели науке как теоретическому знанию. Языковой игре можно научиться (обрести навык игры), но нельзя сделать ее полностью прозрачной для познающего разума. Именно поэтому онтологический смысл концепции Витгенштейна, софрмулированной как в ранних, так и в поздних его трудах, можно представить как попытку апофатического разграничения того, что может быть сказано («видимой» части языка) и «невидимой» его части, т. е. живого контекста его употребления.
- [1] 545 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск, 1998.С. 203.
- [2] 546 Там же.
- [3] Хайдеггер М. Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие. С. 450.
- [4] Феноменология — философское направление, основоположником которогоявляется австрийский мыслитель Э. Гуссерль (1859−1938). В основе феноменологического подхода находится положение о первичности феномена как исходногопереживания сознания, в контексте которою и формируется представление о противоположности мыслящего субъекта и воспринимаемого им мира. Сам Гуссерльставит задачу феноменологическою анализа сознания прежде всею в контекстепроблематики теории познания, однако в философии XX в. на основе гуссерлев-ского подхода возникают различные варианты феноменологической онтологии. Последняя всегда так или иначе нацелена на осмысление бытия «изнутри» первичного переживания человеком мира — как необходимой полноты и целостности существования.
- [5] 550 Гейзенберг В. Картина природы в современной физике // Гейзенберг В. Избранные философские работы. СГ16., 2006. С. 230.
- [6] 551 Мамардашвили М. К. Стрела познания. С. 194.
- [7] Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. С. 331−332.
- [8] Делез Ж. Логика смысла. М., 2011. С. 10.
- [9] Делез Ж. Логика смысла. С. 36.
- [10] 555 Там же. С. 77.
- [11] Там же. С. 76.
- [12] Там же. С. 78.
- [13] Мамардашвили М. К. Стрела познания. С. 40.
- [14] Гейзенберг В. Закон природы и структура материи // Гейзенберг В. Избр.произв. СПб., 2006. С. 69.
- [15] 560 Гутнер Г. Б. Субъект как энергия // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. М., 2007. С. 495.
- [16] Там же. С. 496.
- [17] 562 Бибихин В. В. Энергия. М., 2010. С. 16.
- [18] Бибихин В. В. Энергия. С. 336.
- [19] Фейерабенд П. Наука в свободном обществе // Фейерабенд П. Избранныегруды по методологии науки. М., 1986. С. 515.
- [20] Хайдеггер М. Бытие и время. С. 193−194.
- [21] т Хайдеггер М. Бытие и время. С. 188.
- [22] Хайдеггер М Путь к языку // Хайдеггер М. Время и бытие. С. 367.
- [23] Гадамер X. Г. Истина и метод.С. 518.
- [24] Барт Р. Структурализм как деятельность // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 255.
- [25] Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 446.
- [26] Деррида Ж. Эллипс // Деррида Ж. Письмо и различие. С. 472.
- [27] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. М.: Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 19.
- [28] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. С. 18.
- [29] Там же. С. 20.
- [30] Там же. С. 24.
- [31] Там же. С. 73.
- [32] Витгенштейн Л. Философские исследования И Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. С. 90.