Богословские темы в творчестве славянофилов
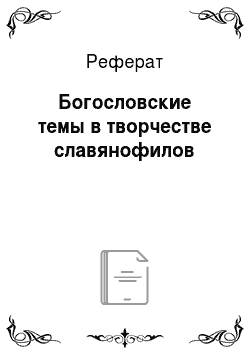
Борьба славянофилов со схоластическими установками в догматическом богословии заставляет их постоянно подчеркивать недостаточность рационализма для понимания духовной сферы. Основные истины вероучения не умещаются «в одной познавательной способности», они укореняются «в полноте разумного и нравственного бытия». Вместо одностороннего рассудочного анализа славянофилы формулируют идеал целостного… Читать ещё >
Богословские темы в творчестве славянофилов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Главные идеологи славянофильства попытались преодолеть «корпоративную замкнутость» православного богословия, в силу которой богословские темы были уделом лишь профессионалов, то есть священнослужителей и представителей духовных учебных заведений.
Особенно большой вклад в развитие православной богословской мысли внес А. С. Хомяков: его перу принадлежит целый том богословских сочинений, но дело, конечно, не только в объеме написанного. В предисловии к этому тому, который определением Синода был «разрешен к изданию и обращению» в России лишь в 1879 г., Ю. Ф. Самарин писал, что православие оставалось совершенно в стороне от «диалектического развития религиозной мысли»[1]. С его точки зрения это объясняется рядом причин: после петровских реформ происходит отход образованного общества от церкви, православие и просвещение расходятся между собою; в церковной жизни начинает господствовать «казенщина» и духовная цензура, «умственная производительность православной школы» сковывается схоластикой, она все более и более «запутывается в латино-протестантских антиномиях». Западный рационализм проявился в ней «в виде научной справы к догматам веры, в форме доказательств, толкований и выводов»[2]. Иными словами, схоластика и связанный с ней богословский рационализм приводят к размыванию оригинальных начал, присущих православной мысли. И не случайно у Самарина «Алексей Степанович Хомяков — учитель Церкви», восстанавливающий самобытность отечественного богословия.
Анализируя значимость своих идей, А. С. Хомяков отмечал, что «одобрение моего „Исповедания“ было бы для меня гораздо дороже всех моих статей»[3]. Такая оценка значения религиозного мировоззрения вытекает из принципиальных, методологических установок русского мыслителя. Для него материальные факторы общественного развития — лишь «призрак», ибо мир «есть проявление свободно проявляющегося духа». Отношение человека к «творящему духу» находит концентрированное выражение в его вере, которая предопределяет и образ мыслей человека, и образ его действий.
«Исповедание» Хомякова включает в себя принцип историзма как важнейшую основу богословских воззрений, ибо «тот не понимает настоящего, кто не знает прошедшего». В этой связи он рассматривает само уяснение религиозных истин как сложный и длительный процесс, связанный с историческими этапами развития человечества. В своих «Записках о всемирной истории» главный создатель славянофильства делит все религии на две основные группы: иранскую и кушитскую. Коренное различие этих религий определяется, по его мнению, не числом богов и не обрядами, а категориями свободы и необходимости, которые «составляют то тайное начало», около которого в разных образах сосредоточиваются все мысли человека. Кушитство строится на началах необходимости, обрекая людей на бездумное подчинение, превращая их в простых исполнителей чужой воли. Напротив, иранство — это религия свободы, она обращается к внутреннему миру человека, требует от него сознательного выбора между добром и злом. Наиболее полно сущность иранства выразило христианство. П. А. Флоренский специально полемизировал с этими тезисами Хомякова. По его мнению иранство «по характерным чертам своим весьма напоминает протестантское самоутверждение человеческого „Я“ и, во всяком случае, не ближе к православию, чем кушитство»[4]. Думается, что все же Флоренский в своих критических замечаниях не совсем прав, ибо для Алексея Степановича свобода и необходимость не являются свойствами отдельного индивида, как в протестантизме. В. В. Зеньковский справедливо писал, что у Хомякова «свобода принадлежит Церкви как целому, а вовсе не каждому члену Церкви в отдельности»[5]. Поэтому славянофильское понимание свободы отнюдь не разрушает церковности. Да, в истории иранства, как признается Хомяков, не раз «духовность терялась в совершенной неопределенности и переходила из религии в простую потребность религиозного чувства; форма исчезала»[6]. По мере развития иранского начала эти недостатки преодолевались, особенно это стало заметно в «эпоху крутого перелома», то есть после появления христианства и деятельности вселенских соборов.
Определение статуса вселенских соборов у Хомякова и других славянофилов связано с решением вопроса о соотношении Писания и Предания.
Священное Писание, то есть слово Божие, сообщает «основные данные», являющиеся для «души вне всякого сомнения» и выступающие основой веры. Однако сколь бы ни было «велико участие Духа Божия в книге Священного Писания, эта книга все-таки произведение человеческое, по крайней мере по наружности»[7]. Отсюда понятно, что Библия «не имеет очерченных границ», то есть ее положения допускают различные толкования. Это особенно ясно на примере протестантов, искажающих Писание, ибо каждый начинает понимать и толковать его «по своему произволу». В силу этого они теряют «живой смысл» Библии и, «удержав книгу, утратили Писание».
Для А. С. Хомякова Библия «не есть книга написанная», ибо то, что написано, «только видимая оболочка». Писание — это «книга мыслимая», она есть «мысль общины, или Церкви». Поэтому философ убежден, что тот, «кто отрицает Церковь, тот осуждает на смерть Библию»[8]. Католицизм, если оценивать его позицию по формальным критериям, сохраняет и Писание, и Предание, но в действительности он «потерял Истину». Все дело в том, что «Предание есть полнейшее развитие единства, основанного на взаимной любви», а католицизм отверг этот принцип, разрушил «живое общение» западного и восточного христианства. Римский престол осознал себя «совершеннолетним и заговорил от своего имени, пренебрегая чужим мнением, не требуя ни совета его, ни согласия в делах веры»[9][10]. В результате божественное Предание заменяется «человеческим мнением», его боговдохновенность теряется, а вместо нее на первый план выходят «истины», провозглашенные папой Римским.
По мнению славянофилов, правильное понимание сути христианского вероучения сохранило только вселенское православие, считающее, что божественное откровение проявляется в двух формах, ибо «Писание не иное что, как Предание писаное, а Предание не иное что, как Писание живущее». Исходя из данного понимания, эти столпы христианства не могут рассматриваться вне исторического процесса, ибо «мысль Церкви в настоящую минуту и мысль ее в минувших веках есть непрерывное Откровение»[11]. В этой связи становится понятным отрицательное отношение славянофилов к «омертвению Предания», к исключению его из реалий церковной жизни.
Предание отражает историю христианства, полную драматических событий. В первые три века своего существования оно преследовалось «ненавистью народов и кесарей», против него ополчилась «вооруженная софизмами лжефилософия», но в результате новая религия сумела завоевать империю. В этот период, как считает Хомяков, вера была прежде всего следствием «мистического дара», но после превращения христианства в государственную, массовую религию потребовали «от веры точности логического выражения». Эта задача была решена первыми двумя вселенскими соборами, принявшими символ веры и тем самым «спасшими христианское учение». Для русского мыслителя «символ Никее-Константинопольский — полное и совершенное исповедание Церкви, из которого она ничего исключить и к которому ничего прибавить не позволяет»[12]. Такая оценка догматических начал показывает, какое большое значение русские мыслители придавали православной традиции.
Интересно отметить, что П. Я. Чаадаев был антиподом славянофилов не только в области историософии, но и в отношении к христианским догматам. Для него «догмат по природе неподвижен и неподатлив» и тот, кто стремится свести христианство к этим «незыблемым началам», превращается в «прислужника догмата», оставаясь «вечно пригвожденным к своему обязательному верованию»[13]. Такой подход к оценке символа веры опирается, по мнению славянофилов, на искаженное, внеисторическое понимание Предания.
Мы уже отмечали, что бытие церковной мысли славянофилы рассматривают как «непрерывное Откровение». Следовательно, проблема догматического развития для них является одной из основных вероучительных тем.
Объясняя свою позицию по данному вопросу, И. В. Киреевский обращает внимание на то, что историческая церковь «постоянно приводит к своему сознанию вечную, неисчерпаемую истину». Этот процесс происходит во времени, следовательно, «мы… исповедуем Церковь развивающуюся». Суть этого развития не в «изобретении новых догматов» или «в отрицании положений символа веры», а в том, что «каждый догмат заключает в себе живое начало, зародыш», прорастающий «только в почве Церкви, то есть переходя в сознание людей»[14]. Киреевский понимает догматическое развитие как реализацию внутренней потенции вероучения в ходе истории. Зародыш становится все более мощным растением, и в силу этого верующие понимают догматические начала «согласно церковному разуму». Иными словами, осознание догматических истин рассматривается И. В. Киреевским сквозь призму категорий «возможность» и «действительность». Деятельность божественной благодати создает для людей возможность богопознания. Эта возможность по мере исторического процесса становится действительностью, но полностью реализоваться в земном бытии она не может.
Ю.Ф. Самарин решает проблему догматического развития несколько иначе. Соглашаясь с тем, что не могут появляться новые догматы и искажаться Никее-Константинопольский символ веры, он обращает внимание на роль «исторической обстановки» в понимании догматических начал. Поэтому «догмат не изменяется, но логическое формулирование догмата и определение отношений его к другим учениям — задача церковной науки»[15]. Следовательно, богословие должно, исходя из «обстоятельств, места и времени», излагать вечные истины веры в новой форме, созвучной изменениям, происходящим «во всех отраслях человеческого развития, в науке, в художестве, в практических применениях». Ю. Ф. Самарин объясняет догматическое развитие через категории формы и содержания: неизменное содержание веры в ходе исторического процесса требует новой формы изложения.
В своих взглядах А. С. Хомяков пытается синтезировать подходы И. В. Киреевского и Ю. Ф. Самарина. Он подчеркивает, что само понятие догматического развития «крайне неточно» выражает умственное движение, связанное с историей догмата. С точки зрения мыслителя «все тайны веры были открыты Церкви Христовой от самого ее основания». Однако он категорически не согласен с теми, кто на этом основании делает вывод о ненужности «последующей работы», напротив, он убежден в необходимости деятельности, продолжающейся во все века, по усвоению истин Откровения. Истины веры неизменны, но выражение их «не может не изменяться сообразно с развитием аналитического слововыражения и с характером умственных приемов каждой эпохи»[16]. Следовательно, историзм в понимании догматов требует новой формы изложения, соответствующей запросам времени. В этом пункте взгляды А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина совпадают.
Однако А. С. Хомяков особо подчеркивает, что совершенствование формы выражения догматических начал осуществляется постоянно, ибо она «по самому существу всегда недостаточна». По его мнению тот, кто принял бы «аналитическое движение в церковной терминологии за развитие Церкви, тем самым погрузился бы в рационализм»[17]. Но опасность подобного рода сохраняется, ибо «научное движение церковной терминологии» приводит к «выражению истины в формулах более строгих и более определенных». В этой связи легко усвоение догматических начал свести к деятельности разума, ищущего «логическую аргументацию для веры».
Поэтому А. С. Хомяков, для того чтобы более точно представить роль человеческого мышления в уяснении догматов, прибегает для анализа этих проблем к категориям возможности и действительности, то есть ему не чужда позиция И. В. Киреевского поданным вопросам. А. С. Хомяков также считает, что истины веры — это «сокровище глубокой и невыразимой мысли, присно хранимое Церковью в своих недрах»[18]. По мере исторического развития возможность богопознания выражается в человеческих словах, но все подобного рода построения могут только служить «намеками на идею, но не определениями ее». Действительное содержание религиозных истин в полном объеме людям недоступно, ибо «слово человеческое не в состоянии ни определить, ни описать их; оно может только возбудить в разуме, т. е. в мире человеческом, мысль или порядок мыслей, соответственных реальности мира Божественного»[11]. Деятельность рационального мышления необходима, без него христианская мысль была бы «простым сохранением древних формул», но она никогда не может стать критерием религиозной истины.
Борьба славянофилов со схоластическими установками в догматическом богословии заставляет их постоянно подчеркивать недостаточность рационализма для понимания духовной сферы. Основные истины вероучения не умещаются «в одной познавательной способности», они укореняются «в полноте разумного и нравственного бытия». Вместо одностороннего рассудочного анализа славянофилы формулируют идеал целостного познания. Если рационализм превращает догмат в объект «внешнего почитания», в «логическую доктрину», то подлинное православие видит в нем «жизненную истину». Истинная вера, с их точки зрения, «не только мыслится или чувствуется, но и мыслится, и чувствуется вместе; словом — она не одно познание, но сразу познание и жизнь»[20]. В этой формуле восстанавливается святоотеческая традиция в понимании символа веры. Естественно, отношение славянофилов к догматическим трудам православных богословов 40—50-х годов XIX в. было достаточно прохладным, особенно резкие возражения вызывали работы митрополита Макария (Булгакова), и прежде всего за его увлеченность схоластикой.
Славянофильское целостное познание часто понимают как последовательный иррационализм, но это не так. Именно А. С. Хомяков, И. В. Киреевский и другие одними из первых поставили в России вопрос о богословском творчестве. Поскольку христианство выражается «в логической форме, которую мы называем «теологией», то ее совершенствование — «законная задача разума». Они выступали против консерватизма современного им православного духовенства, отрицавшего всякую оригинальную богословскую мысль. По их мнению в религиозной сфере много таких положений, по которым церковь своего мнения не сформировала, и каждый верующий вправе сам высказаться по этим проблемам. Более того, как подчеркивал А. С. Хомяков, апостолы свободное исследование веры «даже вменяли в обязанность»[21].
В этой связи встает задача определения соотношения свободы богословского исследования и догматической обязательности. История церкви свидетельствует о том, что религиозные мыслители «свободно вносят в общий труд дань своих более или менее удачных усилий», при этом, встав на путь творчества, они «не знают над собою никакого внешнего авторитета». Но, отвергая принуждение как путь к «единству в вере», славянофилы не приемлют и понимание богословского творчества как «опознания разногласий». В этом случае церковь превращается «в пустой звук», в собрание людей «разнообразных убеждений». Следовательно, «разумная свобода» есть не анархическая борьба «всех против всех», свое оправдание она находит в «единомыслии с Церковью».
Анализ богословских воззрений славянофилов показывает, что они стремятся синтезировать догматическую обязательность с богословским творчеством. В этой связи мы никак не можем согласиться с позицией современного польского исследователя Пшебинда Бжегожа, который считает, что хотя «история русского теизма в XIX в. начинается с Чаадаева, Киреевского и Хомякова»[22], но адекватно это учение якобы мог выразить лишь «басманный философ». С его точки зрения Чаадаев сумел «реализовать теизм в его натуральном значении» в силу того, что «принял консервативно-христианскую систему ценностей более в духе Билланша и Бональда, чем как-то связанную с православием»[23].
Славянофилы же создали «имманентный» вариант теизма, лишающий «человека возможности осуществить индивидуально-коллективный акт восхождения к подлинности бытия Божьего»[24]. В действительности именно Чаадаев с его адогматизмом, с отказом от православного Предания, с преобладающим рационализмом отходит от принципов теизма. В то же время А. С. Хомяков, как справедливо подчеркивает Г. Флоровский, несмотря на свое новаторство, «остается верен именно основной и древнейшей отеческой традиции»[25]. А именно патристика создала наиболее адекватную форму выражения принципов христианского теизма.
Итак, А. С. Хомяков и славянофилы внесли в рассмотрение догматических начал православия ряд новых моментов: они выделяют в Символе веры неизменную сущность и подвижную форму ее выражения (или потенциальную и реальную возможность в понимании догмата); обращают особое внимание на единство истин веры и «жизненных дел». Наконец, их понимание традиции дает возможность сочетать догматическую обязательность с богословским творчеством.
Несмотря на новые моменты, отличающие славянофильское учение от догматических построений — митрополита Макария (Булгакова), архиепископа Антония (Амфитеатрова) и других, оно не разрывает связь с традицией, а, напротив, ее восстанавливает. Действительно, преодоление схоластических влияний, жизненное познание веры, то есть возвращение на «забытый путь опытного богопознания», — эти установки созвучны духу восточной патристики. А главное — славянофилы вносят историзм в понимание догматических начал. В силу этого догмат из застывшей схемы превращается в живой и подвижный инструмент церковного сознания. Естественно, и богословие в этом случае не сводится к «охранению вечных истин», а на него возлагается задача ответить на вызов времени, то есть создать такую форму теизма, которая бы была понятна современникам.
- [1] Самарин Ю. Ф. Предисловие к первому изданию богословских сочинений А.С. Хо-мякова//Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 2. М., 1900. С. III.
- [2] ' Самарин Ю. Ф. Предисловие к первому изданию богословских сочинений А.С. Хо-мякова//Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 2. М., 1900. С. XXIII.
- [3] Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 8. М" 1904. С. 167.
- [4] Флоренский П. А. Около Хомякова (критические заметки). Сергиев Посад, 1916.С. 22.
- [5] Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1.4. 1. С. 203.
- [6] Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 5. С. 289.
- [7] Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 79.
- [8] Там же. С. 116— 117.
- [9] Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 255.
- [10] Там же. С. 47.
- [11] Там же. С. 184.
- [12] Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 9—10.
- [13] Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 195.
- [14] Киреевский И. В. Поли. собр. соч.Т. 2. М., 1911. С. 291.
- [15] ' Самарин Ю. Ф. Предисловие к первому изданию богословских сочинений А.С. Хо-мякова//Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 2. С. VII.
- [16] Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 188.
- [17] Там же. С. 189.
- [18] Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 190.
- [19] Там же. С. 184.
- [20] Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 50.
- [21] Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 53.
- [22] ‘ Przebinda С. Ob Czaadajewa do Bierdiajewa. Sporо boga i czlowika w mysli rosyjskiej (1832—1922). Krakow, 1998. S. 94.
- [23] Там же. С. 101.
- [24] Там же. С. 54.
- [25] Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 278.