Онтология единого.
Введение в онтологию
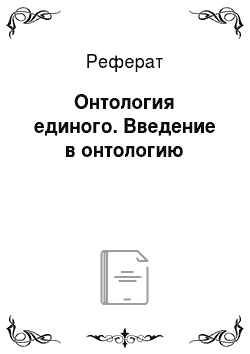
Единое как постоянный «фон» мышления просто делает ненужным построение какой бы то ни было системы, поскольку является тем «местом», где бытие и мысль совпадают, точнее, еще и уже не разделены. Система (как конструкция, скрепляющая отдельные положения) оказывается здесь попросту ненужной, ведь сами эти положения, рождаясь в области исходного единства человека и мира, уже связаны, и не логической… Читать ещё >
Онтология единого. Введение в онтологию (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Лекция 1 Бытие как причастность Единому
Переживание бытия как задачи, как стремления к обретению полноты всегда так или иначе связано с ощущением того, что предмет стремления (полнота смысла или целостность мира) всегда уже как-то есть, иначе не было бы направленности стремления. Иными словами, сам вопрос о бытии возникает, оформляется только на фоне исходной интуиции единства мыслящего с миром. Именно эта интуиция и выступает смысловым ядром того способа понимания мира, который лежит в основе культуры Античности и который можно было бы назвать онтологией Единого. Это ощущение исходного, уже-данного единства всего существующего, выступая в качестве условия вопроса о бытии, одновременно является и неким предварительным ответом на этот вопрос: «Что значит быть?»: «Быть — значит быть единым, принадлежать к этому исходному единству». Каким же образом этот набросок понимания бытия позволяет мне мыслить себя и мир в целом? Попробуем выделить по крайней мере основные особенности мышления, базирующегося на этой интуиции.
Первая из этих особенностей связана с характером самой первичной операции, посредством которой и осуществляется «схватывание» мира в целом. Эта операция, выступая своего рода алгоритмом, воспроизводящимся так или иначе в любом из опытов античного (прежде всего греческого) философствования, может быть обозначена как «возвращение к началу». Характеризуя онтологический смысл учения пифагорейцев, А. В. Ахутин отмечает: «В пифагорейском учении о чете и нечете, развившемся и конкретизированном в учении о пропорции (avaXoyta), дано понятие о способе, каким начало производит становящееся. Всякое происхождение понимается пифагорейским умом как воспроизведение (pipripa) некоторого исходного образца по подобию, в некотором пропорциональном отношении (ava-A.oyia) — производство дубликата, копии. Можно даже решиться сказать, что все античное теоретизирование есть не что иное, как разработка теории подобия, подобных преобразований, аналогичного воспроизведения подобной единицы»[1]. Понятие единицы, Одного, Единого выступает здесь средством (инструментом), позволяющим перенести внимание мыслящего с конкретных вещей, явлений, процессов, встречающихся ему в мире, на то невидимое, что и позволяет именовать все это многообразие существующим, тем, что есть. Таким образом, понятие Единого есть прежде всего средство установления единства мыслящего ума — как важнейшего условия реализации, осуществления бытия. Для того чтобы мысль вообще была — и соответственно было и все остальное (в полноте смысла), — прежде всего необходима собранность, сосредоточенность ума, в котором (на фойе которого) только и появляются предметы мысли.
Итак, Единое — как средство «сведения мысли в точку» — выступает «инструментом», при помощи которого полагается граница между тем, что мыслится, и условием этого мышления. Весьма точно и лаконично поясняется необходимость этого условия в диалоге «Парменид», принадлежащем одному из самых значительных мыслителей греческой античности, философу IV в. до н. э. Платону: «…если единое не существует, то ничто из иного не может мыслиться ни как одно, ни как многое, потому что без единого мыслить многое невозможно»[2]. В этих словах, однако, обнаруживается наряду с неустранимостью и неизбежная парадоксальность понятия Единого: оно необходимо именно для того, чтобы мыслить многое. Положение «Все есть Единое» характеризуется изначальной двойственностью: мир во всем многообразии его вещей един, но и каждая вещь в конечном счете — Единое, а не какой-то его фрагмент. Именно эта интуиция проступает в словах греческого мыслителя V в. до н. э. Анаксагора: «…любая частица — смесь, подобная Вселенной»[3].
Исходный парадокс, характеризующий понятие Единого, порождает и вторую особенность основанного на этом понятии способа мышления. Эта особенность касается того образа мира, который выстраивается на основе тезиса «Быть — значит быть Единым». Самую главную характеристику этого мира можно опять же сформулировать только парадоксальным образом: подвижный покой. В самом деле, если все есть Одно, то ни одно состояние мира никогда полностью не совпадет с этим исходным единством: последнее, для того чтобы быть всем, не должно быть чем-то. Это означает, что Единое — как начало всего существующего — есть только в своих бесконечных превращениях, трансформациях, переходах из одного состояния в другое. Таким образом, ни одно из этих состояний не может быть окончательно зафиксировано, ведь в таком случае оно перестало бы быть состоянием Единого, т. е. того, что включает в себя все возможные состояния. В то же время трансформации Единого, образующие мир, всегда уже както упорядочены, иначе их нельзя было бы определить как переход от одного состояния к другому. Иными словами, мир как существующее (бытийствующее Единое) — это соединение движения и покоя, неупорядоченности (неопределенности) и порядка.
Греческая мысль изобрела особое понятие, в котором «схватывается» это парадоксальное соединение: «фюсис» — слово, обычно переводимое как «природа». При этом речь, конечно, не идет о природе как об окружающей нас «объективной реальности», — «фюсис» выступает как направленность движения, в ходе которого Единое принимает различные состояния. Вот как поясняет именно этот, греческий смысл понятия «природа» А. В. Ахутин: «„Фюсис“ как начало движения и покоя представляет собой как бы среднее (средний термин) между метафизическим определением бытия как неподвижно мыслимого и неопределенным хаосом изменений. „Фюсис“, говоря в категориях платоновского „Парменида“, — это „единое-когорое-есть“, или соответственно многое, поскольку оно определяется как многое единого (одной „сущности“, поскольку, иными словами, оно устраивается, складывается в единстве космоса»[4]. Если же вспомнить о том, что философские понятия (категории) есть не что иное, как «инструменты» решения основной человеческой задачи — обретения полноты смысла, то проясняется и конкретная функция, выполняемая в рамках этой задачи понятием «фюсис».
«Природа» любой существующей вещи, явления, процесса — это то, что изначально связывает меня (осмысляющего мир) с ними (ведь это превращения одного и того же), и то, что разделяет. Природа-фюсис — это то, что я воспринимаю как свою возможность (я ведь тоже внутри этого «текучего» мира, где все превращается во все) и одновременно то, что мне необходимо представить как что-то готовое, данное, то, что открывается моему мысленному взгляду: «„Фюсис“ есть именно неподвижное начало движения, стало быть, начало его постоянства, единообразия, правильности и т. д. Словом, „фюсис“ — это то самое неподвижное, сверхчувственное бытие, но понятое как определение движения и явления, как их организующая и формирующая цель (ей поэтому близки по смыслу понятия „космос“ и „логос“»[5]. Эти понятия — «фюсис», «космос» («термин древнегреческой философии для обозначения мира как структурно организованного и упорядоченного целого. В дофилософском употреблении значение слова „космос“ варьирует от внешне зримого, тектонически организованного „строения“, „украшения“, „наряда“ до понятия внутренней структуры…»[6]) и «логос» («термин древнегреческой философии, означающий одновременно «слово», или «предложение»,.
«высказывание», «речь», и «смысл», или «понятие», «суждение», «основание»; при этом «слово» берется не в чувственно-звуковом, а исключительно в смысловом плане, но и «смысл» понимается как нечто явленное, оформленное и постольку «словесное»"[7]) близки по смыслу именно в контексте задачи осмысления-осуществления бытия. В каждом из этих понятий «содержится» то, что одновременно и переживается, и мыслится. Наиболее «концентрированным» выражением этого единства выступает знаменитый тезис греческого мыслителя VI в. до н. э. Парменида:
Одно и то же — мышление и то, о чем мысль, Ибо без сущего, о котором она высказана, Тебе не найти мышления[8].
Вся трудность понимания этого тезиса для современного человека заключается именно в его привычке разделять и даже противопоставлять друг другу мышление и «то, о чем мысль». Это не означает, однако, что тезис Парменида представляет собой нечто чуждое и принципиально непонятное для нас, сегодняшних. Дело в другом: этот тезис выражает нечто настолько близкое и привычное для нас, что оно ускользает от нашего внимания. Именно переживание исходной полноты, побуждающее меня к тому, чтобы понять, осмыслить мир как целое, и есть тот момент единства мышления и того, «о чем» оно, т. е. бытия, которое предшествует любой разделенности.
Таким образом, мир как «подвижный покой» открывается мыслящему только как переживание этого парадокса: я един с миром, но именно поэтому должен выявить смысл этого мира, а значит — отделить себя от него. Это означает, что мир-космос — как завершенное, гармонически упорядоченное целое — никогда не может быть полностью завершен: тогда исчезло бы и то, что подвергается оформлению в процессе этого упорядочивания, — исходное, «непрозрачное» для разума переживание моего единства с миром. Иными словами, мир-космос, для того чтобы существовать, нуждается в неоформленности хаоса: оппозиция «хаос — космос» — одна из важнейших в древнегреческой философии и культуре в целом. Такое понимание мира — как подвижного отношения хаоса и космоса, беспорядка и порядка — предполагает вполне определенные пути его познания, с которыми связана третья особенность данного способа мышления-бытия. Познать мир как становящийся порядок означает прежде всего упорядочить собственный ум, встроиться в это движение космического целого. Само разумное, упорядочивающее начало (в силу единства всего существующего) тоже принадлежит миру, а значит, и тому, кто, находясь в мире, пытается его уразуметь.
Поэтому познание здесь не что иное, как прояснение этого изначального единства посредством обращения к тому разуму, который действует и в мире, и в человеке. Собственно, на пути этого прояснения как раз и обнаруживается, что разум — именно то место, в котором объединены мысль и то, «о чем» она. Открытие этого места в себе самом означает, следовательно, обнаружение начала всего существующего — и как основания, и как «точки отсчета» космического движения. Вот как описывается это начало в учении одного из величайших представителей греческой философии Аристотеля, мыслителя IV в. до н. э., ученика и младшего современника Платона: «…есть нечто, что движет, не находясь в движении, нечто вечное и являющее собою сущность и реальную активность. Но движет так предмет желания и предмет мысли: они движут, [сами] не находясь в движении. А первые (т. е. высшие) из этих предметов, [на которые направлены желание и мысль], друг с другом совпадают. Ибо влечение вызывается тем, что кажется прекрасным, а высшим предметом желания выступает то, что па самом деле прекрасно»[9]. Разум, таким образом, это одновременно начало мира в смысле истока (то, что движет все остальное) и конец мира в смысле цели (цель познания мира — достижение того совпадения мысли и ее предмета, которым и характеризуется разум).
И человек, и мир в своем изначальном единстве располагаются между этими двумя «полюсами», никогда не совпадая ни с одним из них. Поэтому разум как таковой не может оказаться в распоряжении человека, дело обстоит как раз наоборот: выявляя в себе в ходе познания это разумное начало, человек обнаруживает его бесконечное превосходство по отношению к человеческим возможностям: «Так вот, от такого начала зависит мир небес и [вся] природа. И жизнь [у него] — такая, как наша, — самая лучшая, [которая у нас] на малый срок. Мышление, как оно есть само по себе, имеет дело с тем, что само по себе лучше всего, и у мышления, которое таково в наивысшей мере, предмет — самый лучший [также] в наивысшей мере. При этом разум, в силу причастности своей к предмету мысли, мыслит самого себя: он становится мыслимым, соприкасаясь [со своим предметом] и мысля [его], так что одно и то же разум и то, что мыслится им. Ибо разум имеет способность принимать в себя предмет своей мысли и сущность, а действует он, обладая [ими], так что-то, что в нем, кажется, есть божественного, это скорее самое обладание, нежели [одна] способность к нему, и умозрение есть то, что приятнее всего и всего лучше»[10].
Что же выступает здесь под именем умозрения, которое, по утверждению Аристотеля, «приятнее всего и всего лучше»? Умозрение — как способность видеть разумом — это, собственно, и есть осуществление бытия посредством его осмысления. «Выхватывая» взглядом какую-либо вещь или явление, делая ее различимой на фоне неопределенного, хаотичного единства мира, всеобщий разум тем самым вызывает эту вещь или явление к существованию. Можно сказать, что, упорядочивая неопределенное единство в ту или иную вещь, всеобщий разум сам становится этой вещью, обеспечивая ее устойчивое существование. Поэтому и для человека, познающего мир посредством приобщения к этому единому разуму, обрести знание о той или иной вещи означает в каком-то смысле уподобиться ей. Возможность такого уподобления заложена в самой интуиции изначального единства мира. Стать подобным предмету своего познания — значит обнаружить в самом себе те «элементы» или «начала», которые и объединяют познающего с этим предметом. Наиболее отчетливым образом эта интуиция исходного родства познающего и познаваемого выражена в следующих строках философской поэмы «О природе», созданной греческим мыслителем V в. до н. э. Эмпедоклом:
Разум растет у людей в соответствии с мира познаньем.
Землю землею мы зрим и воду мы видим водою, Дивным эфиром — эфир, огнем же — огонь беспощадный, Также любовью любовь и раздор ядовитым раздором.
Ибо знай, что во всем есть разумности доля и мысли[11].
Именно «доля разумности» как определенная упорядоченность единого начала мира и есть то, что обеспечивает это уподобление самой вещи и мысли о ней. Именно потому, что я уже както ощущаю в себе и твердость земли, и текучесть воды, и жар огня, и «летучесть» воздуха, я могу исследовать и эти «элементы» мира, и все то, что из этих «элементов» состоит. С другой стороны, речь идет именно об уподоблении, а не о полном слиянии познающего и познаваемого. Именно поэтому человеческое знание никогда не может характеризоваться тем полным обладанием своим предметом, которое, по Аристотелю, свойственно всеобщему разуму. Исходное единство всего существующего оборачивается не только бесконечными трансформациями этого единства в мире, но и столь же бесконечными (точнее, безостановочными) попытками познания мира, коль скоро обрести знание означает уподобиться тому, что познается, а это можно сделать каждый раз только по отношению к чему-то одному. Онтология, смысловым ядром которой является интуиция Единого, предполагает особый тип мышления, который можно было бы назвать «точечным». Любое положение в контексте подобного мышления непосредственно восходит к своему источнику (неопределенному Единому), не включаясь в какую бы то ни было цепочку рассуждений, в некую общую систему знаний о «том, что есть».
Единое как постоянный «фон» мышления просто делает ненужным построение какой бы то ни было системы, поскольку является тем «местом», где бытие и мысль совпадают, точнее, еще и уже не разделены. Система (как конструкция, скрепляющая отдельные положения) оказывается здесь попросту ненужной, ведь сами эти положения, рождаясь в области исходного единства человека и мира, уже связаны, и не логической, а онтологической (бытийной) связью. Таким образом, выражение «картина мира» оказывается в рамках этой онтологической позиции чем-то совершенно бессмысленным: познающий здесь всегда уже находится внутри мира и именно поэтому не может взглянуть на него отстраненно. На первый взгляд это утверждение противоречит тому обстоятельству, что произведения первых греческих философов — так называемых «фисиологов» — представляют собой повествования о происхождении и устройстве мира-космоса. Однако здесь необходимо учитывать один весьма существенный момент: в отличие от современных фундаментальных естественно-научных концепций, имеющих целью познание и описание природы, независимой от человека, учения греческих «фисиологов» следует рассматривать скорее как зашифрованный в философско-поэтических текстах способ осмысления себя самого в неразрывной связи с миром — путем выхода к тому «месту» (началу), где человек и мир еще не разделены. Этим началом как раз и выступает точка сопряжения ума (всеобщего разума) и того неопределенного единства, которое этот ум упорядочивает. Обнаруживая эту сопряженность в самом себе, человек обретает источник той гармонии, которая обеспечивает и его существование — в качестве разумного существа, и существование мира в целом.
Самое главное здесь заключается в том, что эта гармония должна не просто мыслиться, но осуществляться на деле. Иными словами, познание мира как «подвижного покоя», мира как круговорота бесконечных проявлений единого начала возможно только событийным образом, в «режиме реального осуществления», в живом процессе о-смысления всего существующего. Знание, которое человек обретает в этом процессе, не может быть оторвано от своего «носителя», не может быть «упаковано» в форму безличных текстов, например учебников. Такое знание передается главным образом в непосредственном личном общении ученика и учителя, где основной целью является достижение состояния мысли как непосредственной гармонической связи с миром. Именно эта связь выступает в греческой культуре под именем «логоса», находящегося одновременно в основе мироустройства и в основе понимания этого устройства человеком. Открывая в себе это разумное начало, человек и обретает способность видеть мир как упорядоченное целое, в котором каждая вещь на своем месте, а все происходящее не случайно.
Отсюда понятно, почему логос в учениях греческих мыслителей — божественное начало, позволяющее человеку возвыситься над своей частичной, смертной природой. Именно так трактуется логос в учении греческого философа VI—V вв. до н. э. Гераклита из Эфеса. Согласно свидетельству римского мыслителя Секста «…этот общий и божественный разум, через участие в котором мы становимся разумными, Гераклит называет критерием истины. Отсюда заслуживает доверия то, что является всем вообще (ибо это воспринимается общим и божественным разумом), а то, что является кому-то одному, то неверно по противоположной причине»[12]. Эта всеобщность логоса, однако, отнюдь не означает его общедоступности. Совсем наоборот: «…хотя логос присущ всем, большинство живет так, словно [каждый] имеет свое особое разумение»[13].
Таким образом, мысль здесь и есть не что иное, как действие, позволяющее перейти от «своего особого разумения» к логосу, который «присущ всем», но чаще всего оказывается скрытым. Это означает, в свою очередь, что познание-осмысление в контексте онтологии Единого выступает одновременно и процессом формирования (о-формления) самого познающего. Путь к истине, открывающей смысл всего существующего, эго путь к себе, к тому разумному началу, которое делает меня — мной, а мир — упорядоченным прекрасным целым (космосом). Иными словами, осмысление мира как «определенного Единого» предполагает понимание человека как существа, которое само себя о-формляет, устанавливая себе предел. Собственно, в этом о-формлении и осуществляется бытие, составляющее, согласно Пармениду, «одно» с мыслью. Оппозиция «хаос — космос» — то, что устанавливается внутри человека, который, таким образом, оказывается полем битвы порядка и беспорядка, красоты и безобразия. Во мне — так же как и в мире в целом — есть и то и другое. Но я не произвольным образом начинаю эту борьбу. Собственно, меня как такового и вовсе нет — с одной стороны, есть хаос стихийных сил, всегда грозящих разрушить мою целостность, с другой — единое разумное начало, которое тоже не является моим: напротив, открывая для себя истину «Бытие и мысль — одно», я обнаруживаю свою принадлежность всеобщему разуму. А значит, обнаруживаю и то зерно смысла, которое прорастет затем разумным существованием.
Иными словами, человек здесь — то существо, в котором всегда уже действует разум, которое, в отличие от всех других существ («природ»), отдает себе в этом отчет и, побуждаемое разумом, стремится расширить его владения до мира в целом. Местом, где происходит встреча человека с разумным началом, является собственно душа, которой, по выражению Гераклита, «…присущ самообогащающийся логос»[14]. Таким образом, душа человека не просто место встречи разумного и внеразумного начал самого мира, это место роста, расширения, самообогащения разумности и смысла, роста, который никогда не может прекратиться. Деятельность души, таким образом, есть не что иное, как беспредельное о-пределение, упорядочивание себя и мира. Парадоксальным образом человек — это существо, которое, находясь в мире, совпадает с ним. Именно поэтому, согласно Гераклиту, «границ души тебе не отыскать, по какому бы пути [= в каком бы направлении] ты ни пошел: столь глубока се мера»22. Комментируя это положение Гераклита, А. В. Ахутин замечает: «„Логос“, т. е. мера мира, внутренне открытого душе такого живого существа, как человек, предела не имеет. Двигаясь любыми стезями, на которых душа человека достигает, настигает и постигает сущее, принимает его во внимание (воспринимая, рассматривая, толкуя, соображая, воображая, сочиняя и т. д.), нельзя достигнуть пределов, столь глубоко в сущее, в мир выходит, простирается внимание ее сбора. Душа человека отличается соотнесенностью со всем, ее жизненно касается все»23.
Это «все» — здесь-то, собственно, и кроется парадокс деятельности души как «беспредельного определения» — может быть охвачено душой только в том случае, если будет выступать (каждый раз) чем-то одним. Любая существующая вещь (явление), встречающаяся мне в мире и ожидающая осмысления, должна быть понята как единое (беспредельное) начало, сложившееся определенным образом, так или иначе упорядоченное. Вещи открываются душе ровно в той степени, в какой она открывает в себе «самообогащающийся логос». Это открытие не является чем-то само собой разумеющимся, так же как и рост души до пределов мира в целом не подобен росту растения, как бы уже запрограммированному собственной его природой («фюсис»). Разумное начало, которое человек открывает в себе в свете интуиции Единого, требует осуществления постоянного, непрекращающегося усилия преодоления хаоса в самом себе. Именно с осуществлением этого усилия — в той или иной форме — и связан героический идеал, определяющий понимание человека в античной культуре.[15][16]
Мысль как событие (как рождение всеобщего разума в отдельной душе) требует от человека практически невероятного — отказа от своих собственных, частных (частичных) желаний и частных мнений: «Такое событие чрезвычайно, единично, внезапно. Случаясь с человеком, оно своей исключительностью исключает его из общего мира, исключает также и из самого себя как «одного» из многих. Оно требует героической единственности«[17][18]. Отсюда понятно, почему в эпоху классической Античности олицетворением героя, согласно утверждению историка Ю. В. Андреева, оказывается именно философ — как тот, кто в борьбе с разрушительными силами небытия упорядочивает прежде всего свою собственную жизнь: «…настоящим философом и вполне свободным человеком может считать себя лишь тот, кому удалось силой разума обуздать низкие страсти и животные инстинкты, таящиеся в каждом из нас. Эта внутренняя свобода намного важнее свободы внешней — политической или гражданской, ибо ее не может отнять у человека никакой тиран или насильник. Только такая свобода избавляет человека от унизительной зависимости от мира вещей, от материального достатка, одежды, пищи и т. д. и делает его практически равным богам, которые ведь тоже ни от кого и ни от чего не зависят, ни в чем не нуждаются и поэтому являются вполне автаркичными (самодостаточными) существами».
- [1] *Ахутин А. В. Театр теории // Ахутин А. В. Поворотные времена. СПб., 2005.С. 210.
- [2] Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид. М., 1993. С. 412.
- [3] Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 517.
- [4] АхутинА. В. Понятие «природа» в Античности и в Новое время («фюсис"и «натура»). М., 1988. С. 146.
- [5] Там же. С. 146.
- [6] Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1989. С. 281.
- [7] Философский энциклопедический словарь. С. 321.
- [8] Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. С. 291.
- [9] Аристотель. Метафизика. М., 2008. С. 330.
- [10] Аристотель. Метафизика. С. 332.
- [11] ls Цит. по: Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1, ч. 1. С. 307.
- [12] Цит. но: Антология мировой философии. Т. 1, ч. 1. С. 279.
- [13] Там же. С. 280.
- [14] Цит. по: Антология мировой философии. Т. 1, ч. 1. С. 278.
- [15] 22 Цит. но: Ахутин А. В. Античные начала философии. СПб., 2007. С. 435.
- [16] Там же. С. 437.
- [17] Ахутин А. В. Античные начала философии. С. 467.
- [18] Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1999. С. 197.