Лекция 5 Детерминизм в онтологии Единою: судьба и «эйдетическая причинность»
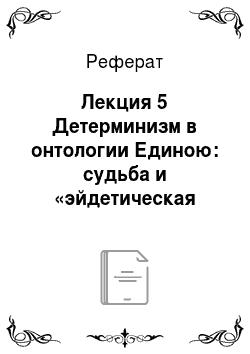
Эта замкнутость любого явления и вещи на себя обнаруживает дополнительные оттенки образа мира как единого События. Прежде всего это не только мир, предоставленный сам себе (что и выражается в категории судьбы), но и мир, лишенный какой бы то ни было устойчивой структуры, фиксированного центра, окруженного периферией, «верха» и «низа», «правого» и «левого» и т. и. На первый взгляд, это утверждение… Читать ещё >
Лекция 5 Детерминизм в онтологии Единою: судьба и «эйдетическая причинность» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Понимание всего существующего как принадлежащего к органическому целому имеет еще один аспект — динамический, позволяющий перейти от вопроса «Как устроен мир?», который мы обсуждали до сих пор, к вопросу «Как все происходит в мире?», как связаны друг с другом явления, «случающиеся» в мире? Ответ на этот вопрос предполагает обращение к теме детерминизма (в широком смысле слова под «детерминизмом» понимается философское учение о всеобщей связи явлений), в рамках которой чаще всего фигурируют три категориальные пары: «необходимость — случайность», «возможность — действительность», «причина — следствие». Попробуем рассмотреть все эти оппозиции в контексте интуиции бытия как определенного Единого. Осмысление первой из них, «необходимость — случайность», предполагает прежде всего следующий вопрос: зависят ли друг от друга происходящие в мире события и если да, то каков характер этой зависимости? В свою очередь, с этим вопросом связано множество других, конкретизирующих его: можно ли изменить ход событий; существуют ли события, никак не связанные с другими; можно ли предсказать будущие события?..
Итак, вернемся в очередной раз в исходную точку движения к полноте смысла всего существующего уже в контексте вопроса о необходимости. Прежде всего здесь обнаруживается следующее: единство и целостность мира, если принимать этот тезис всерьез, вообще не позволяют говорить о каких-то отдельных, разрозненных событиях, которые могут быть связанными или не связанными друг с другом. Мир как Единое — это, по сути дела, одно Событие, представляющее собой бесконечные превращения одного и того же. Именно поэтому уже упоминавшееся положение Анаксагора «все во всем» относится не только к «субстрату» мира, к тому, «из чего» все состоит, но и к тому, что в мире случается, происходит. Любое событие здесь не просто связано со всеми остальными, — все эти события есть вариации одного и того же события: жизни мира-космоса. Но это означает, что на уровне начала, основания, по большому счету ничего не происходит, ничего не случается; вспомним, что это неизменное начало (в различных «обличьях») так или иначе утверждается всеми греческими философами.
Пожалуй, самый яркий образ этого мира-события предлагается в учении Гераклита, например, в следующем дошедшем до нас высказывании: «Этот космос, тот же самый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей. Но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим»[1]. Все «частные» события в этом мире неразрывно связаны друг с другом как в пространстве (все, что происходит «далеко» от меня, все же оказывает на меня воздействие), так и во времени (в любой момент своей жизни я связан как со своим прошлым, так и со своим будущим). Иными словами, подобная связь «всего со всем» исключает всякую прерывность хода событий, а следовательно исключает любую случайность (если понимать случайность как-то, что происходит вне связей — как во времени, так и в пространстве).
Мир-космос как «определенное Единое» — это царство необходимости, которую невозможно отменить или изменить. Эта необходимость, однако, лишена одного свойства, которое обычно связывается с необходимостью в привычном для нас смысле этого слова. Когда мы сегодня говорим о практической необходимости того или иного действия, о необходимости как законе природы или бытия в целом, о необходимости с точки зрения морали и т. п., мы обычно предполагаем при этом некий рациональный смысл данной необходимости, по отношению к которой мы занимаем как бы «внешнее» положение: мы можем этот смысл выявить, обнаружить, сформулировать именно потому, что отличаем его от бес-смыслицы, отождествляемой со случайностью. Именно такое понимание «просвечивает», например, в выражении «бессмысленная, случайная гибель…». Однако в отношении космической необходимости вопрос о смысле (тем более о таком, который можно было бы выразить) оказывается невозможным. Обнаруживая себя «внутри» мира, осознавая себя в качестве участника целостного космического События, человек не может взглянуть на это Событие «со стороны». Все в мире про-исходит просто потому, что происходит. И в этом отношении неумолимость, неизбежность происходящего можно рассматривать как случайность, которую невозможно понять и остается только принять.
Об этой невозможности очень точно говорит А. Ф. Лосев: «Кто виноват? Откуда космос и его красота? Откуда смерть и гармоническая воля к самоутверждению? Почему душа вдруг нисходит с огненного Неба в темную Землю и почему она вдруг преодолевает земные тлены и — опять среди звезд, среди вечного и умного света? Почему в бесконечной игре падений и восхождений небесного огня — сущность космоса? Ответа нет, и вопрошаемая бездна молчит. Человек и космос, происшедшие из бездны единого, ответственны сами за себя и только на самих себя могут надеяться"*9.
Мир как единое Событие, таким образом, может быть определен посредством еще одной парадоксальной характеристики: «необходимая случайность» или «случайная необходимость». Это парадоксальное совпадение неизбежности того, что происходит, и невозможности понять и выразить смысл происходящего выступает в греческой (и в целом в античной) культуре под именем «судьба». Последняя, даже если речь идет об отдельном человеке в его отношениях с судьбой, всегда есть нечто всеобщее, характеризующее жизнь космоса в целом и именно поэтому непреодолимое. Можно сказать, что судьба — это траектория движения мира «внутри» самого себя, мира как «подвижного покоя». Здесь нам открывается еще одна грань той важной характеристики греческого мышления, которую нередко называют созерцательностью. Именно потому, что человек здесь не может занять внешнее положение по отношению к мировой необходимости-судьбе,[2]
он может в своей мысли только следовать за ней или, еще точнее, обнаруживать эту необходимость в собственном бытии и в бытии мира, с которым он составляет единое целое. В этом созерцании человеческий ум становится космическим логосом, который одновременно и управляет движением мира, и осмысляет это движение: «Вопрос в том, как может быть само бытие: то, что не может быть иначе. Мысль здесь вдумывается в невыдумываемое, неизмышляемое, но также и не зависящее от того, что кому-то попалось на глаза или кем-то принято на веру. Понимание мира — всеобщего — нельзя ни выспросить у тайноведцев, ни получить в качестве божественного откровения. Внимание ума питается не переживаниями и сведениями (явными или тайными), а логосом все-общего: как все сущее есть (может быть) в единстве бытия»[3].
Очевидно, что подобная созерцательность («внимание ума») не есть нечто пассивное, она требует того же самого усилия, о котором говорилось применительно к мышлению идеи: отдать себя во власть всеобщего логоса означает преодолеть свои частные страхи, желания, мнения, которые заставляют человека отклоняться от траектории судьбы. В конечном счете воспитание в себе способности «умного вйдения» всего происходящего — это необходимый момент человеческой жизни, связанный с отношением человека и судьбы. Это отношение — одна из центральных тем не только греческой философии, но и греческой литературы (прежде всего греческой трагедии).
Тема отношения «человек — судьба» вновь возвращает нас к центральной фигуре греческой культуры — фигуре «героя». Последний, собственно, и есть тот, кто, неукоснительно следуя «логике» той или иной идеи, вступает в непосредственное отношение с судьбой — вне зависимости от того, принимает он ее или борется с ней. Впрочем, борьба с судьбой (в ее космическом смысле) всегда заведомо обречена на поражение, и эта мысль на разные лады повторяется как философами, так и творцами древнегреческой трагедии.
Предельно точно эта мысль выражена в следующих словах из трагедии Софокла «Антигона»: «Что предначертано судьбой, того и без молитвы не минуешь»[4]. Означает ли, однако, эта непреодолимость судьбы полную несвободу человека перед ее лицом? Разумеется, нет, ведь в противном случае фигура героя оказалась бы бессмысленной, лишней, не смогла бы выполнять свою смыслообразующую роль в древнегреческой культуре. Человеческая свобода реализуется героем не в смысле возможности поступать «как хочется», — свобода рождается там и тогда, где человек ставит себя в свободное отношение к судьбе, пусть даже и склоняясь перед ней, принимая на себя всю ее тяжесть.
В греческой онтологии обнаруживается и утверждается очень важный аспект свободы — ее пограничный характер. «Пространство свободы» открывается там и тогда, где и когда утверждается необходимость, т. е. на границе этой необходимости. Таким образом, даже если мы утверждаем необходимость (неизбежность) всего происходящего, в самом действии этого утверждения мы абсолютно свободны, т. е. от-странены от необходимости.
Парадоксальное совпадение необходимости и случайности в понятии судьбы в случае некоторой смены аспекта осмысления трансформируется в совпадение действительности и возможности — еще одной категориальной пары, определяющей проблематику детерминизма. Эти понятия оказываются «задействованными» в тот момент, когда мы, например, задаемся вопросом: что может происходить в мире, а чего не может быть никогда? Очевидно, что ответ на этот вопрос, так же как и на все прочие «предельные» вопросы онтологического характера, напрямую зависит от исходной интуиции бытия, определяющей тот или иной образ мира. Интуиция мира как «определенного Единого», вокруг которой выстраивается способ мышления в греческой культуре, требует оппозицию «возможное — действительное» понимать как нечто в основе своей Одно. Это совпадение возможного и действительного характеризует уже саму задачу — понять мир как.
«многое в Одном». Сама возможность поставить, сформулировать эту задачу основана на исходном переживании (данности) единства мира. Это единство есть, оно действительно, и в то же время, выступая в качестве задачи (понять, как многое может быть в Одном или — из Одного), это единство должно рассматриваться как полнота своих собственных возможностей. Так мы снова возвращаемся к тезису Парменида «Бытие и мысль — одно». В контексте отношения возможного и действительного он может быть истолкован следующим образом: все, что есть, действительно именно в силу своей определенности, оформленности, осмысленности; однако эта действительность оформляется только на фоне иных возможностей (любая определенность возникает на фоне неопределенности).
Это означает, в свою очередь, что данная неопределенность (полнота возможностей) тоже как-то существует «внутри» той или иной действительности, существует «непроявленным» образом. Так возможность и действительность непрерывно переходят друг в друга в контексте интуиции Единого. Это обстоятельство позволяет нам добавить ряд новых оттенков в образ мира-космоса.
Во-первых, возвращаясь к образу мира как «подвижного покоя», мы можем теперь понять это бесконечное круговращение мира в самом себе как осуществление своей действительности через осуществление тех или иных конкретных возможностей. Ни одна из этих возможностей не может остаться нереализованной, каждая из них в равной степени необходима для реализации всех остальных, в противном случае окажется невозможной сама полнота возможностей, которая, однако, всегда уже есть, т. е. действительна. Именно мысль как событие (как то, что о-существляется, то, что есть сейчас) обеспечивает осуществление своего содержания (того, «о чем» мысль), делает это возможное содержание действительным. Событие мысли, как единство мысли и бытия есть условие того, что любая (всего лишь предполагаемая) возможность станет действительной. А. В. Ахутин поясняет положение о единстве мысли и бытия в учении Парменида следующим образом: «Это единство усматривается умом, умеющим видеть.
(и выводить на свет) в присутствующем, имеющем место и время, все здесь и сейчас отсутствующее — все бытие. Видеть, понимать и переживать сущее, имея в виду, в уме всецелое бытие — держаться умом бытия — значит найти путь в распутице мира. В отличие от троп и дорог (rcaioi и KeA. ev0a), по которым туда-сюда ходят — странствуют смертные, по которым неизменно следуют вещи, этот путь-ход (656q) необратим, он заранее предуказан тем, к чему направлен, искомым. Трудность, стало быть, в том, что найти путь можно, только как-то заранее найдя то, к чему он ведет (и чем направляется); путь поиска открывается искомым"[5].
Итак, мир должен меняться, быть текучим (одна реализуемая возможность должна переходить в другую, а другая — в следующую) именно потому, что в основе своей мир неизменен (действителен, дан); но дан как полнота возможностей, и движение мысли (и круговорот существующих возможностей) начинается снова… Здесь открывается еще одна грань невозможности (в рамках онтологии Единого) мыслить мир как иерархически устроенный. Эта иерархия невозможна не только и не столько потому, что греческий мир-космос постоянно движется. Речь идет прежде всего о том, что каждый момент этого движения — как реализация той или иной возможности мира — абсолютно равноценен всем остальным моментам, включая в себя всю полноту мира в его конкретной вариации.
Во-вторых, еще одно объяснение получает «точечность» мышления, о которой мы говорим применительно к греческой культуре: та или иная осуществленная возможность и есть сосредоточенность в чем-то определенном. Именно на этом фоне оказывается и возможной, и необходимой такая наука, как формальная логика — дисциплина, создателем которой считается Аристотель. Логика представляет собой знание о чистых формах мысли, «работающих» безотносительно к какому бы то ни было содержанию. Если мысль (в контексте онтологии Единого) — это та или иная осуществившаяся возможность мира и при этом все возможности равнозначны, то мы действительно можем отвлечься от разговора о том, что осуществляется в конкретном событии мысли, сосредоточив внимание на вопросе «как?». Для того чтобы осуществиться, одна возможность должна быть четко отделена от другой, а это означает, что оформленная мысль прежде всего должна быть однозначной и непротиворечивой.
Эта позиция, которая может быть сформулирована в виде тезиса «То, что мыслимо, то и возможно», таит в себе, однако, серьезную опасность. Дело в том, что логика как наука о «правилах мышления» не в состоянии ответить на самый главный вопрос: каковы условия самого события мысли (и соответственно бытия)? Как уже не раз отмечалось, задача онтологии — понять мир как целое — всегда осознается уже внутри случившегося события мысли, в контексте интуиции (переживания) как-то уже данной нам полноты бытия. Это означает, что логика уместна только там, где уже есть мысль, но сама мысль возникает вне зависимости от всяких правил. Возвращаясь к отношению «возможность — действительность», можно сформулировать следующее положение: логика есть наука о возможной мысли[6], однако сама эта возможная мысль может быть описана — с ее формальной стороны — только «изнутри» действительной, случившейся мысли. Таким образом, действительность здесь опережает возможность, но в особом смысле. Этот смысл получает наиболее точное выражение в аристотелевском понятии «энергия» — «действие» или «осуществление»[7].
Энергия и есть реальное событие бытия и мысли, в котором возможность одновременно и обнаруживается, и осуществляется: «…возможность только тогда способна стать действительностью, если есть само действие (evspysia). Недействительная возможность — это возможность, не содержащая в себе никакой способности, т. е. фактическая невозможность»[8].
Здесь-то мы и подходим вплотную к той опасности, о которой говорилось выше: она связана с тем, что нельзя различить «недействительную» и «действительную» возможность заранее, внешним образом, для этого нужно, чтобы мысль уже стала действительной. Если же этого не произошло, мы оказываемся во власти пустых, недействительных возможностей — того, что просто выдумано, «высосано из пальца» и т. п. Перед лицом подобной опасности оказываются, например, участники платоновского диалога «Евтидем», когда один из собеседников выдвигает софистический тезис о невозможности лжи: «…Никто не говорит о том, чего не существует: никто ведь не может выявить в слове то, что не существует… Значит, ложь произнести нельзя… и говорящий может либо говорить правду, либо молчать»[9].
Этот абсурдный вывод оказывается неизбежным именно в силу того, что говорящий (софист) находится здесь в состоянии «недействительной возможности» мысли, т. е., попросту говоря, не мыслит, но имитирует мысль, притворяется мыслящим. Сама же мысль есть только тогда, когда есть и может быть узнана только тем, кто действительно мыслит. Косвенным (внутренним) критерием, позволяющим распознать случившуюся мысль, может быть только все то же переживание полноты смысла, которое и лежит в основе онтологии — как мышления о бытии. Иными словами, действительная мысль — в отличие от псевдомысли софиста — не может быть использована с какой-то «посторонней» целью, она и есть совпадение процесса стремления к цели — пониманию всего, что есть, — и уже достигнутой цели. Именно поэтому философия не служит каким-то иным нуждам человека, но освобождает его от этих нужд, по большей части связанных со стремлением к пустым, «недействительным» возможностям, как об этом говорит Сократ в платоновском диалоге «Федон»: «. .Душа философа… не думает, будто дело философии — освобождать ее, а она, когда это дело сделано, может снова предаться радостям и печалям и надеть прежние оковы, наподобие Пенелопы, без конца распускающей свою ткань. Внося во все успокоение, следуя разуму и постоянно в нем пребывая, созерцая истинное, божественное и непреложное и в нем обретая для себя пищу, душа полагает, что так именно должно жить, пока она жива, а после смерти отойти к тому, что ей сродни, и навсегда избавиться от человеческих бедствий»97.
Это освобождающее действие философии, как уже понятно, напрямую связано со знаменитым изречением «Познай самого себя», начертанным над входом в храм города Дельфы. Здесь обнаруживается третья особенность мира как «действительной возможности»: понять этот мир может только тот, кто самого себя понял как «действительную возможность», или осуществление (энергию). Сосредоточенность ума как условие бытия мысли и есть такое самоосуществление мыслящего, возвращение его к самому себе, т. е. к действительному, а не только мнимому. В этом движении (имеющем круговую конфигурацию) самоосуществление оборачивается осуществлением действительного (подлинного) мира, который так же, как и сам мыслящий, уже есть, но скрывается за слоями всевозможных видимостей. Снимать эти слои, обнажая истину, и есть дело философии как мышления бытия.
Истина здесь не что иное, как явность действительного положения дел. Отсюда становится понятным, в чем заключается основная роль философа как правителя идеального государства в учении Платона: философ — своего рода «мостик» между подлинным миром и миром мнимым, в котором обитает большинство людей. Освобождая от этих мнимостей себя, он «всего лишь» открывает дорогу тому, что и так уже есть, высвобождает действительную жизнь, очищает ее от искажений. Философ, таким образом, это тот, кто ближе всего к действительному человеку, в ком сильнее всего проявляется подлинно человеческая природа, и здесь мы тоже сталкиваемся с феноменом «уже-данности»: философом, в определенном смысле, нужно родиться, коль скоро любовь к мудрости возникает только при условии прикосновения к ней. Мудрость, или истина, — то, что всегда уже выступает внутренним двигателем всех поступков философа, то, что «просвечивает» во всех его ошибках и заблуждениях, побуждая освобождаться от них. Вот как характеризуется такой «прирожденный философ» самим Платоном: «…Человек, имеющий прирожденную склонность к знанию, изо всех сил устремляется к подлинному бытию… Он нс останавливается на множестве вещей, лишь кажущихся существующими, но непрестанно идет вперед, и страсть его не утихает до тех пор, пока он не коснется самого существа каждой вещи тем в своей душе, чему подобает касаться таких вещей, а подобает это родственному им началу. Сблизившись посредством него и соединившись с подлинным бытием, породив ум и истину, он будет и познавать, и поистине жить, и питаться, и лишь, таким образом, избавится от бремени, но раньше — никак»98.
Итак, действительность (она же — подлинная возможность) противоположна здесь не-действительности, совпадающей с мнимой (не мыслимой, но выдуманной, измышляемой) возможностью. Только осуществляя круговое движение (от себя — скрытой к себе — явной), действительность встречается с мнимостью и освобождается от нее.
Тот же самый круг неизбежно возникает тогда, когда предметом осмысления в онтологии Единого становится еще одна категориальная пара, «работающая» в рамках проблематики детерминизма: «причина — следствие». Чаще всего, обращаясь к этим понятиям, мы пытаемся ответить на вопрос: «Почему произошло то или иное событие?» или «Почему имеет место то или иное явление?». За вопросом «почему?», в свою очередь, скрывается следующее молчаливое предположение: причина — это нечто внешнее по отношению к тому событию или явлению, которые мы пытаемся понять, это то, что влечет их за собой. Однако исходная интуиция, лежащая в основании онтологии Единого, делает такую постановку вопроса бессмысленной. Мир как «многое в Одном», или «единое-во-многом», не имеет ничего внешнего себе, а его неделимость не позволяет, как уже не раз было отмечено, говорить о каких-то отдельных фрагментах этого мира (будь то «события», «явления» или «вещи»), которые были бы связаны с другими фрагментами чисто внешними отношениями. Этот мир выступает, таким образом, причиной самого себя и в целом, и в любой своей части, которая является здесь не чем иным, как конкретной модификацией целого.
Оборачиваясь той или иной вещью или явлением, единый в своей основе мир каждый раз вместе с самой вещью или явлением вызывает к существованию и их причину, в качестве каковой выступает не что иное, как идея или эйдос. Исходя из этого, можно назвать такой способ осмысления причинных связей эйдетической причинностью. Здесь открывается еще одна грань точечности мышления в рамках онтологии Единого: полная сосредоточенность мысли на чем-то одном (на одной идее) не позволяет говорить о внешних причинах этого «одного», — все, что с этим «одним» происходит, уже содержится в его идее. Предельно ясное выражение этой позиции в отношении причинности мы находим в платоновском диалоге «Федон», где устами Сократа утверждается: «Если существует что-либо прекрасное, помимо прекрасного самого по себе, оно, мне кажется, не может быть прекрасным иначе, как через причастность прекрасному самому по себе. Так же я рассуждаю и во всех остальных случаях… Тогда я уже не понимаю и не могу постигнуть иных причин, таких мудреных, и, если мне говорят, что такая-то вещь прекрасна либо ярким своим цветом, либо очертаниями, либо еще чем-нибудь в своем роде, я отметаю все эти объяснения, они только сбивают меня с толку. Просто, без затей, может быть, даже слишком бесхитростно, я держусь единственного объяснения: ничто иное не делает вещь прекрасною, кроме присутствия прекрасного самого по себе или общности с ним, как бы она ни возникла»[10].
Бесхитростность Сократа, если присмотреться к ней пристальнее, оборачивается исключительной строгостью мысли: Сократ до конца отдает себе отчет в бесполезности поисков какого-то пути к прекрасному: мы не придем к нему ни через обращение к цвету, ни через оценку очертаний, если уже не понимаем, что такое «прекрасное само по себе». В свою очередь, это «уже» не складывается, не возникает из отдельных шагов мысли: оно есть сразу, целиком, выступая в качестве эффекта той самой «фокусировки», или «наведения на резкость» (А. В. Ахутин), о которых говорилось выше. Особенно наглядным это «уже» оказывается применительно к идеям чисел, и платоновский Сократ не случайно обращается к математическим примерам: «Разве не остерегся бы ты говорить, что, когда прибавляют один к одному, причина появления двух есть прибавление, а когда разделяют одно — то разделение? Разве ты не закричал бы во весь голос, что знаешь лишь единственный путь, каким возникает любая вещь, — это ее причастность особой сущности, которой она должна быть причастна, и что в данном случае ты можешь назвать лишь единственную причину возникновения двух — это причастность двойке. Все, чему предстоит сделаться двумя, должно быть причастно двойке, а чему предстоит сделаться одним — единице. А всяких разделений, прибавлений и прочих подобных тонкостей тебе даже и касаться не надо»100.
Эта замкнутость любого явления и вещи на себя обнаруживает дополнительные оттенки образа мира как единого События. Прежде всего это не только мир, предоставленный сам себе (что и выражается в категории судьбы), но и мир, лишенный какой бы то ни было устойчивой структуры, фиксированного центра, окруженного периферией, «верха» и «низа», «правого» и «левого» и т. и. На первый взгляд, это утверждение напрямую противоречит учениям античных мыслителей, прежде всего Платона и Аристотеля, об устройстве мира-космоса. Так, область, в которой обитают вечные сущности-идеи и о которой повествуется в платоновских сочинениях — это то, что выше сферы обитания людей, отличающейся непостоянством и недостаточной различенностью всего существующего в этой сфере. Однако, вглядываясь в эту картину, казалось бы, отличающуюся строгой иерархичностью, мы обнаруживаем следующее: эта иерархия всякий раз оказывается относительной, в силу того, что выстраивается в той точке, в которой находится сам мыслящий. Эта точка, в свою очередь, определяется той задачей, которую мы всегда должны иметь в виду применительно к онтологии Единого: понять мир как многое-в-одном. Эта задача, как уже говорилось, существует только для того, кто находится (находит себя) между одним и многим, между устойчивостью (неизменностью) «умного неба» и хаотической нерасчлененностью той основы, которая — под всеми вещами и явлениями, выступая иод именем «материи».
Именно поэтому «верх» и «низ» — это то, что определяется каждый раз по отношению к тому, кто занимает это срединное положение. С материальной стихией мыслящего связывают чувства, с небесной сферой — ум, и задача понимания заключается именно в том, чтобы обнаружить уже существующее единство того и другого: «умный характер» чувств и воспринимаемость «умных сущностей» чувствами, как об этом говорится в платоновском диалоге «Тимей»: «…нам следует считать, что причина, по которой Бог изобрел и даровал нам зрение, именно эта: чтобы мы, наблюдая круговращения ума в небе, извлекли пользу для круговращения нашего мышления, которое сродни тем, небесным, хотя в отличие от их невозмутимости оно подвержено возмущению; а потому, уразумев и усвоив природную правильность рассуждений, мы должны, подражая безупречным круговращениям Бога, упорядочить непостоянные круговращения внутри нас. О голосе и слухе должно сказать то же самое — они дарованы богами по тем же причинам и с такой же целью»101.
Очевидно, что эти слова говорит не сторонний наблюдатель, разглядывающий мир подобно тому, как естествоиспытатель рассматривает предмет своего исследования, но тот, кто уже установился в определенной точке самого мира, «из» которой и открывается необходимость наблюдать небесное и упорядочивать себя, иными словами, открываются «верх» и «низ», «центр» и «периферия». То же самое можно сказать и о неподвижном уме-перводвигателе Аристотеля, находящемся в «центре мира» и сообщающем движение всему существующему. Выше уже приводились слова Аристотеля о том, что неподвижная сущность есть предмет желания и мысли, и как раз поэтому следует рассматривать ее неподвижной, а все остальное — движущимся (в конечном счете — к ней). Поясняя эту мысль, Аристотель утверждает: «…вернее сказать, что] мы стремимся [к вещи], потому что у нас есть [о ней определенное] мнение, чем что мы имеем о ней [определенное] мнение, потому что [к ней] стремимся; ведь начальным является мышление. [В свою очередь, мыслящий] ум приводится в движение действием того, что им постигается, а тем предметом, который постигается умом, является один из двух родов бытия в присущей ему природе; и в этом ряду первое место занимает сущность, а из сущностей — та, которая является простой и дана в реальной деятельности ([при этом надо учесть, что] единое и простое — это не то же самое: единое обозначает меру, а простое — что у самой вещи есть определенная природа)»[11].
Под именем «сущности» у Аристотеля выступает конкретное единичное сущее, и, по сути дела, основной смысл приведенного выше высказывания сводится к тому, что ум-перводвигатель — как единую и простую сущность — можно мыслить только «изнутри» этого ума, или, говоря словами самого мыслителя, «в реальной деятельности». Неподвижность ума поэтому есть не что иное, как неподвижность моего собственного ума, — в тот момент, когда я осознаю задачу осмысления мира и тем самым уже как-то (непроясненным, предварительным образом) осмысляю его во всей полноте. В свете этой мысли (неподвижность «центра мира» — это неподвижность моего «реально действующего» ума) следует, как представляется, рассматривать и аристотелевское учение о четырех видах причин: материальной (то, из чего вещь состоит), формальной (какова вещь), действующей (благодаря чему вещь возникает) и целевой (для чего вещь создается и существует)[12].
На первый взгляд, эта классификация причин выходит за рамки только «эйдетической» причинности, о которой мы ведем речь применительно к онтологии Единого. Однако здесь необходимо учесть то обстоятельство, что все эти значения понятия «причина» неразрывно связаны с учением Аристотеля о сущности как об отдельно существующей вещи (отдельном сущем), к которому и оказываются применимыми все эти определения причины. В конечном счете все эти моменты («благодаря чему», «из чего», «как выглядит», «для чего») вытекают из некоей целостной интуиции сущности, выступающей у Аристотеля под именем «сути бытия». Из четырех видов причин «суть бытия», как нетрудно заметить, ближе всего к формальной причине, а форма, в свою очередь, близка по смыслу понятиям «эйдос» и «идея». Это видно, например, из следующего рассуждения Аристотеля в 7-й книге «Метафизики»: «…здоровое тело получается в результате следующего ряда мысли [у врача]: так как здоровье заключается в том-то, то надо, если [тело] должно быть здорово, чтобы было дано то-то, например равномерность, а если [нужно] это, тогда требуется теплота; и так он размышляет все время, пока не приведет к последнему [звену], к тому, что он сам может сделать. Начинающееся с этого места движение, которое направлено на то, чтобы [телу] быть здоровым, называется затем уже создаванием. И таким образом оказывается, что в известном смысле здоровье возникает из здоровья и дом — из дома, [а именно] из дома без материи — дом, имеющий материю, ибо врачебное искусство и искусство домостроительное руководствуется формой здоровья и дома; а сущностью, не имеющею материи, я называю суть бытия [создаваемой вещи]»[13].
Здесь, таким образом, мы сталкиваемся с той же «круговой» или внутренней причинной связью, которая всегда так или иначе характеризует образ мира в рамках онтологии Единого.
Одновременно понятие «эйдетической» причинности позволяет дать наиболее полное объяснение той «точечности» или событийности хмышления, которое характеризует эту онтологию. Как уже отмечалось, внутренняя причинность характеризует как мир в целом (он является причиной самого себя), так и каждое отдельное сущее. Отсюда неизбежно вытекает и характер мышления в рамках данной онтологической позиции: осмысление мира как причины самого себя оказывается возможным только для того, кто выступает органической частью этого мира, а эта органическая связь, в свою очередь, делает возможным «скачкообразный» переход от одной идеи (одного конкретного сущего) к другой. Этот скачок происходит именно на уровне идеи, т. е. определенности Единого, которое — как раз в силу его единства — нельзя помыслить и тем и другим одноврехменно. Наиболее очевидным образом этот парадокс выступает в платоновском диалоге «Парменид» — в тот мохмент, когда собеседники задаются «детским» вопросом: «Где (в каком месте) противоположности, содержащиеся в Едином (а значит, и противоположные идеи), превращаются друг в друга?»:
П, а р м е н и д: Так когда же оно изменяется? Ведь и не покоясь, и не двигаясь, и не находясь во времени, оно не изменяется.
Аристотель: Конечно, нет.
Парменид: В таком случае не странно ли то, в чем оно будет находиться в тот момент, когда оно именяется?
Аристотель: Что именно?
Парменид: «Вдруг», ибо это «вдруг», видимо, означает нечто такое, начиная с чего происходит изменение в ту или другую сторону. В самом деле, изменение не начинается с покоя, пока это — покой, ни с движения, пока продолжается движение; однако это странное по своей природе «вдруг» лежит между движением и покоем, находясь совершенно вне времени; но в направлении к нему и исходя от него изменяется движущееся, переходя к покою, и покоящееся, переходя к движению[14].
«Вдруг» и есть момент (точка) превращения целого-мира в целое-вещь (явление), и «странным по своей природе» оно является именно потому, что это превращение происходит без всякой внешней причины. «Уподобление» мыслящего то одной, то другой идее тоже оказывается возможным потому, что он, так же как и все сущее, есть «модификация» мира-целого. Собственно, точка или момент «вдруг» есть не что иное, как точка трансформации самого мыслящего, и как раз поэтому всегда ускользает от осмысления.
Отсюда, в свою очередь, следует, что в свете понятия «эйдетической» причинности более определенным становится и образ человека в рамках онтологии Единого. Причастность идее человека, осуществление этой идеи как онтологический (и соответственно этический) ориентир человеческой жизни в греческой культуре могут быть теперь поняты как необходимость обретения состояния самопричинности, независимости от внешних воздействий. В отличие от всех остальных вещей и существ человек может это состояние самопричинности воссоздавать осознанно, и здесь мы вновь возвращаемся к тезису «познай самого себя». Высшее достоинство человека заключается в том, чтобы все с ним происходящее исходило бы от него самого, и здесь нет никакого противоречия с той непреодолимостью судьбы, о которой шла речь выше. Самопричинность человека в онтологии Единого заключается отнюдь не в возможности потакать своим желаниям или навязать свою волю другим людям, но именно в способности следовать идее (включающей и судьбу). Так, идея (а значит, и судьба) всякого человека предполагает смертность, идея политика или воина — необходимую жестокость, идея гражданина — необходимость участия в жизни своего полиса, а значит, и необходимость разделить с ним в том числе и бедствия войны, и т. п. Осознавая свою принадлежность той или иной идее, человек тем самым перестает быть простой «точкой приложения» внешних по отношению к нему сил, свободно принимая все последствия, связанные с этой принадлежностью.
Именно в этом действии — помещения себя в контекст той или иной идеи — человек и делает себя источником всего того, что с ним будет происходить впоследствии, с какими бы случайностями это происходящее ни было связано. И как раз в силу того что способность усматривать идеи наиболее отчетливым образом принадлежит философу, последний и выступает, прежде всего у Платона, как наиболее совершенный тип человека. Степень совершенства здесь напрямую связана со степенью независимости от внешних обстоятельств, и образцом подобной независимости выступает, в частности, платоновский Сократ, утверждающий в диалоге «Федон», что для души «…нет, видно, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного: стать как можно лучше и как можно разумнее»[15]. «Стать разумнее и лучше» означает здесь открыть и упрочить в самом себе тот космический умнус, который и выступает внутренней причиной всего происходящего, в том числе и в жизни отдельного человека.
Перечисляя человеческие добродетели, выступающие в учении Платона основой истинной жизни, А. Ф. Лосев замечает: «Реальный человек погружен в безвыходные и вечно изменчивые аффекты, но мужественный человек, по Платону, тот, который среди всех беспорядочных аффектов жизни неуклонно осуществляет законы, продиктованные мудростью. Это… касается не только внешнего поведения человека, это касается также и его внутреннего состояния, которое тоже является областью смешанных и хаотических аффектов, но которое тоже должно быть приведено к внутреннему единству, к тому спокойному и уравновешенному самообладанию, которое и есть гармоническое просветление всех природных, случайных и хаотических аффектов»[16]. Иными словами, «эйдетическая» причинность в онтологии Единого — это способ установления смысловой связи человека и мира посредством утверждения человека в «точке ума» как единой и единственной причины всего происходящего.
- [1] ss Цит. по: Антология мировой философии. Т. 1, ч. 1. С. 275.
- [2] Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А. Ф. Бытие.Имя. Космос. М, 1993. С. 304.
- [3] Ахутин А. В. Античные начала философии. С. 552.
- [4] Софокл. Антигона // Всемирная галерея. Древняя Греция. СПб., 1995.С. 131.
- [5] Лхутин А. В. Античные начала философии. С. 602.
- [6] Например, см.: Лошаков Р. А. Различие и тождество в греческой и средневековой онтологии. С. 98.
- [7] «Осуществление есть особого рода действие, целью которого является самоэто действие» (Лошаков Р. А. Различие и тождество в греческой и средневековойонтологии. С. 92).
- [8] Лошаков Р. А. Различие и тождество в греческой и средневековой онтологии. С. 100.
- [9] Платон. Диалоги. С. 130−131.
- [10] Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид. С. 59.
- [11] Аристотель. Метафизика. С. 330−331.
- [12] См.: Аристотель. Метафизика. С. 12.
- [13], 04 Там же. С. 180.
- [14] Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид. С. 394−395.
- [15] Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид. С. 69.
- [16] Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн. 2. С. 289.