Общие исторические взгляды исследователей XVIII века
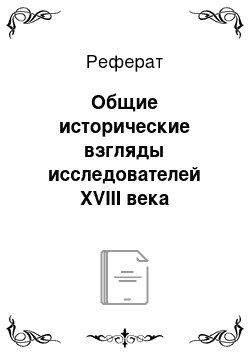
Может быть, полемический жар, с которым Болтин опровергал представление Леклерка и Щербатова о первобытной дикости, а Шлецер — представления Шторха о древнем просвещении Руси, был самой главной причиной, почему эти воззрения, в сущности, вовсе не исключавшие друг друга, часто понимались и во время самых споров, и еще более в последующее время, как абсолютно противоположные и несовместимые… Читать ещё >
Общие исторические взгляды исследователей XVIII века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Переходим теперь к характеристике общих исторических взглядов исследователей XVIII ст. Поскольку эти общие взгляды вытекали из различных современных теоретических мировоззрений, мы уже старались поставить их в связь с последними. Мы видели тесную связь татищевских взглядов с утилитаризмом и теорией естественного права, связь исторических взглядов Ломоносова — с ложноклассическими теориями, взглядов Щербатова и Болтина с противоположными друг другу мировоззрениями просветительной литературы: рационалистическим и научным. Мы поставили также ученые приемы Байера в связь с направлением учености его времени и новые взгляды Шлецера — с реформой современной ему науки. Таким образом, все основное содержание общих исторических взглядов можно считать достаточно разъясненным. Нам остается здесь только выяснить ближайшее отношение этих взглядов к приемам и результатам исторической работы прошлого века. Для этой цели мы познакомимся, прежде всего, с тем, как формулировали задачу исторического изучения различные исследователи XVIII ст. Затем мы остановимся на приемах их собственной исторической работы. Наконец, мы посмотрим, какой слагался у них в результате этой работы взгляд на общий ход русской истории.
Задачу исторического изучения русские исследователи отечественной истории понимали очень просто и однообразно. Значение истории для всех них одинаково заключается в ее назидательности. Но в частностях каждый развивает эту тему по-своему, со свойственными его личности и времени характерными чертами. Утилитарист Татищев, разумеется, указывает на пользу истории для людей всех званий: для богослова и юриста, дипломата и генерала, даже для медика. Польза эта для него вытекает сама собой из его общего критерия полезности всякого знания: из важности истории для «самопознания»[1]. История, в широком смысле, есть расширение личного опыта с помощью воспоминания об опыте прошедшего. Она полезна, следовательно, — даже необходима для самопознания, как всякий опыт, свой или чужой; «ово от своих собственных, ово от других людей дел учить — о добре прилежать и зла остерегаться»[2]. Даже наказание порока и торжество добродетели должны, по Татищеву, изображаться в истории с той же целью утилитарного вывода. «В истории не токмо нравы, поступки и дела, но из того происходящие приключения описуются, — яко мудрым, правосудным, милостивым, храбрым, постоянным и верным — честь, слава и благополучие, а порочным, несмысленным, лихоимцам, скупым, робким, превратным и неверным — бесчестие, поношение и оскорбление вечное последуют: из которого всяк обучаться может, чтоб первое, колико возможно, приобрести, а другого избежать»[3].
Совсем иначе рассуждает Ломоносов. Повторив за Татищевым, что история «дает государям примеры правления, подданным — повиновения, воинам — мужества, судиям — правосудия, младым — старых разум»[4], Ломоносов выдвигает и другие задачи истории, более свойственные ее панегирическому направлению. Задачи эти сливаются у него с задачами торжественной оды: история славословит героев. «Велико есть дело, — говорит он, — смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел достойную славу» и затем продолжает, совсем по-горациевски: «Мрамор и металл… стоят на одном месте неподвижно и ветхостью разрушаются. История, повсюду распространяясь… стихий строгость и грызение древности презирает». Если Татищев готов даже торжество добродетели в истории ценить лишь как доказательство выгодности быть нравственным, то Ломоносов, наоборот, самую пользу, извлекаемую из истории, склонен представлять себе в виде нравственного воздействия на чувство читателя. «Когда вымышленные повествования производят движения в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы, особливо ж та, которая изображает дела праотцев наших?».
Рационалист Щербатов выступает с новой вариацией на ту же тему, на этот раз прямо из Юма. «Обыкновеннейшая связь в происшествиях есть та, которая происходит от причин и действий. С сею помощью нам историк изображает последствия деяний в их естественном порядке, восходит до тайных пружин и до причин сокровенных[5] и выводит наиотдаленнейшие следствия… Наука причин есть приключающая наиболее удовольствия разуму; она же обильнейшая есть в полезных наставлениях, понеже она единая чинит нас властелинами приключений и дает некоторую власть над будущими временами». Итак, история полезна не как сборник примеров для подражания или избежания, а как «наука причин», выясняющая внутреннюю связь явлений и дающая этим возможность научного предвидения. Прикладное значение истории, как видим, формулировано здесь настолько тонко, что под ним не отказался бы подписаться и современный социолог. Но русский исследователь, определяя задачу исторического изучения, все же продолжает переносить центр тяжести на выяснение прикладной задачи истории, а определением собственно научной задачи (прагматический рассказ) пользуется как средством.
Другой, и резко различный, мотив слышим постоянно в суждениях об истории немецких исследователей. Научная задача исторического исследования представляется им, обыкновенно, прежде всего, как цель сама по себе, независимо от практического приложения. Не поучение, не нравственное назидание или практическую пользу должна приносить история; основная или важнейшая цель ее — открытие истины. Даже Миллер, самый русский из немецких историков, вполне усвоивший утилитарный взгляд на историю, рядом с ним совершенно определенно проводит точку зрения профессиональной немецкой науки, чуждую русским историкам-любителям. «Историк должен казаться без отечества, без веры, без государя, — так выражает Миллер этот взгляд, и тотчас же спешит прибавить, — я не требую, чтобы историк рассказывал все, что он знает, ни также все, что истинно, потому что есть вещи, которых нельзя рассказывать и которые могут быть малолюбопытны, чтобы раскрывать их перед публикой; но все, что историк говорит, должно быть истинно, и никогда не должен он давать повод к возбуждению к себе подозрения в лести»[6].
Таким образом, и делая уступки положению русской официальной науки, Миллер продолжает отстаивать европейский взгляд на науку от господствовавшего в его время панегирического направления. Шлецер, приехавший в Россию тогда, когда направление это уже отживало свой век, и не ставший к русской официальной науке в официальные отношения, проводит немецкий взгляд еще настойчивее и с еще большей свободой. Польза истории и ему, сблизившему историю с жизнью, хорошо понятна, но к наивному утилитаризму русских исследователей он может отнестись только насмешливо. «Приятно было смотреть, — говорит он по поводу оживления издательской деятельности в 1770— 1790 гг., — как эти люди радовались и не могли наглядеться на вновь открытый мир. Немецкому читателю казалось, как будто он перенесся в XVI в. своей словесности. Издатели в своих предисловиях беспрестанно повторяли очень старую истину, что история, а особливо отечественная, есть нечто весьма полезное»[7]. Для самого Шлецера «первый закон истории — не говорить ничего ложного. Лучше не знать, чем быть обманутым»[8]. С этой точки зрения он горячо защищает самостоятельность историка и независимость истории от всех посторонних точек зрения: от правительственной и религиозной цензуры, от панегирических целей и патриотических увлечений. «Худо понимаемая любовь к отечеству подавляет всякое критическое и беспристрастное обрабатывание истории… и делается смешной». Что касается религии, она никогда не может оказаться в противоречии с историей; но религия не то, что церковь. «Не часто ли случалось, что в некоторых вероисповеданиях непросвещенные люди, собрав, особливо во мраке Среднего века, множество ложных положений, глупых бредней и глупых чудес, выдавали их за религию? Пусть история исправляет ту должность безбоязненно, пусть отделит она церковные положения от учения религии, истинные происшествия от выдуманных, сокроет все чудеса или упомянет о них только тогда, когда они произведут какое важное действие между простодушным народом, который им поверит… Не спорю, что с народной верой, как и вообще с народными заблуждениями, следует обходиться деликатно; но это можно сделать, не жертвуя слепо истиной и здравым рассудком»[9].
Мы не могли привести мнений Байера рядом с Миллером и Шлецером, потому что он не формулирует этих мнений, а прилагает их на практике. Но и Байер выбирает своим девизом все ту же основную аксиому свободной европейской науки: ignorare malim, quam decipi[10].
По отношению к религии русские исследователи, с легкой руки Татищева, рано заняли более или менее независимое положение. И сам Татищев, и Болтин, и Щербатов одинаково отрицательно относятся к элементу чудесного в истории[11]. Это не мешает им, однако же, в других отношениях продолжать настаивать на прикладном значении исторического изучения. Ко взгляду, что знание само по себе должно быть целью науки, приближается только Болтин. «Давно уже сказано, — встречает он у Леклерка, — что историк не должен иметь ни отечества, ни родственников, ни друзей. Если бы сие правило было справедливо, то остались бы историки в классе людей самых презрительных: человек без отечества, без родины, без друзей не самый ли есть несчастливейший и гнуснейший из тварей?» Болтин считает долгом протестовать против такого вывода. «Сказанное правило, — говорит он, — что историк не должен иметь ни родственников, ни друзей, имеет смысл такой, что историк не должен укрывать и превращать истину бытий, по пристрастию к своему отечеству, к сродникам, к друзьям своим, но всегда и про всех говорить правду, без всякого лицеприятия. Таковые историки не могли бы быть ни презренны, ни гнусны, но, напротив, достохвальны и достопочтенны». Любопытным образом, однако же, Болтин спешит, высказавши это положение, прибавить к нему ту же оговорку, как выше Миллер: «Если ж говорить правду настоит опасность… то лучше умолчать; благовременное молчание ни порицанию, ни пересудам не подвергает; лгать же ни в пользу друга, ни во вред неприятеля не позволяется»1. Так определялись границы свободы науки в глазах наиболее передового из ее если не официальных, то официозных представителей.
Таким образом, к высказанному во «введении» обобщению, что XVIII в. есть век практического взгляда на историю и что только немецкие специалисты-историки составляют из этого правила некоторое исключение, мы можем прибавить теперь несколько индивидуальных черт. Взгляд на прикладное значение истории меняется, смотря по личности историка и по усвоенному им мировоззрению; у одного это значение сводится к непосредственной пользе примера, у другого — к пользе нравственного назидания, у третьего — к пользе познания причин. В конце столетия этот взгляд приспособляется к научному взгляду, как у Щербатова в формуле Юма, или даже переходит в него, как в органическом взгляде Болтина и в защищаемой им немецкой формуле.
В таком же контрасте стоят в начале столетия взгляды немецких и русских исследователей на приемы исторического изучения, и этот контраст к концу века точно так же сглаживается, уступая место новым критическим требованиям. Лучшим показателем этой перемены служит изменение в отношении исследователя к источнику.
О по частному случаю: «Если сказанному чуду поверить… то не останется уже ни малые свободы разуму к рассуждению, все будет возможным и естественным». Прим, на Щербатова. II, 320, ср. ibid. 188, 449, 303—304 («Татищев, не будучи охотник до чудесного, иначе сие бытие предлагает»), 260—261. Щербатов оставлял чудеса в своем тексте, конечно, только вследствие своего формального отношения к своему источнику, содержание которого желал передать в возможно полном виде.
1 Прим, на Леклерка. II. С. 120—121; ср. I, с. 278.
Между тем как Байер владел всеми приемами классической критики, так что даже сам Шлецер отчаивался когда-либо с ним сравняться[12], Татищеву, как мы видели, даже самая разница между источником и исследованием остается непонятна. Русскими «историями», предшествовавшими его «Истории», он считает и Нестора, и «Степенную книгу», и хронографы. С этой точки зрения, было весьма последовательно сделать то возражение, которое предвидит себе Татищев: «яко бы мы древних историй довольно имеем, переправлять оные нет нужды»; да притом же истории прошлого «вновь лучше и полнее прежних сочинить не можно, разве от себя что вымышлять»; следовательно, нет никакой ни возможности, ни надобности писать новую «историю древних времен»[13]. Смешивая источник с ученой разработкой его, Татищев, собственно, сам внутренне согласен с этим наивным возражением, обличающим в нем одного из тех «читателей летописи», о которых говорит Шлецер. Действительно, «все новосочиненное о древности правым назвать не можно», так как не может же история выдумать новых фактов. И Татищев спасается от своего сомнения, вложенного в уста возражателя, очень рискованным способом. История не может создать новых фактов, но она может открыть их вновь, открывши новые источники исторических сведений. «Когда благосклонный читатель увидит дополнки, изъяснения и доказательства от таких древних писателей, о которых он прежде не думал, чтоб в таком от нас отдалении о нас или наших предках писали… то он подлинно поверит, что еще прилежному рачителю и других потребных к тому языках искусному, более сего обрести, изъяснить и дополнить можно… следственно сей мой труд… в продерзость мне не поставит». Итак, главное значение труда Татищева читатель должен был видеть не в обработке летописей, а в подборе мест из древних писателей, занимающем большую часть первого тома «Истории»; и вообще, весь прогресс исторической науки мог заключаться, с этой точки зрения, только в накоплении новых сведений[14]. Этот наивный взгляд Татищева на источники и на отношение к ним его собственной «Истории» был причиной того капитального недостатка его труда, о котором мы уже говорили: составивши добросовестнейший свод летописных известий, он сделал его негодным для ученого употребления тем, что выбросил ссылки, ввел в текст без всяких оговорок собственные соображения и в завершение всего — перевел его на современный язык.
При чисто литературных приемах Ломоносова нет надобности останавливаться на его отношении к источникам. Что касается Щербатова, мы видели у него значительный шаг вперед сравнительно с Татищевым. Он пишет историю, а не летопись, он отделяет свой рассказ от источников, делает на них точные указания, издает их в приложениях. Но, с другой стороны, он все еще не может вполне отделаться от старого смешения истории с летописью. Указывая точно свои источники, он, как мы видели, все еще не умеет определить их сравнительного достоинства и ценить их по степени «просвещения» их составителей… Отделивши историческое изложение от летописного текста, он все еще не решается делать свободного выбора данных и послушно следует за источником, вызывая этим постоянные нападения Болтина. «В следующий год, — записывает, например, Щербатов, — приключилась смерть князю половецкому, но о имени его неизвестно». «Историк наш, — замечает Болтин по этому поводу, — в точности переписывая летописи, не хотел пропустить и сего обстоятельства, ни мало к истории нашей не принадлежащего… В числе прочих способностей, для историка нужных, и сия не из последних есть, чтоб уметь делать разбор веществам». Татищев, вносивший в свой свод все мелочи, «извиняется тем, что он не историю писал, а летопись, следственно, и не должен был ничего исключать обретаемого в тех списках, с которых он списывал». Что же касается истории, «не имеет она нужды в таких мелочах»; «союз деяний и происшествий, причины их следствия видеть нужно, но подобные мелочи летописцу токмо употреблять прилично, а не историку»[15]. Действительно, собственные работы Болтина представляют нам новый шаг вперед сравнительно с Щербатовым. Уже по самой своей форме они совершенно отделяются от источника и часто переходят в самостоятельное исследование, подчиняющее источник поставленному вопросу. Нужно, впрочем, прибавить, что когда форма «Истории» не стесняла Щербатова и он мог задаться целью самостоятельного исследования, как, например, во многих местах своих посмертных «Примечаний на ответ Болтина». С другой стороны, нельзя не заметить, что форма общей русской истории и до сих пор осталась роковой для русских исследователей: ни один из общих историков России не избежал до сих пор, в большей или меньшей степени, греха — преобладания ассоциаций «по смежности» над ассоциациями «по сходству».
Итак, от смешения источника с ученой обработкой русская историография XVIII в. очень постепенно перешла к пересказу источника и только к концу века научилась относиться к нему вполне свободно. Перевод источника, изложение источника и исследование вопроса по источнику — таковы три стадии, последовательно пройденные нашей исторической наукой прошлого века. Я говорю здесь о русской исторической науке, так как критические приемы европейской науки за весь век оставались для наших исследователей недосягаемыми образцами, и их внутреннее развитие совершилось слишком далеко от элементарной методической выучки русских работников науки, чтоб иметь на русскую науку непосредственное влияние. Как бы то ни было, эта выучка в течение века все же несколько сократила расстояние, отделявшее европейских специалистов от русских «читателей летописей».
Если во взглядах на задачи исторической науки и на приемы исторического исследования мы могли заметить и большой контраст между русскими и немецкими исследователями, и значительное влияние последних на первых, то в общих результатах изучения русской истории, в представлениях об общем ходе ее найдем нечто совершенно противоположное. Вместо контраста встретим полнейшее сходство; вместо влияния немцев на русских должны будем предположить влияние русских на немцев. Немецкие исследователи нашли готовую схему русской истории и, не имея своей собственной, вполне ей подчинились. Была ли она выработана самими русскими исследователями, или же и они нашли ее готовой, и где именно, об этом речь впереди. На этот раз мы познакомимся только с самой схемой.
Нельзя не отметить, что схема эта является вполне, во всех своих важнейших частях, выработанной уже у Татищева. По его представлению, русская история делится на три периода. Первый период начинается с «пришествия славян в Русь из Вандалии» и кончается смертью Мстислава, сына Мономаха (1132). Во все это время Россия была наследственной монархией, управляемой «единовластными государями». Русская династия началась еще «славянскими государями» до Рюрика; «когда же оное колено мужеска рода пресеклось (Татищев разумеет Гостомысла), то по женскому варяжский Рюрик наследственно и по завещанию престол русский прияв, наипаче самовластие утвердил, которое до кончины Мстислава Петра ненарушимо содержалось… и наследие престола шло порядком первородства или по определению государя». За все это время «государство в славе, чести и богатстве непрестанно процветало и в силе умножалось». Во второй период, продолжавшийся от смерти Мстислава до вокняжения Ивана III (1462), «князи разделились и сделалась аристократия или паче расчлененное тело». Причиной этого разделения было «междоусобие наследников», которые, «бывши прежде под властью, так усилились, что великого князя за равного себе почитать стали и ему ничто более, как титул к преимуществу остался, а силы никакой не имели». Это «несогласие» и вытекавшее из него «бессилие» повели к целому ряду пагубных последствий. Прежде всего они дали «свободный способ татарам, нашедшим все разорить и под власть свою покорить». Затем, пользуясь тем, что «самодержавство, сила и честь русских государей угасла», начали отлагаться окраины, прежде покорные. Литовские князья, покоренные в первый период и «бывшие в подданстве», теперь «не токмо подданства и послушания великим князьям отреклись, но многие княжения русские, едино за другим, овладав, стали великими князьями литовскими и русскими писаться». С другой стороны, и «Новград, Плесков и Полоцк, учиня собственные демократические правительства, також власть великих князей уничтожили». С Ивана III начинается третий период русской истории. «Иоанн Великий, опровергнув власть татарскую, паки совершенную монархию восставил и о наследии престола единому сыну учиня закон, собором утвердил». Других братьев он отдал «в полную власть и суд великого князя или царя, через что в краткое время сила и честь государя умножились». Прикладная цель схемы ясна. «Из сего всяк может видеть, сколько монаршеское правление государству нашему прочих полезнее, чрез которое богатство, сила и слава государства умножается, а через прочия умаляется и гибнет»[16].
Итак, «история древнего правительства русского» делится на три периода: период наследственной монархии, период раздробления, «беспорядочной» аристократии с его последствиями: татарским игом, усилением Литвы и развитием северных республик, и, наконец, период восстановления наследственной монархии. Правда, государи третьего периода носили царский титул, а государи первого — великокняжеский; но власть великих князей не уступала власти царской, и царского титула князья киевские не принимали только потому, что не хотели. «Хотя императоры константинопольские, особливо Алексей Комнин, по тесному союзу и ближнему свойству, Владимиру II прислал корону, скипетр, державу и сосуд помазания, которые все, кроме короны, и до днесь хранятся, а притом писал его василеус или царь, но он сего титула не приял, поставляя великий князь равен оному» (I. С. 540).
На эту схему наш панегирист надевает ложноклассическую тогу. Выразивши мысль, что в российской истории находятся «равные дела греческим и римским», Ломоносов в доказательство проводит полную параллель между русской и римской историей. «Сие уравнение, — говорит он, — предлагаю по причине некоторого общего подобия в порядке деяний российских с римскими, где нахожу владение первых королей соответствующее числом лет государей самодержавству первых самовластных великих князей российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные городы, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представляю согласным самодержавству государей московских». Сравнение представляло, однако, некоторое неудобство: республиканский период, сопоставленный с раздроблением Руси, представлялся самой блестящей порой в истории Рима, а эпоха «кесарей» — временем упадка. Литературному уподоблению это, впрочем, не мешает, а только дает материал для новой литературной фигуры — контраста. «Одно примечаю несходство, что Римское государство гражданским владением возвысилось, самодержавством пришло в упадок. Напротив того, разномысленною вольностью Россия едва не дошла до крайнего разрушения; самодержавством как с начала усилилась, так и после несчастливых времен умножилась, укрепилась, прославилась». Не мешает это «несходство» и ораторскому заключению: «Благонадежное имеем уверение о благосостоянии нашего отечества, видя в единоначальном владении залог нашего блаженства, доказанного толь многими и толь великими примерами» и т. д.[17] Как видим, Ломононосов так занят формой, что забывает привести ее в гармонию с содержанием.
Что касается Болтина, он и здесь вполне повторяет Татищева. Прямо на него ссылается он в рассказе о регалиях и о том, как Владимир добровольно отказался от царского титула. Древнее правление и он склонен, с некоторыми поправками, о которых будем говорить сейчас, считать монархическим. О причине татарского ига он выражается: «По моему мнению, главнейшая и едва ли не единственная причина была столь скорому и удобному завоеванию татарами России — разделение России на толикие части и из того проистекшее несоюзство, зависть и ненавидение между князей; не имел ни один из них в виду общей пользы» и т. д.[18]
Теперь послушаем немцев, не Байера, который не занимался составлением общих схем, а Миллера и Шлецера. Круг идей их все тот же, какой мы видели у Татищева и Ломоносова; часто это даже те же самые выражения. Вот несколько фраз из «Опыта новейшей русской истории» Миллера: «История государства подобна картине, которая имеет свои тени, даже необходимые для того, чтоб тем ярче выступало светлое, возвышенное. Никогда мы не оценили бы вполне заслуг тех великих монархов, которые снова соединили под одною державой раздробленное на множество уделов Русское государство, освободили от подданства томившееся под чужим игом отечество, если бы не предшествовала этому великая государственная ошибка, что отцы старались поделить государство между детьми, и если бы именно это раздробление и междоусобия князей не открыли дороги татарам». Это объяснение хода русской истории из «великой государственной ошибки», сперва совершенной, потом исправленной, перешло целиком и к Шлецеру. Вот в каких словах, напоминающих Ломоносова, пересказывает он нашу схему: «Свободным выбором в лице Рюрика (об этом отступлении от схемы см. ниже) основано государство. Полтораста лет прошло, пока оно получило некоторую прочность (опять отступление); судьба послала ему 7 правителей, каждый из которых содействовал развитию молодого государства, и при которых оно достигло могущества, как Рим, при своих 7 королях. Но едва оно достигло этой степени, как разделы Владимировы и Ярославовы низвергли его в прежнюю слабость, так что, в конце концов, оно сделалось добычей татарских орд, приученных Чингисханом к победам. Больше 200 лет томилось оно под игом этих варваров. Наконец, явился великий человек, который отмстил за север, освободил свой подавленный народ и страх своего оружия распространил до столиц своих тиранов. Тогда восстало государство, поклонявшееся прежде ханам; в творческих руках Ивана создалась могучая монархия… Россия переходила от завоевания к завоеванию» и т. д.[19]
Таким образом, в общей схеме русской истории мы не видим таких изменений к концу века, какие видели во взглядах на задачи и приемы исторического изучения. И официозный характер занятий русской историей, и направление изучения преимущественно на внешнюю историю, и соответственный характер и размер захваченного изучением материала, — все это не давало возможности исследователям выйти из заколдованного круга старой схемы и прийти к какому-нибудь более глубокому представлению об общем ходе русского исторического процесса. Самое глубокое, что было по этому поводу придумано в прошлом веке, это были, несомненно, теории Болтина. Эти теории впервые устанавливали некоторое внутреннее единство и связь русской истории. Но какой же ценой было получено это представление о единстве истории? Ценой установления гипотетического единства, неизменности русских нравов и русского законодательства на всем протяжении истории вплоть до Петра Великого. Болтин признавал, правда, некоторые изменения — некоторую смену фазисов, в истории нравов и законодательства; но он выводил эти фазисы не из внутреннего процесса развития, а из различия периодов той же самой известной нам исторической схемы. Соответственно периодам нашей схемы он устанавливал три фазиса в истории «законов» и обусловливающих их «нравов»: фазис первоначального единства нравов и законов, затем их разъединения в удельном периоде и, наконец, их нового слияния в воссоединенной монархии. Движущий принцип этих исторических изменений взят был, следовательно, извне и не только вытекал из внутренней сущности русской исторической жизни, но скорее как бы нарушал ее правильное, единообразное течение. Одним словом, единственная органическая теория нашего прошлого, существовавшая в прошлом веке, основывалась на отрицании самого принципа внутренней, органической эволюции русского общества. В своем схематизме она подчинилась, стало быть, той же господствовавшей схеме русского исторического процесса.
Однако же, при всей наблюдаемой нами неизменности общей схемы, в подробностях ее мы встречаем к концу века одно изменение, на которое тем необходимее обратить внимание. Изменение это, как можно было видеть уже из слов Шлецера, касается начала русской истории. Изображение начала русской истории было, действительно, самым слабым местом известной нам схемы. В этом изображении исторические явления теряли историческую перспективу и окрашивались в один цвет; князья киевского периода, начиная с самого Рюрика или еще раньше, рассматривались с точки зрения царского периода русской истории. Это были единодержавные и самодержавные монархи, обладавшие уже в самом начале истории огромным государством с точно определенными границами и наследовавшие друг другу с незапамятных времен по строго установленным правилам престолонаследия. Против этих черт схемы, известных нам из Татищева и еще более утрированных Ломоносовым, и вооружаются исследователи второй половины столетия.
Исходной точкой татищевской схемы было, как мы видели, мнение, что Рюрик получил власть по наследству от славянских князей через последнего в их роде Гостомысла. Таким образом, норманнская династия получала характер легитимности, гармонировавший с ее предполагавшимся монархическим характером. Миллер первый восстал против этого мнимого родства и представил появление князей на Руси совсем в ином освещении. Каким образом, спрашивает Миллер, для успокоения внутренних смут новгородцы могли обратиться к только что выгнанному племени, когда достаточно было для этой цели выбрать кого-нибудь из своей среды? Очевидно, цель призвания была другая: «новгородцы были внешними врагами окружены, противу которых им помощь и защита были потребны. Изгнанные варяги паки явились с укрепленною рукой», в качестве защитников. Внешними неприятелями, опасными для новгородцев, были, по Миллеру, биармийцы, лифляндцы, эстляндцы, варяги. Против них и были построены на окраинах три укрепленных замка, в которых поселились Рюрик, Синеус и Трувор[20]. Шлецер повторяет это мнение в своем «Несторе». «Они (новгородцы) не искали государя, самодержца в настоящем смысле, — говорит он. — Люди, мало понимавшие, что значит король, не могли вдруг и добровольно переменить гражданское свое право на монархическое. Они искали только защитников, предводителей, сберегателей границ (исл. Landvarnarmann) на случай прихода новых грабителей. Посему условились они с тремя, которых, однако, из предосторожности не впустили в главное свое место, но расположили по трем крепостям, наиболее нуждавшимся в защите»[21].
Болтин существование Гостомысла также признает лишь условно; родство его с Рюриком считает проблематическим и призвание трех братьев представляет совершенно по-миллеровски. «По обстоятельствам можно заключить, — возражает он Щербатову, — что власти самодержавные сим князьям не дано… их главная была должность охранять границы и начальствовать войсками. В прочем все правление государственное находилось в руках посадника, тысяцкого и бояр, составлявших верховный совет, а важные дела, яко объявить войну, заключить мир, наложить подати… зависели от определений всего народа»[22]. Шлецер в этом выводе отмечает только одну ошибку. «В младенчестве держав, — говорит он, — никто не помышлял об определенном государственном праве, никому не приходило на ум отличать границы между властью князя и правами народа»[23].
Таким образом, в связи с вопросом о характере первоначальной княжеской власти сам собой возникал более общий вопрос — о характере всего первоначального быта вообще. «Сравнив тогдашнее состояние могущества и величества славянского с нынешним, — заявлял по этому поводу Ломоносов, — едва чувствительное нахожу в них приращение… Без сомнения, заключить можно, что величество славянских народов, вообще считая, стоит близ тысячи лет почти на одной мере»[24]. Против такого воззрения историки второй половины столетия считали необходимым протестовать во имя исторической перспективы. Но, протестуя одинаково против преувеличенного взгляда татищевско-ломоносовской схемы на древнее «величество» русских, противники этой схемы сами не могли согласиться друг с другом относительно степени просвещенности Древней Руси и раскололись по этому вопросу на два враждебных лагеря. Часто называли и называют эти два лагеря — один — русским, другой — немецким. Взгляд, по которому Древняя Русь стояла на сравнительно высокой степени развития, считают специфически русским, а мнение о первоначальной дикости и неразвитости русского быта — специфически немецким. Едва ли, однако же, такое представление не есть запоздалый отголосок того патриотического раздражения, которое вызвано было последним мнением среди некоторых русских исследователей. Может быть, так представлялось дело и потому, что самый выдающийся из русских исследователей, Болтин, стоял на стороне «русского» мнения о высокой культуре Древней Руси, а самый крупный из немецких исследователей, Шлецер, — на стороне «немецкого» мнения о низкой культуре. Достаточно, однако, вспомнить их противников, вызвавших и того и другого на полемику по этому вопросу, чтобы решить, что ни в одном мнении не было ничего специфически русского или немецкого. «Русский» взгляд Болтина развит был им в полемике с русским исследователем Щербатовым, стоявшим на точке зрения Шлецера. «Немецкий» взгляд Шлецера столкнулся с теориями немца Шторха, защищавшего взгляды, шедшие гораздо дальше болтинских. Таким образом, Болтин подает здесь руку Шторху, а Шлецер — Щербатову. И все четверо одинаково решительно возражают против крайностей татищевско-ломоносовской схемы.
В противоположность этой схеме Щербатов объявил, что начало русской истории должно было застать население в состоянии дикости. Но, развивая свое представление об этой дикости, он пересолил и изобразил древних жителей России «кочевым народом»[25]. Болтин уже в «Примечаниях на Леклерка» протестовал против такого представления: несомненно, руссы «жили в обществе, имели города, правление, промыслы, торговлю, сообщение с соседними народами, письмо» и т. д.; славяне принесли им и «законы»[26]. Но при всем том Болтин далек от представления о древнем «могуществе и величестве» России. Тому же Щербатову он возражает, когда тот удерживает ломоносовские представления об обширных размерах России в начале ее истории. «Границы древних руссов в то время, как история наша начинается, не простирались ни до Молдавии, ни до Белого моря, ни до Дону, а до Вислы и никогда». Точно так же он не имеет и преувеличенных понятий о высоте древней русской цивилизации. «Образ жизни, правления, чиностояния, воспитания, судопроизводства тогдашнего века русских таков точно был, — замечает он, — каков первобытных германцев, британцев, франков и всех вообще народов при первоначальном их совокуплении в общества»[27]. Если развиваемые здесь понятия не вполне определенны, то нужно помнить, что определенных представлений о первобытной культуре и не имела тогдашняя наука.
Шлецер в своих представлениях о древней русской культуре исходил точно так же из критики ломоносовского воззрения. По мнению Шлецера, Ломоносов «совершенно исказил точку зрения на средневековую русскую историю. По его изображению можно было бы подумать, что Россия в течение всего этого времени была единством, единым государством; но она была также раздроблена на княжества, как Франция, и еще более, чем Германия. Не было могущественного великого князя, который бы мог объединить целое: этот великий князь был вроде короля Иль-де-Франса, о котором графы Шампанский и Тулузский ничего и не знали»[28]. Но, развивая собственную точку зрения, Шлецер, подобно Щербатову, впал в крайность. Вот какими красками изображал он древнее состояние России: «Конечно, люди тут были бог знает с которых пор и откуда, но люди без правления, жившие подобно зверям и птицам, которые наполняли их леса». «Кто знает, долго ли бы еще пробыли они в этом состоянии блаженной для получеловека бесчувственности, если бы около этого времени не напала на них шайка разбойников… Тут только они начали рассуждать и приняли меры для доставления себе внешней защиты и внутреннего спокойствия (именно призвали норманнов). Несмотря, однако же, на это, люди сии, все еще отделенные от просвещенных народов, могли долго оставаться в глубоком невежестве. Ибо просвещение, занесенное в эту пустыню норманнами, было не лучше того, какое лет 120 тому назад европейские казаки принесли к камчадалам»[29]. Только византийское влияние и христианство дали толчок к просвещению Руси.
Естественно, что при таком взгляде многие явления древней русской истории представлялись Шлецеру непонятными и невероятными. Отвергая какое бы то ни было промышленное развитие Древней Руси, он не признает существования в то время металлических денег и останавливается в полнейшем недоумении перед походами князей в Константинополь и договорами их с Византией. Зачем было так часто ездить норманнам в Константинополь, спрашивает он, не допуская мысли о торговле, — разве для приискания службы? Понятно, что и смысл торговых договоров остается для него совершенно непонятным после того, как он решился не замечать в них главного — торговли. Весь второй и третий том «Нестора» проходят в колебаниях и сомнениях относительно их подлинности, а в приложении к сочинению Шлецер словами Добровского объявляет их «действительно подложными» и принимает мнение, что подделка совершена в XIII—XIV ст.[30]
Ошибочные выводы Шлецера вытекали из ошибочных посылок. Так как Древняя Русь находилась на низкой ступени развития, рассуждал он, то, следовательно, в ней не могло существовать торговли. Болтин за двадцать лет до издания «Нестора» рассуждал наоборот и гораздо правильнее. Так как торговля на Руси существовала в глубокой древности, то, стало быть, уже тогдашняя Русь достигла некоторой степени развития[31]. На этой мысли о значении древней русской торговли экономист Шторх, учитель Александра I, основал целую теорию[32]. Приведя свидетельства о древнерусской торговле, он задается вопросом: чем же можно было торговать в этих странах? Хлеб, меха, рыба, воск и мед, — словом, туземные продукты, конечно, не могли составить предмета таких обширных торговых спекуляций, о каких у нас имеются сведения. Шторх разрешает загадку признанием, что торговля имела, главным образом, транзитный характер. Россия, по его мнению, вероятно, еще со времен классической древности была кратчайшим торговым путем для индийских и вообще восточных товаров — из Черного моря в Балтийское. Только с VIII и XI вв. итальянские города начали завязывать прямые сношения с Константинополем и Малой Азией; но и тогда вся Северная Европа продолжала снабжаться восточными продуктами из Балтийского моря. Торговля эта была в руках норманнов, с одной стороны, понтийских греков — с другой. Но мало-помалу в нее начали втягиваться и славянские племена, жившие по великому водному пути «из варяг в греки». «Первым благодетельным последствием» этой торговли было построение городов, «обязанных, может быть, исключительно ей и своим возникновением, и своим процветанием». «Киев и Новгород сделались скоро складочными местами для левантской торговли; в обоих уже с древнейших времен их существования поселились иностранные купцы».
Далее, «эта же торговля вызвала второй, несравненно более важный переворот, благодаря которому Россия получила прочную политическую организацию. Предприимчивый дух норманнов, их торговые связи с славянами и частые поездки через Россию положили основание знаменитому союзу, подчинившему великий, многочисленный народ кучке чужеземцев». Объяснив торговлей и происхождение городов, и появление первых князей, Шторх отмечает затем и ту важную роль, которую продолжает играть торговля в деятельности последних. «Рюрик нашел свой народ уже обладающим значительною и выгодною торговлей», заведенной в немалой степени благодаря усилиям его земляков. Старания первых князей сообщили этой торговле дальнейшее развитие. Для характеристики их деятельности в этом направлении Шторх сопоставляет данные летописей и византийских писателей, передает известный рассказ Константина Багрянородного о ежегодных торговых караванах, направляющихся Днепром и Черным морем в Константинополь, рассказывает о военных походах князей на Византию и подчеркивает торговый характер договоров с греками. Борьбу князей с южными кочевниками, хазарами и печенегами, он объясняет необходимостью охранять интересы русской торговли, а из желания расширить ее размеры выводит завоевательные планы князей на Черном и Каспийском морях, в Крыму и на Кавказе[33].
Теория Шторха, получившая в наши дни блестящее развитие и обставленная остроумной ученой аргументацией, естественно, должна была вызвать противоречие Шлецера. Для него эта теория есть «не только не ученая, но и уродливая мысль, которая, конечно, опровергла бы все, что до сих пор думали о древней России… (именно), что тогда люди, обитавшие по ту и по сю сторону Балтийского моря, жили подобно ирокезам и алгонкинцам, не имея особенных товаров, просвещения, правления, денег, грамоты; вследствие чего, наверное, не в состоянии были производить ост-индский торг вышеписанным образом»[34].
Может быть, полемический жар, с которым Болтин опровергал представление Леклерка и Щербатова о первобытной дикости, а Шлецер — представления Шторха о древнем просвещении Руси, был самой главной причиной, почему эти воззрения, в сущности, вовсе не исключавшие друг друга, часто понимались и во время самых споров, и еще более в последующее время, как абсолютно противоположные и несовместимые. Конечно, представители мнения о варварстве Древней Руси доходили в полемике до крайностей, легко, впрочем, объяснимых при зачаточном тогда состоянии знаний о первобытной культуре. Но, с другой стороны, защитники древней культуры вовсе не предрешали вопроса о ее высоте. Как мы видели, Болтин готов считать культурное развитие Древней Руси весьма слабым. Точно так же и Шторх всю свою теорию строил на транзитном характере древнейшей торговли, признавая, что собственное промышленное развитие славяно-литовских племен было слишком незначительно, чтобы вызвать появление активной торговли в их среде. Торговля является у него, таким образом, внешней организующей и цивилизующей силой, а вовсе не продуктом туземного внутреннего развития. Это обстоятельство проводило, конечно, резкую черту между его учением и сходными по внешнему виду утверждениями Ломоносова, что «Великий Новгород, Ладога, Смоленск, Киев, Полоцк паче прочих городов процветали силою и купечеством, которое из Днепра по Черному морю, из Южной Двины и из Невы по Варяжскому в дальныя государства простиралось и состояло в товарах разного рода и цены великой». Против татищевско-ломоносовского взгляда направлены были одинаково усилия всех исследователей, и нельзя не признать, что по отношению к первому периоду русской истории старая схема была совершенно поколеблена к концу столетия. Начало истории и Болтиным, и Шлецером понималось уже как совершенно непохожее на правильное монархическое устройство с наследственной передачей власти. Разница между ними вовсе не так велика, как их общее отличие от старого взгляда. Однако же, как я уже говорил, впоследствии эта второстепенная разница была выдвинута на первый план, как различие русского и немецкого взгляда на русскую историю. Со славянофильской стороны новый взгляд был осужден, как специфически немецкий. В своей статье о Шлецере А. Попов старался отдельные положения Шлецера вытянуть в систему с «заранее обдуманным намерением». По мнению Попова, самого яркого представителя взгляда, о котором идет речь, Шлецеру нужно было перекроить русскую историю на европейский лад; с этой целью он приступил методически к ее искажению[35]. Для того, чтобы русская история была похожа на западную, по А. Попову, Шлецеру необходимо было принять мнение, что государство создано на Руси немцами, что оно возникло путем завоевания, что из завоевания вышел у нас, как на Западе, феодализм. По мнению Попова, и самый язык русский, как и название Руси, Шлецер должен был вывести от немцев. В доказательство, что он именно так и поступает, Попов напоминает о русской грамматике Шлецера, в которой автор «последовательно с этой мыслью все корни русских слов выводит из языков германских»[36]. К счастью для читателя, в примечании приведены и подлинные слова Шлецера: «Ich handelte die Verwandschaft des russischen mit dem deutschen lateinischen und griechischen u. s. w.»[37]. Другими словами, Шлецер был убежден в общем происхождении этих языков и в существовании праязыка. Таковы были те «глупыя пакости», которые, по выражению Ломоносова, могла «наколобродить в российских древностях такая в них допущенная скотина».
В том же роде и другие обвинения А. Попова. В конце концов, разумеется, у самого Шлецера есть масса мест, опровергающих представление Попова об его системе. Вопрос о том, основалось ли Русское государство путем завоевания или добровольного призвания, для Шлецера вовсе несущественен: до завоевания он сам принимает добровольное призвание, а завоевание рассматривает как акт произвола князя, призванного в Ладогу и захотевшего овладеть Новгородом (после восстания Вадима). Влияние норманнов сам Шлецер считает ничтожным и самих норманнов — разбойниками, немногим превосходившими в культурном отношении подчинившиеся им племена. Но Попов тут-то и торжествует. Не обращая внимания на то, что подобные заявления Шлецера можно найти во всех частях «Нестора» и даже в сочинениях более ранних[38], Попов смотрит на них как на невольные отступления Шлецера от принятой системы в последней половине сочинения, как на необходимую уступку положительным свидетельствам источников и патриотическому настроению русских читателей «Нестора». Таким образом, Шлецер обвиняется, в сущности, в том, что его мнения не подходят под приписанную ему Поповым систему.
На этом мы можем покончить с подведением итогов исторической работы XVIII в. Мы рассмотрели, как шло в XVIII ст. специальное изучение этнографических данных, летописей и актов. Затем мы сопоставили общие взгляды историков XVIII в. на задачи историка, на приемы исторического изучения, на общий ход русской истории. Во всех этих отношениях мы нашли очень большое различие между началом и концом столетия. Практический, утилитарно-националистический взгляд на задачи истории, наивное смешение источника с исследованием и наивное представление начала истории в терминах современности отличают начало века. Со всем этим вполне гармонирует произвольная этнографическая классификация, некритическая передача всех летописных вариантов в одном сводном изложении, сливающем историю и летопись, и ограничение исторического изучения летописным материалом. Но через все это проходит одна черта, обещающая будущность: это стремление к реальному пониманию прошлого, к объяснению его из настоящего и обратно. Эта черта связывает первую половину века со второй половиной, где вся картина меняется. Не слава и не польза, а знание истины становится задачей историка. Место изложения источника все более занимает основанное на источнике исследование. В старый схематизм русской истории вводятся серьезные изменения по отношению к началу исторической схемы. Начало это освобождается от патриотических преувеличений и модернизации. Состояние специального изучения соответствует этому повышению научных требований и развитию научного взгляда. В этнографии вырабатывается научная лингвистическая классификация. В изучение летописей вводятся научно-критические приемы, и в первый раз основная летопись, позднейший свод и польская компиляция, — Нестор, Никон и Стрыйковский получают сравнительную критическую оценку. Наконец, ученый кругозор расширяется введением в изучение нового актового материала: вместе с этим является возможность научной разработки более поздних эпох, и внимание исследователя впервые начинает останавливаться на внутренней истории России.
В ряду всех этих явлений, характеризующих быстрый рост исторической мысли и знания прошлого века, только одно явление представляет резкий диссонанс. Я разумею продолжателей ломоносовского риторического направления с их литературными взглядами на задачи историка. Однако же, это направление стояло совершенно одиноко; передовые деятели науки или игнорировали его, или относились к нему с осуждением. Кто мог думать тогда, что литературный взгляд на историю не только переживет XVIII век, но и будет увековечен для потомства в сочинении, соединившем крупный литературный талант с самостоятельной переработкой сырого исторического материала?
- [1] Ср. выше с. 19—22.
- [2] Так, например, поясняет Татищев, воспоминание о рыбаке, ловящем рыбу, побуждает меня «равномерно о таком же приобретении прилежать»; или, при воспоминании о казненном злодее, «меня, конечно, страх от такого дела, подверженного погибели, удерживать будет». (История России. I. Предъизвещение. III).
- [3] История России. Т. VI—VII.
- [4] Там же. Т. 4.
- [5] Ср. выше характеристику прагматизма Щербатова. С. 35—36.
- [6] История Академии наук. Т. 1. С. 381.
- [7] Нестор I. См. действительно предисловия Щербатова к Царств, книге, к Царств, летописцу, к «Летописи о многих мятежах».
- [8] Probe rus. Annalen, 51: Prima lex historiae, ne quid falsi dicat. Ich will lieber unwissendsein als betrogen werden.
- [9] Нестор. I. C. 430—432.
- [10] Сотш. ac. petropol. VIII, Origines Russicae.
- [11] В «Разговоре двух приятелей» Татищев, подобно Шлецеру, различает религиюи церковь; церковные законы для него «уже суть не божеские, но самоизвольные человеческие» и, следовательно, «оставлены на рассуждение собственное человека» (с. 143—144, ср. 49—52). Болтин хвалит исключение Татищевым чудес из его свода и говорит, О
- [12] Автобиография. С. 70.
- [13] Предъизвещение. XV.
- [14] Ср. отзыв Шлецера в его «Автобиографии». С. 53.
- [15] Составлено из некоторых мест Прим, на Щербатова. II. С. 35—36, 295—296,375. 217; также с. 36, 457.
- [16] Рус. история. I. С. 541—545; Разговор. С. 138.
- [17] Др. рос. история. С. 3.
- [18] Прим, на Леклерка. I. С. 251, 58; Прим, на Щербатова. II. С. 474—495.
- [19] Probe russischer Annalen, 89—96. Про Владимира Великого здесь говорится: «Этотвеликий государь, одною рукой давая счастье новому государству, другою повергал егов печальное разорение; его любовь к отечеству превосходила его политический смысл: он разделил» и т. д. «и уничтожил этим могущество государства». Ту же схему, усовершенствованную для мнемонических целей, мы находим в известном делении Шлецера: Russia nascens (862 — 1015 = 150 лет), Russia divisa (1015 — 1216 = 200 лет), Russiaoppressa (1216 — 1462 = 250 лет), Russia victrix (1462 — 1762 = 300 лет).
- [20] О народах, издревле в России обитавших. С. 103,104, пер. Долинского.
- [21] Т. е. Ладога — от других варягов, Белоозеро — от биармийцев, Изборск —от латышей. Нестор. Т. I. С. 305—309, 337.
- [22] Прим, на Щербатова. Т. I. С. 176, ср. Т. II. С. 305 и Т. I. С. 231, где Болтин приходитк тому же выводу, что первым князьям не дано, самодержавной власти, на основаниидоговоров с греками, заключенных от лица не только великого князя, но и других князей и бояр.
- [23] Нестор. Т. III. С. 110. «Полудикие еще люди жили под демократическим или, лучше, ни под каким правлением» (т. I, гл. II). Шлецер смеется и над представлением, будто у «морских разбойников» могло существовать правильное престолонаследие (т. II, гл. I).
- [24] Др. рос. история. С. 8—9.
- [25] Рос. история. Т. I. С. 11: «Хотя в России прежде крещения ее и были грады, но оные были яко пристанищи, а в протчем народ, а особливо знатнейшие люди, упражнялся в войне и в набегах, по большей части в полях, переходя с места на место, жил». Впоследствии, в «Примечаниях на ответ Болтина», Щербатов, не отказываясь от своихпредставлений, старался растолковать это место в примирительном смысле, признав, кроме «градов», и существование «законов», «ибо и кочевое общество без некиих условий жить в обществе не может», и торговлю, мореплавание. С. 567—570.
- [26] Т. I. С. 73; Т. II. С. 108—112, 306—308.
- [27] Прим, на Щербатова. Т. I. С. 55; Прим, на Леклерка. С. 308.
- [28] Автобиография. С. 56.
- [29] Нестор. I. С. 419—420; И. С. 180.
- [30] Нестор. II. С. 751—759; III. С. 90, 208—910, 685—686.
- [31] Прим, на Леклерка. И. С. 108,112; Прим, на Щербатова. I. С. 200. Из летописногорассказа о хитрости Олега, выдавшего себя и дружину за купцов, как заметил еще Болтин, «два обстоятельства важные открываются: 1) что руссы с греками издревле велиторговлю и 2) что гости почитались в числе людей знатных».
- [32] Его прямой источник, впрочем, Фишер. История торговли.
- [33] Storch Heinr. Historisch-statistisches Gemalde des deutschen Reichs am Ende desachtzehnten Jahrhunderts. Theil IV. Leipzig, 1800. C. 48—100.
- [34] Нестор. I. С. 388—390. Шлецер негодует, что Шторх «отвергает теоретическиедоказательства» и ссылается на (мнимые, по Шлецеру) факты.
- [35] А. Попов весьма наивно видит признание этой обдуманности замысла — сочинить историю — в невинных словах Шлецера: «Die alte russische Geschichte konne nochnicht studirt, sondern miisse erst erschaffen werden» (т. e. в смысле предварительного собирания материала). Шлецер. Рассуждение о русской историографии // Моек. сб. 1847, и отдельно С. 74. Ср.: Автобиогр. Шлецера. С. 188 и прил., с. 290.
- [36] Ив этом случае обвинения последующего писателя являются отголоском впечатления, произведенного на современников. См. в «Автобиографии» рассказ о возражениях Ломоносова и Эмина и о переполохе, произведенном в аристократических домахпроизводством слова «князь» от «knecht», с. 229—230. Самый корнеслов Шлецера, см. с. 448—476.
- [37] Надо прибавить, что предшествующие слова цитаты о сравнении русского языка"mit seinen vielen verwandten Dialekten" не поняты Поповым. Речь идет здесь о сравнении со славянскими наречиями, как видно по ссылке Щлецера в его тексте на с. 118 тойже «Автобиографии» (108 рус. пер.). Попов. С. 63—64.
- [38] См., напр., в «Probe russ. Annalen», 89—90: «Durch Freiheit und Wahl war dieserStaat in Rurik’s Person gegrundet worden».