Лекция 12 ТВОРЧЕСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО 1852—1863 годов
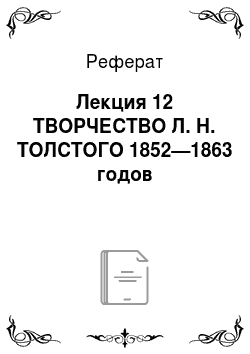
Для Толстого нравственное состояние и иллюзия героя «Семейного счастья» были временными. Уже в повести «Казаки» он преодолевает утопию семейно-камерной гармонии. Ее герой Дмитрий Оленин, человек молодой, образованный, но глубоко не удовлетворенный ни окружающим его обществом, к которому он принадлежит, ни собой, ищет широкого единения с людьми на основе «живой жизни». И поначалу надежда обрести… Читать ещё >
Лекция 12 ТВОРЧЕСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО 1852—1863 годов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Речь пойдет о первом десятилетии в литературном творчестве Л. Толстого, начало которого обозначено публикацией повести «Детство» (1852), а окончание — выходом в свет повести «Казаки» (1863).
За эти годы Толстой создал целый ряд произведений в жанре психологической повести и рассказа. Важнейшие из них следующие: трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (1852—1857); «Севастопольские рассказы» (1854—1857); «Два гусара» (1856), «Утро помещика» (1856); «Три смерти» (1857); «Семейное счастье» (1859); «Поликушка» (1863) и «Казаки» (1863).
Первое из них — повесть «Детство» — свидетельствовала о том, что дебютировавший ею писатель, как и шестью годами упредивший его автор «Бедных людей», заявлял себя художником не просто литературно даровитым, а обладающим оригинальной художественной антропологией. Уже в «Детстве» Толстой формулирует и творчески воплощает свое положение о «текучести» человека, предопределившее особенность его психологического анализа и характерологии в целом.
Но сначала — о таком следствии названного положения, как толстовский способ испытания литературных героев. Мы помним, что для Гончарова важнейшим критерием в этом случае становилось то или иное понимание его персонажами любви. Автор «Обрыва» как бы говорит своим действующим лицам: «Скажите мне, что значит для вас любовь, и я скажу, кто вы». Обладание любовной истиной мыслилось главным условием и личного счастья, и общественной ценности гончаровского героя; непонимание или искажение ее вело его, как Александра Адуева или Марка Волохова, к жизненному обрыву. Основные «координаты» персонажей Тургенева обозначаются по мере того, как писатель проверит каждого из них восприятием природы, искусства (эстетической потребностью вообще) и опять же разумением любви. Чернышевский испытывает современного ему россиянина степенью его интеллектуального развития, а также отношением к труду.
Взглянем теперь с этой стороны на толстовское «Детство». Охватывающая в основном два дня из жизни десятилетнего Николеньки Иртеньева (один проходит в подмосковной деревне, другой — в Москве) повесть до ее финала лишена сколько-нибудь драматических ситуаций, способных в резком свете представить читателю изображаемых в ней лиц. Подчеркнуто буднично и то происшествие, которым она начинается: Карл Иванович, гувернер-немец, разбудил Николеньку Иртеньева, ударив над изголовьем его кровати хлопушкой по мухе. «Он сделал это так неловко, что убитая муха упала мне прямо на голову», — сообщает сам маленький герой.
Совершенно иной значимости событие увенчивает, однако, окончание повести. Все ее герои — и дети, Николенька, его старший брат Володя, дальние родственницы Катенька и Любонька, и старшие члены семьи, отец, бабушка, Мими, наконец, слуги и дворовые люди, поставлены автором пред лицом смерти. Процитируем этот большой, но очень важный фрагмент произведения: «В десять часов нас позвали к панихиде, которую служили перед выносом. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен; заботился о том, что новый полуфрачек, который на меня надели, очень жал мне под мышками, думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях, и украдкою делал наблюдения над всеми присутствовавшими. Отец стоял у изголовья гроба, был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукою землю, брал свечу из рук священника или подходил ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться эффектным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах; платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит на сторону; опухшие глаза были красны, голова ее тряслась; она не переставала рыдать раздирающим душу голосом и беспрестанно закрывала лицо платком и руками. Мне казалось, что она это делала для того, чтобы, закрыв лицо от зрителей, на минуту отдохнуть от притворных рыданий. Я вспомнил, как накануне она говорила отцу, что смерть maman для нее такой ужасный удар, которого она никак не надеется перенести, что она лишила ее всего, что этот ангел (так она называла maman) перед самою смертью не забыл ее и изъявил желание обеспечить навсегда будущность ее и Катеньки. Она проливала горькие слезы, рассказывая это, и, может быть, чувство горести ее было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка, в черном платьице, обшитом плерезами, вся мокрая от слез, опустила головку, изредка взглядывала на гроб, и лицо ее выражало при этом только детский страх. Катенька стояла подле матери и, несмотря на ее вытянутое личико, была такая же розовенькая, как всегда. Откровенная натура Володи была откровенная и в горести: он то стоял задумавшись, уставив неподвижные взоры на какой-нибудь предмет, то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся» (курсив мой. — В.Н.).
Конечно, и до этой сцены читатель повести уже различал, кто из ее действующих лиц действительно искренен, добр и участлив к окружающим, а кто только условно учтив, но внутренне холоден и безразличен. Однако сцена эта не случайно предсказана уже на второй странице повести, где Николенька объясняет Карлу Ивановичу свои неожиданные слезы тем, что он «видел дурной сон»: «maman умерла и ее несут хоронить». На самом деле сон этот героем выдуман, однако Толстому -художнику он был необходим. Ведь им предсказывается событие, в свете которого герои повести откроются читателю уже до конца, в их подлинных побуждениях и сокровенных свойствах. Событие это — смерть.
Явление в человеческой жизни не только итоговое, но и итожащее смерть становится у Толстого основным и последним ключом к духовно-нравственной сущности человека, позволяя раскрыть ее так глубоко и правдиво, как до него удавалось лишь величайшим писателям древней и новой Европы, в свою очередь, как Гомер, Данте или Шекспир, прибегавшим для этого к испытанию своих героев смертью. Ибо, как подмечено уже в древности (и относительно недавно повторено М.М. Бахтиным), при жизни человека его до конца определить нельзя — это возможно после его ухода в мир иной.
Обратим внимание на настойчивую повторяемость «смертной» ситуации в последующих произведениях Толстого. Так, лицом к лицу с постоянной опасностью для их жизни находятся герои его рассказов 1850-х годов из кавказской военной жизни: «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный». В том же положении представители разных слоев русского общества окажутся в «Севастопольских рассказах». В рассказе «Три смерти» Толстой покажет, как различно ведут себя на пороге жизненного исхода эгоистическая барыня, простой крестьянин-ямщик и — дерево. Бок о бок со смертельным риском живут герои «Казаков». Наконец, ситуация величайшего произведения Толстого — романа «Война и мир» — есть именно ситуация жизни и смерти уже для всей русской нации. В «Анне Карениной» умирание брата Константина Левина Николая обнажит дотоле непроявлявшиеся черты как в самом Левине, так и в характере его молодой жены Кити; а зрелище угасающей Анны обнажит ранее скрытые человеческие движения в личности ее мужа — человека-«машины» Алексея Каренина. Испытанию неизлечимой болезнью подвергнет Толстой героя «Смерти Ивана Ильича». И так — до повести «Хаджи-Мурат» и рассказа «После бала».
Особая приверженность Толстого к проверке своих персонажей смертью — один из результатов общей толстовской концепции человека, наиболее интересно в научной тол стовед чес кой литературе раскрытой, на наш взгляд, в работах С. Г. Бочарова.
Свет на нее проливает важная запись в дневнике будущего писателя — в тот момент девятнадцатилетнего студента Казанского университета. Юный Толстой задумывается над вопросом: при каком условии человек сможет противостоять пагубному воздействию на него господствующего общества, ложь которого Толстой ощущает уже тогда. Это ведет к другому вопросу: а что формирует человека? Только общество? Видимо, нет, ведь на человека воздействует и природа, и впечатления сверхземные, словом, весь мир, «целое». Это-то целое и нужно взять за точку опоры. Надо, говорит Толстой, чтобы человек был «сообразен с целым, с источником всего, а не с частью, с обществом, и тогда общество, как часть, не будет иметь влияния на тебя».
На протяжении всего своего творческого пути Толстой будет различать в человеке помимо начала, данного ему средой, общественной эпохой, человеческой историей, и начало, проистекающее из всего безграничного мира. В «Войне и мире» он их противопоставит: первое назовет «искусственным» (официальным), второе — «естественным», или началом «живой жизни». При этом главное внимание Толстого будет перенесено с официально-«искусственных» свойств человека на открытую в нем стихию «живой жизни».
В свете этого факта понятным становится и испытание толстовских героев близостью смерти. По самой своей природе явление сверхсоциальное и сверхисторическое, она такие же качества человека, в его обычном общественном поведении скрытые, как раз и выявляет.
Своим художественным назначением в произведениях Толстого пороговая ситуация человеческого умирания функционально близка знаменитым сценам-скандалам в романном «пятикнижии» Достоевского, где герои этого писателя отбрасывают свою официальную общественную личину и, как бы бросаясь с горы, предстают в своей глубинной личностной сущности.
Обратимся к толстовскому психологическому анализу и пониманию характера. Новаторство Толстого как писателя-психолога было проницательно уловлено Н. Чернышевским в его статье «Детство и отрочество. Сочинения графа Л. Н Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого» (1856). «Психологический анализ, — писал критик, — может принимать различные направления: одного поэта занимает всего более очертания характеров; другого — влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души».
Критик не назвал русских прозаиков, в творчестве которых представлены перечисленные им виды психологического анализа. Но скорее всего под «поэтом» первым он имел в виду Гоголя, под вторым — А. Писемского, третьим — Тургенева, четвертым — Гончарова, т. е., исключая уже умершего творца «Мертвых душ», — писателей из тех старших современников Толстого, кто, горячо приветствуя в авторе «Детства» новое художественное дарование России, вместе с тем новизну толстовского психологизма и характерологии адекватно оценивал порой далеко не сразу. Так, Тургенев, читая даже «Войну и мир», писал в феврале 1868 года П. В. Анненкову: «Настоящего развития нет ни в одном характере (что, впрочем, Вы отлично заметили), а есть старая замашка передавать колебания, вибрации одного и того же чувства, положения, то, что он так беспощадно вкладывает в уста и в сознание каждого из своих героев: люблю, мол, я, а в сущности ненавижу и т. д., и т. д. Уж как приелись и надоели эти quvasi-тонкие рефлексии и размышления, наблюдения за собственными чувствами!».
Недоумение Тургенева, считавшего, что Толстой, психолог и создатель характеров, вместо изображения последних предается мелочному копанию в себе и в своих персонажах, понятно. Прежняя русская (и европейская) литература, будь то нравописатели «натуральной школы», писатели-онтологи или «социальные беллетристы» 1860-х годов, понимала и изображала характер как явление и при его возможном развитии, в коренных его свойствах.
(социально-психологических, морально-нравственных, этико-эстетических) все же весьма устойчивое и завершенное. Говоря в письме к А. И. Половцову, что «в основе» тех или иных его героев «всегда почти лежат реальные лица», тот же Тургенев так пояснял свое преображение прототипов в художественные типы: «Задумываешься над характером, его происхождением, образованием…». Автор «Дворянского гнезда», «Нови» составлял даже «формулярные списки» будущим персонажам, внося туда, что называется, главные анкетные данные о каждом из них.
Толстой же полагает, что так изображать человека — значит, говорить о нем неправду или полуправду. В своем дневнике он иронизирует над своими «приятелями-литераторами», которые, встречаясь с человеком, стараются, как пишет он, «наперед определить себе его характер и потом это мнение берегут как красивое произведение ума». И заключает: «С таким искусственным, мелким знанием нельзя знать человека».
Но почему же? Потому, что человека, убежден Толстой, нельзя свести к каким-то раз навсегда данным и застывшим качествам, способностям и свойствам. Нельзя, так как человек в сущности своей многослоен, разнообразен, различен, а поэтому изменчив, текуч.
Положение о человеческой «текучести» Толстой наиболее обстоятельно разовьет в своем последнем романе «Воскресение» (1889—1899), протестуя против одного «из самых обычных и распространенных „суеверий“», т. е. привычного представления, согласно которому «каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный, и т. д.». «Люди, — возражает Толстой, — не бывают такими; мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый». И итожит: «Люди, как реки: вода во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то холодная, то теплая. Так и люди».
Зерно этой идеи мы находим, однако, уже в следующих словах из первой редакции «Детства»: «Ни один из качественных противоположных эпитетов, предписываемых людям, как-то: добрый, злой, глупый, умный, красивый, дурной, гордый, смиренный, — я не умею прилагать к людям: в жизни моей я не встречал ни злого, ни гордого, ни доброго, ни умного человека. В смирении я всегда нахожу подавленное стремление гордости, в умнейшей книге нахожу глупость, в разговоре глупейшего человека я нахожу умные веши и т. д.».
В период работы над трилогией «Детство. Отрочество. Юность» Толстым найдена и лаконичная общая формула его антропологии: «Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр, и наоборот. В этом величие человека» (курсив мой. — В.Н.).
Эту-то текучесть человеческого характера, а также и каждого людского переживания, чувства, состояния («положения») Толстой-художник и улавливает обусловленным ею и единственно ей соответствующим методом «диалектики души» как фиксации психического процесса, происходящего в изображаемом человеке в любой конкретный жизненный момент. «Диалектика души» заменила у Толстого устойчиво-одномерные характеры прежней литературы, явившись у автора трилогии самим художественным образом человека.
«Текучесть» вместе с характером того или иного изображаемого лица и его чувств, переживаний, оценок, их способность к изменению и преображению в повести «Детство» демонстрируется с первых же страниц. Вот несколько примеров тому, особенно тонко прокомментированных С. Бочаровым в свете его понимания толстовской «диалектики души».
Разбуженный неловкостью Карла Ивановича Николенька почитает себя лично обиженным и предается злым мыслям на его счет. «Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит». Но проходит несколько минут, и Николенька, слушая нарочито сердитый голос Карла Ивановича, наблюдая, как он понюхал табак, утер нос, щелкнул пальцами, диаметрально меняет свой отзыв о наставнике: «„Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!“».
Был зол — стал добр, вот что увидел Толстой, анализируя это «положение» своего героя.
В главе «Детства» «Папа» вроде бы поставлен вопрос «Что за человек был мой отец?» Но определенный ответ на него как раз отсутствует. Вместо него Толстой дает изображение и анализ того, как вел себя отец Николеньки в разных ситуациях, в том числе перед лицом умершей жены. В начале предпоследней главы произведения — «Горе» — сам герой повести поздно вечером идет в комнату, где стоит гроб с его матерью, и художник его устами передает испытанные мальчиком состояния. И тут оказывается, что из всего времени, пока Николенька смотрел на безжизненное лицо матери, лишь одна минута его «самозабвения была настоящим горем». Все остальные эмоции героя были сложным сплетением и взаимным перетеканием любопытства с грустью, грусти с каким-то «самолюбивым чувством», а этого чувства с заботой о том впечатлении, которое он производил на окружающих, т. е. с тщеславием, и т. д.
Толстовсды неоднократно отмечали своеобразие автора «Войны и мира» как портретиста. На наш взгляд, в портретах действующих лиц Толстого также отражается его концепция человеческой «текучести». Это легко заметить, сравнивая, скажем, портреты таких персонажей Тургенева, как Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов, с портретами Андрея Болконского, Наташи Ростовой («Война и мир»). В первом случае перед нами устойчивые физические особенности каждого, точные и мало меняющиеся детали («обширный череп», «песочные бакенбарды», «красные руки», небрежная одежда Базарова и, наоборот, — правильное красивое лицо, холеные руки, безукоризненная сорочка со стоячим воротничком, общая тщательность одежды Павла Кирсанова). Это живопись или скульптура, как и в ряде портретов гончаровского «Обрыва» (вспомним портреты Софьи Беловодовой, Марфеньки). Напротив, у Толстого самое лицо героя не статично и единообразно, а вслед за его характером подвижно, изменчиво. И поэтому вместо одноразового портрета какого-то героя Толстой дает десятки состояний («положений») его лица и внешности в целом. Князь Андрей Болконский назван красивым. Но его лицо бывает и «изуродованным от бешенства». Юная Наташа Ростова — девушка «некрасивая, но живая». Но в сцене свидания Наташи с раненым Андреем Болконским в Мытищах ее лицо обезображено страданием. Князь Василий Курагин, как всякий царедворец, — актер-лицедей и человек холодный. Нов сцене смерти старого графа Безухова мы видим его с трясущейся «нижней челюстью», очевидно, от искреннего ужаса перед неизбежной и для него смертью.
Если же лицо какого-то толстовского персонажа статично и неизменно, то это признак безжизненности или духовнонравственной примитивности и его самого. Об Элен Курагиной постоянно говорится, что она красива. Но и красота Элен, и сама эта женщина — однообразны, как и ее застывшая в вечной улыбке физиономия. И читатель скоро начинает воспринимать красоту Элен как прямо противоположную ей маску, т. е. как безобразие.
С мыслью о способности человека изменяться и душевно, нравственно обогащаться связана и одна из главных тем трилогии «Детство. Отрочество. Юность» да и всего творчества Толстого. Это тема нравственного усовершенствования современника.
Толстой не отрицает воздействия на человека окружающей его среды, общества в целом. Вот пример такого воздействия (приведен и прокомментирован также С. Бочаровым). В подарок ко «дню ангела» бабушки Николенька сочиняет стихотворение, которое заканчивается словами Стараться будем утешать И любим, как родную мать.
Герой чувствует вымученность и фальшь своего произведения и стыдится их. Однако бабушка, прослушав стихи, сказала, сообщает Николенька, «„Charmant“ и поцеловала меня в лоб». Этот эпизод не пройдет бесследно для героя «Детства». Ему привычнее станет формализм, условность светских отношений, в следующий раз он не будет так волноваться.
Но нравственный рост героя трилогии отнюдь не ограничен воздействием условной общественной морали. Он приемлет богатство и разнообразие впечатлений, идущих из большого мира. И они также душевно формируют мальчика, при этом большей частью уже благотворно. Чрезвычайно показательна в этом свете встреча Николеньки Иртеньева с пришедшим в их московский дом юродивым Гришей, рассказанная в одноименной главе «Детства».
Дети задумали шалость, — незаметно наблюдая за юродивым, укладывающимся спать, «посмотреть Гришины вериги». Но очень скоро Николеньку начали занимать не они, а то, как глубоко и искренно молился на ночь этот простой и на вид даже тупоумный человек. «Сначала, — рассказывает мальчик, — он тихо говорил молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим воодушевлением. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих, в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы бог простил ему тяжкие грехи… Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, я чувствовал дрожь и замирание сердца». «Да будет воля твоя! — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок».
И вот как характеризует нравственное воздействие изображенной встречи уже не автобиографический герой «Детства», а сам его автор —двадцатичетырехлетний Толстой: «Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее существование; но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти» (курсив мой. — В.Н.) — А чувство это было — любовь, которая в тот момент проявилась у героя «Детства» непроизвольно по отношению к сидевшей рядом девочке Катеньке («Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами»), но которая спустя годы станет для Толстого всеопределяющим символом его веры.
Человек, показывает на примере героя трилогии Толстой, способен противостоять воздействию на него нравственно ущербной среды (понятий, норм) силой и самоанализа, нравственного самоконтроля. Именно самоанализ позволяет юноше Иртеньеву преодолеть светский идеал comme il faut («как должно»), на некоторое время его пленивший. В конце трилогии мы видим глубокий интерес ее героя к людям совершенно иной среды — разночинцам Зухину, Семенову и понимание их нравственного превосходства, стремление подражать им.
В «Детстве», «Отрочестве», «Юности» «диалектика души» продемонстрирована на герое особого психологического склада. Интерес к герою типа Иртеньева — рефлектеру, склонному к самонаблюдению и самоанализу, — у Толстого сохранится надолго: мы узнаем его в князе Нехлюдове из «Утра помещика», в Оленине из «Казаков», наконец, в князе Нехлюдове из романа «Воскресение».
Но способность «текучести» и постоянного нравственного обогащения уже в творчестве молодого Толстого поняты как свойство людей не только типа Иртеньева, но всех людей. Ни один человек, кем бы он ни был по своему официальному положению в обществе, не замкнут навсегда пределами (рамками) своего общественного (сословного, классового, государственно-бюрократического и т. д.) состояния, звания (титула, чина) или социальной функции.
Эту мысль доказывают «Севастопольские рассказы» («Севастополь в декабре»; «Севастополь в мае; «Севастополь в августе 1855 года»). Произведение одухотворено резким пересмотром взглядов и понятий, обязанных своим существованием господствующему обществу, предсказывая этим ту великую переоценку ценностей, которая будет осуществлена Толстым в его «Войне и мире». Толстой камня на камне не оставляет от общепринятого понимания того, чтб такое человеческая храбрость, трусость,.
патриотизм, что такое сражение, как ведут себя люди в сражении, что такое русский солдат и что такое тот, кого официально именуют «противником», врагом.
«Севастопольские рассказы» всесторонне и разносторонне полемичны, сходясь в этом с произведениями Ф. Достоевского 1840-х годов в их отношении к массовой литературной продукции «натуральной школы». Только один пример такой полемики. В последнем рассказе цикла — «Севастополь в августе 1855 года» — Толстой на примере второстепенного персонажа — волонтера Вланга — показывает, насколько привычные понятия о храбрости не отвечают правде живого человека.
Волонтер Вланг поначалу удивляет другого героя рассказа — старшего из братьев Козельцовых — своим равнодушием к вражеской бомбардировке, которая грозит разрушить тот домишко, где эти персонажи встречаются друге другом. Волонтер добровольно вызывается проводить Козельцова на 4-й оборонительный бастион Севастополя — самое страшное место в защитных укреплениях города — и остается там с ним. Но, оказавшись под вражескими ядрами без надежного укрытия, Вланг вызывает постоянный смех у солдат своей откровенной робостью и охватившим его паническим страхом. Однако он же — в момент неприятельского штурма бастиона — ведет себя именно так, как всего целесообразнее поступать, чтобы спасти себя и товарища, хотя его поведение лишено всяких внешних примет того, что принято называть храбростью.
Какой же он человек? Храбрый? Трусливый? Ни тот, ни другой, отвечает своим рассказом Толстой. Потому что этих определений попросту недостаточно для того, чтобы верно охарактеризовать даже один эпизод из жизни живого человека. Для этого требуется совершенно новое его понимание, новый взгляд на него.
Этот-то новый взгляд, открывающий нам человека в его истине, и утверждается Толстым в его «Севастопольских рассказах» так же, как ранее в трилогии о Николая Иртеньеве. Но, распространяя здесь его уже на всех и всяких людей, писатель на этом основании называет его и подлинным героем произведения. Вот как он назван в конце рассказа «Севастополь в мае»: «Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому нужно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши, все дурны. Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда» (курсив мой. — В.Н.).
Сказать правду о человеке — значит, по Толстому, отбросить свойственное прежней литературе представление о человеческом характере как о неделимом атоме и увидеть этот характер как атом неисчерпаемый. Ибо в каждый момент в человеке живет множество побуждений, чувств, желаний. И взять верх может любое из них: либо чувство альтруистическое, либо эгоистическое, либо низкое (например, тщеславие), либо высокое (например, любовь к родине), приводя, следовательно, к результатам не только дурным, но и хорошим. Так, в рассказе «Севастополь в августе 1855 года» Толстой покажет, как в душах таких же русских офицеров из числа защитников Севастополя, какие ранее были во власти тщеславия, в решительный момент открылась способность умереть за родину.
* * *.
Разрушая традиционное понимание литературного характера и изображая в своих произведениях не результаты психического процесса, происходящего в человеке, а сам процесс, Толстой-художник преследовал этим и более конкретную цель, занимавшую его с самого начала его творчества. Говорим об осознанном стремлении Толстого посредством своего искусства непосредственно содействовать преображению на началах гармонии современного человека и реальной действительности в целом. Именно в этом смысле творец «Войны и мира» отделял себя от авторов — «литераторов», создающих, как он полагал, только прекрасные эстетические предметы, и объективно сближался с такими деятелями общечеловеческого прогресса, как Конфуций, Будда (Сиддхартха Гаутама), Платон, Аристотель, Иисус Христос, пророк Магомет, Бенжамен Франклин, позднее — Махатма (святой) Ганди, Лютер Кинг.
Художник Толстой уже в начале своего творческого пути более всего занят проблемой подлинного общения и единения («мира») людей, являясь в этом отношении соратником и Герцена, и Гончарова, и Достоевского и даже — при всем неприятии его рационалистических решений — Н. Чернышевского. Однако в своем негативном отношении к существующим формам общения и единения, т. е. к наличному социальному устройству и России, и стран Западной Европы, он идет дальше и Гончарова, и Достоевского, считая, что эти устройства всего лишь разъединяют людей, отчуждая их друг от друга.
Общественное устройство, действительно единящее людей, должно, по Толстому, сложиться на совершенно иной общечеловеческой основе. Ее Толстой видит в тех «естественных» потребностях людей, которые таятся в душе каждого человека, кто бы он ни был, и проистекают из воздействия на него стихии «живой жизни». Это не жажда богатства, власти, господства и иного возвышения над другими людьми, не тщеславие, себялюбие и подобные им побуждения, прививаемые людям господствующими общественно-государственными порядками. Это — потребность взаимопонимания, инстинкт деятельности, творчества, любовь и уважение к родителям, предкам, привязанность к большой и малой родине, это — семья, дети, внуки и правнуки, их радости и их болезни, горести, это — радость бытия и таинство смерти, счастье бескорыстного взаимного узнавания людей друг другом.
Это те ценности, которые государством и официальным обществом обычно не учитываются. Однако, полагает Толстой, для человека они и есть самые важные и необходимые. Они объединяют, а не разъединяют людей. На их-то почве только и возможны истинное человеческое общежитие, чаемый человеческий «мир». Надо раскопать эти начала в человеке, извлекая их из-под наслоений, наложенных на них понятиями господствующего общества, и люди обратятся друг к другу не как господа и слуги, богатые и бедные, собственники и неимущие, а как человек к человеку, интересные друг другу своей неповторимостью и самобытностью.
Толстовское внимание к этим человеческим началам объясняет тему первого произведения писателя — изображение детства. Для Толстого детство интересно не в качестве ступени ко взрослому состоянию человека, а как эпоха, ценная сама по себе. Писатель выразил протест Н. Некрасову, когда он, публикую повесть «Детство» в «Современнике», дал ей иное название — «История моего детства».
Взрослый человек, как правило, уже сформирован обществом по его образу и подобию; но ребенок еще полон естественных начал жизни. Значит, надо прежде всего присмотреться к детству, проанализировать жизнь ребенка и взять оттуда те моменты и элементы, которые помогут формировать человека в истинном направлении.
В детстве Толстой ищет «стройматериал» для возрождения современного человека, не однажды подчеркивая, что во все времена и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, доброты, правды и красоты. А также, дополним мы Толстого, — и справедливости. «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! — восклицает писатель в своей повести. — Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для нее источником лучших наслаждений» (курсив мой. — В.#.). С интересом к детству человека у Толстого перекликается его ранний и с годами только возраставший интерес к народной жизни — своего рода детству человечества.
Вернемся к вопросу о сверхцели толстовской «диалектики души». Она состоит в том, чтобы, расслоив, расщепив душевную жизнь человека до самого глубокого ее слоя, где залегает духовный потенциал человека, взять этот потенциал как материал для воссоединения человека с людьми, для построения гармонического общества. Толстой и здесь близок Цостосвскому-художнику, видевшему свою задачу в том, чтобы «при полном реализме найти в человеке человека».
Молодой Толстой намечает два пути построения общественной гармонии. Первый — это путь нравственного самоусовершенствования отдельного человека, непрерывный его духовный рост. Его основные средства — самоанализ, самоконтроль, сознательное противостояние господствующим нормам и понятиям. Вот как излагает этот путь Николенька Иртеньев, пребывающий уже на пороге отрочества и юности: «…Под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил себе и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские казалось удобоисполнимой вещью, — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым…».
Однако построению гармонии на этом пути препятствует неизбежная сосредоточенность человека только на самом себе, его невольное «обособление» (Ф. Достоевский) от других людей и всего огромного жизненного мира. А ведь именно этот мир — бесконечным разнообразием входящих в душу впечатлений — был источником обогащения человеческой души, активизации в ней начал «живой жизни».
Второй путь — это путь наивозможно широких и разнообразных жизненных связей индивида, его сближения с полнотой бытия, в том числе — с народом, природой, мирозданием и Божеством, и впитывания в себя их живых начал и импульсов. Этот путь сродни движению человека к внесословной и внекастовой «общинности» А. Герцена и «высшему синтезу жизни», а также обществу-«братству» Ф. Достоевского. Как и для названных современников Толстого, это путь к собственно личности — в значении человека полнокровного и цельного, свободно-ответственного и творческого.
Этот путь «прорабатывается» молодым Толстым в рассказе «Утро помещика», в романе «Семейное счастье» и в повести «Казаки» (позднее — в «Войне и мире», «Анне Карениной», повести «Отец Сергий»).
В «Утре помещика» молодой дворянин Нехлюдов, занятый делом душевного усовершенствования, обращается к миру народа в лице его собственных крепостных крестьян. Однако в отношения с крестьянами он вступает в своем официальном статусе баринапомещика. И это напрочь подрывает возможность единения его с мужиками на собственно человеческой основе. Между Нехлюдовым, человеком добрым, мечтающим соединить свою жизнь с интересами жизни крестьян, и мужиками возникает фатальное непонимание. Герой, а с ним и автор рассказа, убеждаются, что на почве этого (т.е. крепостнического, неравноправного) общества, извращающего взаимоотношения людей, достичь гармонии человека с человеком даже при горячем желании с одной стороны нельзя. В конце произведения Нехлюдов, сознав тщетность своих усилий, испытывает «смешанное чувство усталости, стыда и раскаяния». Сам писатель так сформулировал итоговую мысль рассказа: «Невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством».
Первая попытка толстовского героя создать такие человеческие отношения, которые бы не разъединяли, а объединяли людей, потерпела крах. А может быть, человеку и в самом деле, как однажды подумал Нехлюдов, «легче самому найти счастье, чем дать его другим»? Быть может, счастье в уходе-изоляции от развращенного общества в маленький, но исполненный естественных потребностей круг семьи? Ответом на этот вопрос стал толстовский роман «Семейное счастье».
Своего рода конспектом будущего «семейного романа» можно считать письмо Толстого 1852 года к его тетушке Т. А. Ергольской. Вот как рисовался писателю этот вариант гармонического общественного союза: «После некоторого количества лет, не молодой, не старый, я в Ясной Поляне, дела мои в порядке, у меня нет ни беспокойства, ни неприятностей. Вы также живете в Ясной. Вы немного постарели, но еще свежи и здоровы. Мы ведем жизнь, которую вели раньше, — я работаю по утрам, но мы видимся почти целый день. Мы обедаем. Вечером я читаю что-нибудь интересное для вас. Потом мы беседуем, я рассказываю вам про кавказскую жизнь, вы мне рассказываете ваши воспоминания о моем отце, матери… Мы вспоминаем людей, которые нам были дороги и которых больше нет. Вы станете плакать и я тоже, но эти слезы будут успокоительны; мы будем говорить о братьях, которые будут к нам приезжать время от времени. О доброй Маше, которая также будет проводить несколько месяцев в году в Ясной, которую она так любит, со всеми своими детьми. У нас не будет знакомых, никто не придет нам надоедать и сплетничать. Это чудный сон. Но это еще не все, о чем я себе позволю мечтать. Я женат, моя жена тихая, добрая, вас она любит так же, как и я; у нас дети, которые зовут вас бабушкой; вы живете в большом доме наверху, в той же комнате, которую прежде занимала бабушка. Весь дом содержится в том же порядке, какой был при отце…».
Это семейная (в ее истоках — родовая) идиллия и семейная робинзонада, имеющая, кстати, много общего с «поэтическим идеалом жизни», нарисованным заглавным героем гончаровского «Обломова» во второй части романа. Еше А. Герцен, однако, считал семейную идиллию, отрешенную от общенациональных и всечеловеческих проблем и забот, «эгоизмом двух», в его глазах — самым худшим видом эгоизма. Герой «Семейного счастья» недаром показан человеком, утратившим веру в людей и жизнь, да и самого себя. И созданный им «счастливый мирок» обособленной семьи терпит крах сразу же, как герои романа выходят в большую жизнь.
Для Толстого нравственное состояние и иллюзия героя «Семейного счастья» были временными. Уже в повести «Казаки» он преодолевает утопию семейно-камерной гармонии. Ее герой Дмитрий Оленин, человек молодой, образованный, но глубоко не удовлетворенный ни окружающим его обществом, к которому он принадлежит, ни собой, ищет широкого единения с людьми на основе «живой жизни». И поначалу надежда обрести его кажется ему реальной. Ведь он нашел, казалось бы, неискаженную господствующим обществом и государством человеческую среду, живущую согласно тем естественным потребностям людей, которые Толстой искал в человеке методом «диалектики души». Это среда казачества. «Люди, — говорит Оленин о жителях северокавказской казацкой станицы, в которой происходит действие повести, — живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву, других законов у них нет».
Сформированные самой природой, эти люди представлены молодым казаком Лукашкой и красавицей Марьянкой, но полнее всего охотником и язычником дядей Ерошкой. Ерошка — это, по Толстому, сама естественная жизненная стихия с ее любовью ко всему, себе подобному. В качестве охотника Брошка и убийца, но не из страсти убивать, а в ходе честного соперничества с диким животным и хищным зверем.
Оленин в общении с казацкой жизнью нравственно во многом обновляется и перерождается. Он стал больше человеком и более счастливым человеком. Однако полное единение героя повести с казаками оказывается для него невозможным. Не оттого ли, что такое единение (гармония) требует от Оленина отказа от своей личностной самобытности? Ведь Оленин, чтобы жить по-казацки, должен был совершенно опроститься, отказаться не только от «искусственных», но и многих естественных своих начал. И чуткие ко всякой фальши казаки не понимают намерения Оленина стать одним из них.
Но и они не способны подняться до уровня человеческих стремлений Оленина, понять его жажду гармонического единения с ними и народным миром в целом. Должного взаимопонимания между развитым толстовским героем и низовой частью русской нации опять-таки не возникает.
Но Толстой-художник продолжит поиски той жизненной ситуации, в которой такое взаимопонимание станет вполне естественным, ведя к возникновению и чаемого писателем гармонического единения между отдельным человеком и огромным народно-национальным миром. Он найдет ее в эпохе отечественной войны 1812 года против наполеоновского нашествия. Перед угрозой смерти, нависшей над всеми россиянами, в каждом из них — от фельдмаршала Михаила Кутузова до мужика Тихона, от Андрея Болконского до Наташи Ростовой — выявится и мощно заявит себя общая всем людям «живая жизнь». И на ее почве в горниле народной войны создастся новое общежитие людей — мир 1812 года, мир как огромная семья, почти всероссийская община.