Лекция 11 ТВОРЧЕСТВО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (1840-е годы)
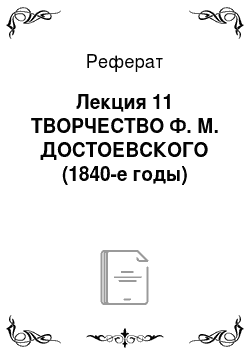
Качественную новизну художественного мира и Ф. Достоевского, и Л. Толстого в сравнении с творчеством русских писателей из числа как «шестидесятников», так и «людей сороковых годов» зафиксировали уже современники. Так, автор книги «Русский роман» («Le roman russe»), изданной в 1886 году в Париже, дипломат и литератор Мелькиор де Вопоэ называет великими художниками и И. Тургенева, и Л. Толстого… Читать ещё >
Лекция 11 ТВОРЧЕСТВО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (1840-е годы) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Обозревая в предшествующих лекциях творчество, с одной стороны Тургенева и Гончарова, а с другой — очеркистов 1860-х годов, Н. Помяловского и Н. Чернышевского, мы рассматривали их в рамках основных типологических течений в русской литературе второй трети XIX века: 1) литературы о «самом человеке» (онтологического пафоса) и 2) «социальной беллетристики» (или драмы) и поэзии гражданственного пафоса.
Литература
первого типа (к ней мы относили также произведения А. Островского, Тютчева, Фета, Я. Полонского, А. Майкова, Л. Мея) осмысливала текущую российскую действительность в свете прежде всего коренных и вечных устремлений, интересов и проблем личности; литература типа второго (включая творчество М. Салтыкова-Щедрина, Н. Некрасова и поэтов его школы) воспринимала и оценивала ту же действительность через призму прежде всего интересов народа (крестьянства), в связь с которыми ставила и свое понимание полноценной личности.
Что же касается двух крупнейших отечественных прозаиков второй половины XIX века, Ф. Достоевского и Л. Толстого, то и наследование ими некоторых эстетических принципов И. Тургенева, А. Гончарова или Ф. Тютчева и А. Фета отнюдь не исключает их значительной творческой оппозиции к ним в целом. Ни Ф. Достоевского, ни Л. Толстого невозможно исчерпать понятием не только «социального беллетриста», но и художника-«онтолога».
Качественную новизну художественного мира и Ф. Достоевского, и Л. Толстого в сравнении с творчеством русских писателей из числа как «шестидесятников», так и «людей сороковых годов» зафиксировали уже современники. Так, автор книги «Русский роман» («Le roman russe»), изданной в 1886 году в Париже, дипломат и литератор Мелькиор де Вопоэ называет великими художниками и И. Тургенева, и Л. Толстого. Но тут же подчеркивает: между ними лежит бездна. «Один, — пишет Вопоэ, — еще держался преданий прошлого и европейской школы, другой разорвал с прошедшим и с чужеземным рабством; это новая Россия, устремившаяся во мраке на поиски своих путей… Не требуйте от нее, чтобы она ограничила себя — к этому она менее всего способна…». Глубокое отличие романов Достоевского и Л. Толстого от романов Тургенева, Гончарова замечали и такие их западноевропейские читатели, как испанская писательница Эмилия Пардо Басан, автор эссе «Революция и роман в России» (1887), и датский критик Георг Брандес, автор «Русских впечатлений» (1888).
Это различие вполне сознавали и сами художники, о которых идет речь. Гончаров, по его признанию, прочитал из Достоевского только роман «Бедные люди» и «Записки из подполья». В 1870-е годы он вступит в полемику с автором «Преступления и наказания» по проблеме художественного обобщения, оспаривая возможность типизации молодой, «только народившейся» действительности. Со своей стороны, Достоевский, высоко оценивая образ тургеневского Базарова («Отцы и дети»), в романе «Бесы» (1871—1872) создаст в лице писателя Кармазинова почти карикатурный портрет самого Тургенева, человека и художника.
В 1868 году Достоевский, сообщая поэту Аполлону Майкову о замысле «огромного» итогового романа «Атеизм» («написать этот последний роман, да хоть бы умереть — весь выскажусь»), превратившегося спустя время в роман «Братья Карамазовы», попутно признается: «Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихнего. Господи! Пересказать толково то, что мы, все русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, — да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает. Ну не ничтожен ли Любим Торцов в сущности (т.е. главный герой пьесы А. Островского „Бедность не порок“, разорившийся и опустившийся московский купец, но человек, верный заветам христианской нравственности. — В.Н.), — а ведь это все, что только идеального позволил себе их реализм. Ихним реализмом — сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось».
И. Тургенев был одним из первых читателей Л. Толстого, кто сразу же признал в авторе «Детства», «Севастопольских рассказов» выдающийся художественный талант. Но тот же Тургенев долгое время отрицательно относился к толстовскому психологическому анализу — «диалектике души», неразрывной с толстовским новаторством в понимании литературного характера. В свою очередь и Л. Толстой, отличая себя от писателей поколения 1840-х годов, говорит: «Тургенев — литератор, Гончаров еще больше литератор. Я и Лермонтов не литераторы». Л. Толстой — «не литератор» в том смысле, что не довольствуется, как Тургенев и Гончаров, созданием в лице своих произведений только эстетических ценностей, а стремится своим художественным творчеством пересоздать человека и существующую антигуманную действительность.
«Мне кажется, — писал в 1884 году знаменитый русский философ Вл. Соловьев, — что на Достоевского нельзя смотреть как на обыкновенного романиста, как на талантливого и умного литератора. В нем было нечто большее, и это большее составляет его отличительную особенность и объясняет его действие на других». Речь также идет о способности Достоевского-художника не просто удовлетворять эстетическим потребностям его читателей, а нравственно перерождать их в процессе чтения-переживания ими созданных в его романах сложнейших моральных коллизий. В этом свете показательны и самоопределения писателя, данные его реализму: это — реализм «фантастический» или «реализм в высшей степени».
И Достоевский, и Л. Толстой обогатили литературно-художественное творчество не просто новыми жизненными сферами и ракурсами их изображения, как и оригинальными художественными средствами и формами. Заслуги данного рода разделяют все крупные художники слова. Оценивая вклад названных русских писателей в русскую и мировую литературу, можно и должно говорить о свершенном ими поистине эпохальном литературно-эстетическом открытии, соразмерном в астрономии открытию Коперника по отношению к Птолемею, а в физике — А. Эйнштейна к Ньютону. Случайно ли, в самом деле, то признанное автором «теории относительности» обстоятельство, что для ее создания ему больше, чем «король математиков» XIX века К. Ф. Гаусс, «дал Ф. Достоевский»?
Основой этого открытия стали конгениальные друг другу, но в равной мере принципиально новые художественные антропологии и Достоевского, и Л. Толстого, а также их концепции «современного человека» в подлинной сложности (противоречивости, разноустремленности) его природы и в драматических отношениях как с самим собой, так и с человечеством и Богом.
В особенности нетрадиционен на фоне предшествующей ему русской и европейской литературы и эстетики художественный мир Достоевского, художника, прозревшего в современнике четвертое измерение с его безднами духа и плоти (в частности, сладострастия), иррациональным индивидуалистическим подпольем и мучительными метаниями между верой (моралью) и неверием (аморализмом) и идеалами Богочеловека и Человекобога.
Все, что многим писателям из предшественников Достоевского представлялось если не простым, то все же доступным определению, в художественном мире автора «Двойника», «Преступления и наказания», по верному наблюдению М. М. Бахтина, «стало сложным и многосоставным». Каждое явление, характер, чувство обнаружило свою «двусмысленность и многосмысленность»: «любовь живет на самой границе с ненавистью, а ненависть на границе с любовью. Вера живет на самой границе с атеизмом и наоборот. Высота и благородство живут на границе с падением и низостью»; «чувство самосохранения, любовь к жизни соседствуют с желанием самоуничтожения. Чистота и целомудренность понимают порок и сладострастие».
Самая красота у Достоевского преобразилась. Вот что говорит о ней, например, главный герой гончаровского романа «Обрыв» Борис Райский: «Красота, исполненная ума, — необычайная сила, она движет миром, она делает историю, строит судьбы; она явно или тайно присутствует в каждом событии… Красота, про которую я говорю, не материя: она не палит только зноем страстных желаний: она прежде всего будит в человеке человека, шевелит мысль, поднимает дух, оплодотворяет творческую силу гения…». Борис Райский, в данном случае второе я Гончарова, именно определяет по крайней мере высокую, искушенную разумом и нравственным чувством красоту. Напротив, Дмитрий Карамазов («Братья Карамазовы») без всяких оговорок заявляет: красота — «страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и ужасная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей».
Да и не эстетическое преображение (поэтизация) воспроизводимой русской действительности, отличавшее творчество и Гончарова и Тургенева, явилось главной задачей Достоевского-художника, хотя он устами героя своего романа «Идиот» и скажет, что.
«красота спасет мир», имея в виду красоту, оплодотворенную нравственными заветами Христа. Главная его цель — «восстановление погибшего человека», т. е. прямое содействие своим творчеством духовно-нравственному преображению и воскрешению его.
А основным способом постижения его сложной противоречивой природы (или — «тайны», ибо, согласно автору «Бедных людей, «человек есть тайна») станет у Достоевского испытание его героев (и читателей) не любовью (как у Тургенева и Гончарова), не разумом (как у Чернышевского), не общеполезным трудом (как у Салтыкова-Щедрина), а испытание их бунтом против христовой морали и тем самым против самого Богочеловека.
Герои Достоевского бросят осознанный вызов Ему или своим убийством «по совести» (как Родион Раскольников), или таким же самоубийством (как инженер Кириллов в «Бесах»), или даже отцеубийством (как Смердяков и Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых). Все эти вызовы-переступания божеских заповедей в конечном счете завершатся для названных героев Достоевского их личной Голгофой — судом их проснувшегося нравственного существа.
Через своего рода нравственную Голгофу (и «крестный путь» в целом) должен был пройти и читатель Достоевского, с необычайным психологическим мастерством увлекаемый автором «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых» в нравственные ситуации его героев до такой степени, что начинал ощущать себя их двойником. Превращая постижение-переживание читателями своих основных романов в их собственный «крестный путь», Достоевский тем самым преображал и самое свое романное «пятикнижие» в род древней мистерии, мучительное «прохождение» через которую должно было, однако, принести современнику духовное очищение и конечное перерождение.
При этом писатель хорошо понимал: такое «прохождение» по силам не каждому. «Вы думаете, — отвечал он одной из своих читательниц, — я из таких людей, которые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорбь? Иногда мне это пишут — но я знаю, что способен скорее вселить разочарование и отвращение. Я убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это» (курсив мой. — В.Н.). Процитированное признание объясняет, почему Достоевского, как еще в 1887 году свидетельствовала Эмилия Пардо Басан, «не читают люди с чувствительными душами, слабой организацией, противники сцен ужасов, поклонники классицизма, с его спокойствием, гармонией, светом».
В отличие от Гончарова Достоевский-романист никогда не дистанцировался от «текущей действительности» и не был по отношению к ней сколько-нибудь избирателен. Его «Бесы», а также «Подросток» написаны и по следам недавних политических событий — суда над анархистом, основателем «Народной расправы» Сергеем Нечаевым, деятельности народовольцев-Лмгушшщев. Вместе с тем каждое из этих и подобных ему событий, «текущая действительность» в целом всегда увидены им под онтологическим углом зрения и высвечены эсхатологическим светом и такими же коллизиями человечества.
Бесстрашно опрокидывая нормы традиционного литературноэстетического сознания и крайним неблагообразием своих персонажей (например, героя-рассказчика «Записок из подполья»), и резким нарушением чувства меры (например, в сценах скандала, разразившегося на поминках чиновника Мармеладова), и бесчисленными трупами (возмущавшими, в частности, А. Чехова), Достоевский одновременно создает в своем романном «пятикнижии», а также в «Записках из Мертвого дома» глубоко новаторские жанровые образования, базирующиеся на формах внутренних, своими коллизиями и сюжетами восходящих к контроверзам и ситуациям Священного писания в единстве его Ветхого и Нового заветов и прежде всего — к противоборству Бога и дьявола, Христа и Антихриста, личности живой и — мертвой.
И если, согласно верному наблюдению Л. Толстого, все крупнейшие русские романисты — Пушкин, Гоголь, С. Аксаков, Тургенев, Гончаров, сам автор «Войны и мира» — «не умели» писать романы в том виде, как понимают этот род сочинений в Западной Европе, то Достоевский не продолжал в своих «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Бесах», «Подростке» и «Братьях Карамазовых» и жанровые формы романов А. Писемского, Д. Григоровича, С. Аксакова, Тургенева или Гончарова. Однако истоки и источники Достоевского как «крупнейшего новатора романной формы» (X. Ортега-и-Гассет) до сих пор должным образом не выявлены. Отсюда и множественность существующих определений его романа: «роман идеологический» (В. Кирпотин), «роман полифонический» (М. Бахтин), «роман-трагедия» (Вяч. Иванов), «роман-прозрение» (Арпад Ковач), «роман-тайна» и «роман-миф» (Миливойе Йованович).
На наш взгляд, роман Достоевского наиболее точно отвечает определению роман мистериальный, или — романизированная литературная мистерия. Аргументированное обоснование этих дефиниций желающие могут найти в нашей статье «Ф. М. Достоевский как художник-мессия» (Известия РАН. Сер. литературы и языка. 2006. № 1,2).
Переходим к анализу творчества Достоевского 1840-годов.
* * *.
Имеется в виду период с года 1846-го по 1849-й, в котором писатель был арестован как участник «пятниц» у русского фурьериста М.В. Буташевича-Петрашевского, приговорен к расстрелу, после его инсценировки на Семеновском плацу в Петербурге «помилован» и отправлен на четыре года в Омскую каторжную тюрьму («острог»), после которой еще шесть лет прослужил солдатом и унтер-офицером в Семипалатинске.
Напомним основные произведения писателя, созданные в это время: роман «Бедные люди» (1846), повести «Двойник» (1846), «Хозяйка» (1847), «Слабое сердце» (1848), «Белые ночи» (1848), незаконченный роман «Неточка Незванова» (1849) и написанный в Петропавловской крепости рассказ «Маленький герой» (1849). Из них мы обстоятельно рассмотрим как наиболее показательные для литературной позиции молодого Достоевского лишь роман «Бедные люди» и повести «Хозяйка», «Слабое сердце».
Уже дебютные произведения Достоевского в русской литературе представляют его читателям как художника, власть имеющего. Уже в них нашла свое воплощение иная по сравнению с авторами «натуральной школы» концепция человека и важнейших мотивов — стимулов его жизненного поведения. Это ясно сознавал и сам писатель, заявивший, например, в письме 1846 года к брату Михаилу: «Я завел процесс со всею нашей литературой, журналистами и критиками». Через три года он объяснит и свою «размолвку» с В. Белинским как идейным вождем «натуральной школы» их расхождением в понимании задач литературы и ее «направления». К этому времени знаменитый критик, восторженно приветствовавший роман «Бедные люди», не принял повестей Достоевского «Двойник» и «Хозяйка».
Критический элемент в отношении к литературной продукции «физиологов» и бытописателей 1840-х годов, впрочем, существует и в «Бедных людях», но здесь он менее обнажен, чем в небольшой повести 1848 года «Слабое сердце». С нее мы по этой причине и начнем наш разговор о творчестве Достоевского указанного периода.
Как это нередко будет у ее автора и позднее, творческий спор с неприемлемыми для него концепциями он ведет как бы на территории своего противника. Достоевский вообще один из тех страстных авторов-полемистов, которые обращаются в своих произведениях к сюжетам и трактовкам своих предшественников, с тем чтобы в итоге показать их несостоятельность в сравнении с подлинной глубиной избранной темы.
Полемична и повесть «Слабое сердце». Своим сюжетом она осознанно ориентирована на ситуации многих повестей и рассказов «натуральной школы», посвященных судьбе «маленького человека» (бедного чиновника), литературными предтечами которого были герои гоголевской «Шинели» и пушкинского «Станционного смотрителя». Скорее других напрашивается параллель «Слабого сердца» с рассказом Я. Буткова «Сто рублей», вошедшим в его сборник «Петербургские вершины» (1846). Вот его сюжет.
Молодой чиновник-бедняк, единственный кормилец старушки матери и барышни сестры, день за днем обивает пороги петербургских департаментов в надежде получить какое-нибудь служебное «место». Но всюду слышит одно и то же: «Нет вакаций!» Но вот череда неудач сменяется успехом: герой сумел проникнуть (сторож отлучился из прихожей) к хозяину купеческой конторы, и тот взял его к себе на службу. Бедняк обретает хотя и ничтожный, но все же источник существования. Все идет для него благополучно, пока один из конторщиков, взявший нашего героя под свое покровительство, не подарил ему билет на лотерею, среди призов которой разыгрывается и сто рублей — огромная в глазах бедняка сумма. После долгих колебаний герой Буткова все же решается испытать судьбу. Его билет оказывается счастливым, герою сообщают о выигрыше. Но слабые душевные силы бедняка не выносят этого нежданного счастья. Он сходит с ума.
Перед читателем возникал вопрос «кто виноват?», и он получал ясный и недвусмысленный ответ: виновны дурные, «злые» условия жизни — бедность и порожденная ею человеческая приниженность героя в его собственных глазах. Они приучили его сносить обычные для него невзгоды, но сделали безоружным перед неожиданной удачей. Поведение и самая судьба героя трактовались как следствие внешних обстоятельств его существования.
Обратимся теперь к повести «Слабое сердце». В ней та же ситуация: несчастье от счастья. И тот же итог — сумасшествие героя с тем же итоговым вопросом «кто виноват?» Однако весь смысл повести Достоевского в том, чтобы оспорить и опровергнуть объяснение драмы «маленького человека», данное Бутковым.
Где истоки трагедии Васи Шумкова (так зовут героя Достоевского): вне его индивидуальности, в каких-то внутренних ее началах? Или вопрос надо вообще ставить иначе?
Напомним сюжет повести. В Петербурге, «под одной кровлей, в одной квартире» живут два сослуживца и друга — Аркадий Иванович Нефедевич и Вася Шумков. Однажды вечером Вася, некрасивый, но скромный, деликатный и добрый молодой человек, сообщает своему товарищу о выпавшем ему счастье: он любит, он любим и он женится. И ничто нс мешает возможному счастью: согласна мать невесты, друг предлагает Васе свою помощь и сам «его превосходительство» Юлиан Мастакович (ср. Кай Юлий Цезарь!), глава департамента, где служит Вася Шумков, оказывает ему покровительство.
Иначе говоря, Достоевский намеренно устраняет с пути своего героя все враждебные ему внешние обстоятельства, т. е. главный у писателей «натуральной школы» мотив неблагоприятной среды. Но вот парадокс: чем меньше помех для счастья со стороны, тем слабее верит в него сам Вася Шумков, все больше преследуемый ощущением, что счастье его не состоится. Это гнетущее чувство не рассеивают ни слова друга, ни доводы разума. Наконец, совершенно утратив душевное равновесие, Вася сходит с ума.
Убиты горем друг, невеста, ее мать. И никто не может понять, что же сгубило героя повести. Не спешит раскрыть причины трагедии и Достоевский. Больше того, поначалу он умышленно дает два традиционных для русской литературы этого времени объяснения. Первое: Вася помешался от чувства вины и страха перед своим начальником. Проводя много времени в доме невесты, он запустил «исполнение дела» — переписку большого количества служебных бумаг.
Достоевский сознательно сближается с Бутковым. Однако это объяснение лишь для простаков. Его отвергнул и сам герой, сказав другу: «Ах, Аркаша! Нет, я сгублю свое счастье! У меня есть предчувствие! да нет, не через это, — перебил Вася затем, что Аркадий покосился на стопудовое спешное дело, лежавшее на столе, — это бумага писанная… вздор!». Он знал: переписку можно было и отсрочить, что потом удостоверил и Юлиан Мастакович (дело было «вовсе не спешное»).
Объяснение второе почерпнуто Достоевским из популярной среди авторов «натуральной школы» антропологической концепции человеческой природы. Согласно ей, человек по своей родовой природе существо не только разумное и деятельное, но и общественное (коллективистское), а не индивидуалистическое, в силу чего он не может быть счастливым среди несчастных, счастливым в одиночку.
Вот как, ссылаясь на самого себя, подтверждал правоту этой идеи, например, В. Белинский: «Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня, блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими! Горе, тяжелое горе овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата».
В произошедшем с Васей Шумковым можно усмотреть ту же причину: сострадая всем несчастным людям, он не позволил и себе быть счастливым. Так объясняет герою повести его состояние Аркадий Нефедевич: «Видишь, я понимаю тебя: я знаю, что в тебе происходит. Ты добрый, нежный такой… Но уж ты меня не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты бы желал, чтоб не было даже и несчастных на земле, когда ты женишься… Да, брат, ты уж согласись, что тебе бы хотелось, чтоб у меня, твоего лучшего друга, стало вдруг сто тысяч капитала; чтоб все враги, какие ни на есть на свете, вдруг бы, ни с того ни с сего, помирились, чтоб все они обнялись среди улицы от радости и потом сюда к тебе на квартиру, пожалуй, в гости пришли. Потому что ты счастлив, ты хочешь, чтоб все, решительно все сделались разом счастливыми. Тебе больно одному быть счастливым!».
В этом диагнозе беды Шумкова сделан шаг от объяснения его поведения внешними обстоятельствами к причинам внутреннего свойства, обусловленным человеческой природой. Однако развитие повести отклоняет и разъяснение драмы, предложенное Аркадием Нефсдевичем, скорее всего потому, что отсылка к общеродовым качествам Васи Шумкова заслоняет, а не открывает читателю его индивидуальную неповторимость, в первую очередь интересующую писателя Достоевского.
Быть может, причина сумасшествия героя «Слабого сердца» заключена в самом названии повести? Не относится ли Вася Шумков к людям, страдающим комплексом самоумаления, проявляющимся в неверии в свое право на счастье и в боязни его?
Таким комплексом была наделена героиня предшествующей повести Достоевского «Хозяйка», впервые же у Достоевского названная на ее страницах «слабым сердцем». Это — красавица Катерина, страдающая под мрачной властью своего прошлого, олицетворенного фигурой убийцы ее родителей, «колдуна» и разбойника Мурина, и сама нравственно зависимая от него. От этой зависимости ее пытается освободить главный герой повести, влюбленный в Катерину молодой петербургский мечтатель и самобытный ученый Ордынов. И хотя Катерина некоторое время отвечает на чувство Ордынова, он проигрывает борьбу за нее старому колдуну-разбойнику по причине как необыкновенной способности того овладевать душами людей, так и в силу выбора самой Катерины, в конечном счете предпочевшей возможному счастью с Ордыновым служение своему нравственному господину Мурину.
Причиной драматической судьбы героини «Хозяйки», таким образом, становится парадоксальный склад ее характера как нравственной рабыни и добровольной жертвы. Между тем характер Васи Шумкова остается для читателя «Слабого сердца» загадкой не меньшей, чем его помешательство: ведь Достоевский и начинает повесть с сообщения об отказе его объяснять, так же как «описывать и чин, и лета, и звание, и должность действующих лиц».
Но в таком случае как же он сам понимает причину произошедшего с Васей Шумковым? Каков его ответ на естественный вопрос читателя о том, что сгубило ни в чем не повинного героя «Слабого сердца»?
Ответ заключается в мысли о невозможности исчерпывающего и окончательного объяснения изображенной драмы. И со стороны Достоевского он не был ни парадоксом, ни признанием в некоей художественной слабости, а был решением творчески плодотворным, так как вел к несравненно более глубокой, чем в «натуральной школе», постановке проблемы человека. Потому что этим ответом утверждалась не только необычайная сложность, но и загадочность и самой на поверхностный взгляд скромной личности.
Человек у Достоевского, в том числе и социально «маленький», оказывался существом неисчерпаемым, непредсказуемым и свободным в выборе, пусть эта свобода и проявлялась в его предпочтении несчастья счастью.
Согласно христианской антропологии, «каждый человек — это особый, замкнутый мир („персона“), непроницаемый для других людей и открытый только Богу» (В. Белопольский). Разделяя этот взгляд на человека как в 1860—1870-е годы, так и в 1840-е, Достоевский еще в вышеупомянутом письме 1839 года к брату Михаилу выразил его лаконично: «Человек есть тайна…».
Лишь в свете этого убеждения можно верно понять и драму героя «Слабого сердца». Лишнее доказательство тому — финал повести, содержащий не то или иное решение возникающего у читателя вопроса, не некую авторскую сентенцию, а иррационально-фантастическую картину ночного Петербурга, намеренно вызывающую в памяти аналогичные фрагменты «Невского проспекта» Гоголя и «Петербургских шарманщиков» Григоровича, но совершенно нетрадиционную по существу. Вот эта картина: «Были уже полные сумерки, когда Аркадий (т.е. друг Васи Шумкова, отвезший его в сумасшедший дом. — В.Н.) возвращался домой. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Казалось, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами — отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон…».
«Фантастическая, волшебная греза», которой уподоблен в финале «Слабого сердца» и петербургский и, конечно, всеобщий человеческий мир, — это метафора и той таинственности человеческой природы, одним из проявлений которой стала алогичная трагедия Васи Шумкова. Ведь только в свете этого иррационального видения приоткрылась (не раскрываясь, однако же, до конца!) для Аркадия Нефедевича тайна жизненной драмы его скромного товарища: «Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастья Вася».
Итак, у Буткова бедный человек полностью обусловлен (детерминирован) внешними условиями его жизни (материальным состоянием, чином, мундиром и т. д.), определяющими и самые его характер, психологию, судьбу. Он, по выражению М. Бахтина, «овнешнен», окончательно завершен и несвободен. Как показывает повесть «Слабое сердце», для Достоевского такое понимание «маленького человека» совершенно неприемлемо. Вступив с его традиционной трактовкой в прямой творческий спор, писатель открывает в аналогичном герое индивидуальную тайну — залог его человеческой неисчерпаемости и внутренней свободы. И тем самым персональной суверенности.
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
Новаторской подход к изображению «маленького человека» характерен и для романа Достоевского «Бедные люди», которым он блестяще дебютировал в русской литературе.
Уже в нем писатель не столько последователь очеркистов и нравописателей «натуральной школы», сколько их оппонент.
Новое в «Бедных людях» возникает на уровне самого жизненного материала, традиционного лишь на первый взгляд. Обильно черпая у авторов физиологических очерков там, где дело касалось бытовых условий его героев и внешней обстановки романных событий, Достоевский вместе с тем вносит в эти реалии существенно значимые акценты. Например, в это описание очередного жилища Макара Алексеевича Девушкина: «Ну, в какую же я трущобу попал, Варвара Алексеевна! Ну, уж квартира! Вообразите, примерно, длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую все двери да двери, точно нумера… Ну, вот и нанимают эти нумера, а в них по одной комнатке в каждом; живут в одной и по двое, и по трое. Порядку не спрашивайте — Ноев ковчег!».
Петербургская трущоба, так хорошо, казалось бы, знакомая читателям 1840-х годов по «Петербургским углам» Н. Некрасова и «Петербургским шарманщикам» Д. Григоровича (оба очерка вошли в «Физиологию Петербурга», 1845), а также по рассказам Я. Буткова из его «Петербургских вершин» (1846), преображается у Достоевского в метонимию общепетербургского и даже всечеловеческого общежития. Заметьте: в этом «Ноевом ковчеге» представлены люди разных национальностей и специальностей северной российской столицы — окна в Европу: «Чиновник один есть (он где-то по литературной части), человек начитанный: и о Гомере, и о Брамбеусе, и о разных у них там сочинениях говорит, обо всем говорит, — умный человек. Два офицера живут и все в карты играют. Мичман живет, англичанин-учитель живет. Хозяйка наша, — очень маленькая и нечистая старушонка, — целый день в туфлях да шлафроке ходит и целый день все кричит на Терезу» (курсив мой. — В.Н.).
Уже Белинский, говоря о «Бедных людях», проницательно заметил, что их автор «первым же произведением своим резко отделился от всей толпы наших писателей, более или менее обязанных Гоголю направлением и характером своего таланта». Чем же?
Самим пониманием бедного человека. «Многие могут подумать, — писал Белинский, — что в лице Девушкина автор хотел изобразить человека, у которого ум и способности придавлены, приплюснуты жизнью. Была бы большая ошибка так думать».
Действительно, в качестве человека, погруженного и растворенного в материально-внешних проблемах своего существования, словом, тождественного своему социально-бытовому «состоянию» (среде), бедняк выступал (порой с авторским сочувствием, но чаще комически) и в «Петербургском дворнике», и «Денщике» В. Даля, и в «Петербургской стороне» Е. Гребенки, и в «Петербургском фельетонисте» И. Панаева. И оказывался не столько индивидуально-неповторимым лицом, сколько олицетворением окружающих и сопровождающих его обстоятельств.
Между тем для Достоевского это видение маленького человека уже предмет язвительной иронии. Автор «Бедных людей» вводит в число их действующих лиц и писателя-очеркиста (это его Макар Алексеевич именует «чиновником по литературной части») со значащей фамилией Ратазяев, т. е. литератор-ротозей, понимающий вещи грубо и примитивно.
В пределах романа Достоевского Ратазяев как бы создает свою версию (свой «роман») отношений Девушкина и Варвары Алексеевны Доброселовой, превращая Макара Алексеевича в мелкочиновного Ловеласа, а чувства этих людей в некий стереотип бедняцкой любви. Но вспомним, какое негодование, даже ярость вызывает у кроткого Макара Девушкина слух о том, что Ратазяев (или подобные ему писаки) собирается «в литературу свою поместить» «всю частную жизнь» главных персонажей «Бедных людей».
Называя этих писак «пачкунами» и «пасквилянтами» (т.е. клеветниками), Девушкин отлично улавливает основной порок «физиологов» и нравописателей «натуральной школы» — «овнешнение» (М. Бахтин) и тем самым обезличивание изображаемого ими «маленького человека». «…У бедного человека, по ихнему, — возмущается он, — все наизнанку должно быть; что уж у него ничего не должно быть заветного, там амбиции какой-нибудь ни-ни-ни!». А ведь Девушкин еще в своем первом письме к Вареньке, говоря «я себе от всех особняком, помаленьку живу», сразу же выделил себя из безликой бедняцкой массы.
Понятия «особняк» («сам по себе») и «обособление» в дальнейшем творчестве Достоевского обретут сложный смысл, вбирая в себя и значение поведения асоциального или даже антисоциального, грозящего обществу распадом на отдельные человеческие атомы. Но в устах героя «Бедных людей» это и синоним, и защита неповторимости его человеческой индивидуальности.
Сам Достоевский вносит в понятие «бедные люди» принципиальный семантический акцент, смещая основное читательское внимание с социального «разряда» своих персонажей (не богатые, не состоятельные, а «бедные») на их принадлежность к «людям», т. е. всему роду человеческому и тому Ноеву ковчегу, которым человечество однажды спаслось. Читатель романа должен был проникнуться к его героям не просто состраданием и жалостью, но разглядеть в них персональную характерность и тем самым человеческое равенство себе.
Равными другим людям хотят видеть себя и Девушкин с Доброселовой. Но в каком смысле? Может быть, герои Достоевского желают равенства социального и не мирятся со своей сословноиерархической малостью? Ведь нечто подобное протесту такого рода прорывается у Девушкина, когда он размышляет о горестном положении любимой им Вареньки Доброселовой, — скажем, в этом обращении к ней, навеянном зрелищем блеска и роскоши обитателей Невского проспекта: «Отчего Вы, Варенька, такая несчастная? Ангельчик мой! Вы у меня добрая, прекрасная, ученая; отчего же вам такая злая судьба выпадает на долю? Отчего это все так случается, что вот хороший-то человек в запустении находится, а к другому кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, зачем одному еще в чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет божий выходит? Грешно, маточка, грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех в душе лезет». «По какому праву все это делается?» — восклицает Девушкин, когда в конце романа из Петербурга увозят дорогую ему Вареньку.
Но все это лишь частные раздумья героя, а не отражение недовольства своим общественным положением. На деле Девушкин не только не социальный протестант, но искренний сторонник сословно-иерархического порядка, устроенного, как он полагает, «всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано, а способности устроены самим богом». Автохарактеристику он составляет в точном соответствии с критериями и самим стилем официального аттестата на примерного «гражданина» (т.е. верноподданного) и чиновника. Он гордится тем, что, состоя почти тридцать лет на службе, «служит безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен». И продолжает: «Как гражданин считаю себя, собственным сознанием своим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны… Всякий грешен… Но в больших поступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушение общественного спокойствия, в этом я никогда не замечен…».
Что же значит для Девушкина быть равным другим людям? Что, другими словами, всего дороже герою Достоевского, о чем он неусыпно, почти болезненно заботится и что более всего страшится утратить?
Более всего хлопочет Девушкин о том, чтобы поддержать и утвердить то, что он называет своей амбицией. Согласно Толковому словарю В. Даля, в переводе с французского слово «амбиция» означает прежде всего «чувство чести, благородства» и лишь потом — «самолюбие, спесь, чванство; требование внешних знаков уважения». В таком же порядке значений данного слова понимает его и герой «Бедных людей». И если чувство чести, т. е. своего человеческого достоинства, у Макара Девушкина почти до конца романа и не свободно от мнительно-самолюбивой реакции на то, как его воспринимают окружающие (под ее влиянием он порой и чай пьет не из собственного удовольствия, а «для людей», демонстрируя этим свою материальную состоятельность), то жив герой Достоевского все же в первую очередь именно им. Это позволяет нам квалифицировать амбицию Девушкина как его претензию на личность, сознание права на нее.
Два взаимоисключающих понятия проходят через сознание Макара Алексеевича на протяжении романа: понятие «ветошки» («щепки», «подошвы») и понятие «амбиции». Нет для героя «Бедных людей» ничего мучительней ощущения, что в нем видят не именно Макара Алексеевича Девушкина, а олицетворение титулярных советников, некую эмблему бедности и мелкого чиновничества. Это и значит для него превратиться в бездушно-безликую ветошку (вещь), другим людям неинтересную. Не от бедности самой по себе страдает Девушкин, а оттого, что нищему не дано поддерживать свое человеческое достоинство и заявлять свою претензию на индивидуальную неповторимость.
Вот, пребывая в «крайне бедственном положении» (совершенно износились сапоги, оборвались пуговицы на древнем вицмундире), Девушкин решается просить «рублей тридцать» взаймы у сослуживца Петра Петровича, дающего ссуды «на проценты». Он трижды обращается к нему, но так и не получает желаемого. Однако больше, чем отказ в ссуде, его мучает пренебрежение им со стороны коллеги-чиновника, который сначала на его просьбу «засмеялся», а затем, говорит Девушкин, «стал перо чинить, а меня как будто не замечает». Таким же неуважением к нему глубоко уязвлен герой и в описанной им сцене со сторожем его департамента: «Хотел было пообчиститься от грязи, да Снегирев, сторож, сказал, что щетку испортишь, а щетка, говорит, барин, казенная. Вот они как теперь, маточка, так что я и у этих господ чуть ли не хуже ветошки…». «Не деньги меня убивают, — специально поясняет Девушкин, — а все эти тревоги, все эти шепоты, улыбочки, шуточки» (т.е. насмешки над ним).
Очередную нравственную пытку переживает герой «Бедных людей», когда сослуживцы, по его словам, из него «пословицу сделали, — до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры» его «добрались: все не по них, все переделать нужно!». Другими словами, когда его из Макара Алексеевича Девушкина преображают в пословичного бедного Макара, на которого все шишки валятся, т. е. в анонимно-собирательный «персонаж», подходящий — по причине своей безликости — ко всем и всяким беднякам. Но герой Достоевского никоим образом не согласен быть Макаром- анонимом.
Итак, амбиция в значении индивидуального человеческого достоинства — вот главная ценность, а также и главная пружина, определяющая поведение бедняка Девушкина. Амбиция — один из лейтмотивов романа. «Конечно, я себя уронил, — говорит Девушкин, сообщая Доброселовой об унизительном окончании его попытки наказать офицера, сделавшего Вареньке „недостойное предложение“ (в ответ на „благородное негодование“ героя его „с лестницы сбросили“), — я себя уронил и амбиция моя пострадала». «…Спешу объявить вам, Варвара Алексеевна, — заявляет Макар Алексеевич в другом месте, — что амбиция моя мне дороже всего».
Отстаивая свою индивидуальную неповторимость перед чиновниками-сослуживцами, Девушкин опирается и на соображение о своей ценности в качестве пусть скромного, но необходимого винтика государственно-бюрократической машины. «Я, ведь, — мысленно обращается он к своим гонителям, — и сам знаю, что я немного делаю, что переписываю; да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю. Ну, слогу нет, ведь я это сам знаю, что нет его, проклятого… Я это все знаю; да, однако же, если бы все сочинять стали, так кто же стал бы переписывать?». Когда же человеческое достоинство Макара Алексеевича унижено напрямую, указанная опора явно теряет для него всякий смысл, и он страдает особенно сильно.
Такова ситуация, возникшая с потерей героем одного его из его черновых писем к Вареньке и так прокомментированная им Доброселовой: «Пропал я, пропали мы оба, оба вместе, безнадежно пропали. Моя репутация, амбиция — все потеряно!» Как вскоре стало известно Девушкину, письмо было найдено Ратазяевым, и вечером кто-то из его приятелей прочитал его вслух. «Матушка моя, — обращается герой романа к Вареньке, — какую они насмешку подняли! Величали нас, хохотали, хохотали, предатели!» (курсив мой. — В.Н.). Но отчего же такой ужас у Девушкина?
Вспомним, какое негодование охватило А. Пушкина, узнавшего, что его письма к жене Наталье Николаевне вскрываются и читаются Бенкендорфом и самим Николаем I. Оно более чем понятно: у каждого человека есть сокровенные, только ему принадлежащие тайны (по современной терминологии — право на неприкосновенность личной жизни); вторжение в них без его воли равнозначно грубейшему оскорблению. Была подобная тайна и у Девушкина — его скрываемая даже от самого себя любовь к вдвое младшей его Варваре Алексеевне. И вот эту тайну пустили по рукам и сделали посмешищем. Ужас и возмущение Девушкина передают немалый потенциал сто личностного начала, попрание которого для героя «Бедных людей» смерти подобно.
Такое состояние личностной смерти переживает Девушкин в кульминационной для его человеческого становления сцене с «его превосходительством», о которой Макар Алексеевич сообщает Варваре Доброселовой так: «Тут уж я чувствую, что и последние силы меня оставляют, что уж все, все потеряно! Вся репутация потеряна, весь человек пропал!» (курсив мой. — В.Я.). Обратим внимание: Девушкин говорит не об утрате им своего чина титулярного советника или «жалованья», а о гибели его как человека.
Что же произошло в этой сцене? Девушкин был вызван пред очи «его превосходительства» в связи с нужной «к спеху», но испорченной им служебной бумагой. Находясь в расстроенных чувствах, он при переписке пропустил целую строку, и вышла бессмыслица.
Герой входит в большой кабинет «его превосходительства» и видит себя целиком в стоящем справа от него большом зеркале: «так просто было отчего с ума сойти, что я там увидел», скажет он. А увидел он как бы со стороны человека не просто малорослого и внешне непрезентабельного, в изношенном и лоснящемся вицмундире, а — искаженного страхом («Оторопел так, что и губы трясутся и ноги трясутся») и совершенно потерявшегося. Он узрел воистину жалкое существо, которое не столько генералу, сколько ему самому не внушало почтения, а, наоборот, внушало ощущение, что его, такого убогого, без малейших признаков личностного достоинства, и в самом деле нельзя уважать. Девушкин ведь не забыл, как его недоброжелатели называли «даже и фигуру» его «неприличной» и гнушались им; сейчас же он сам себе кажется таким.
А тут еше злополучная вицмундирная пуговица, давно болтавшаяся на гнилой нитке, как нарочно, обрывается, катится по полу, а Макар Алексеевич бросается ее ловить. Эта пуговица стала последним ударом по надеждам героя поддержать свое униженное в его собственных глазах достоинство, свое лицо. «Тут уж, — сообщает он, — я чувствую, что и последние силы меня оставляют, что уж все, все потеряно!».
Нет, не гнев генерала (в отличие от «значительного лица» в гоголевской «Шинели», «распекшего» Акакия Акакиевича Башмачкина и тем его совершенно потрясшего, «его превосходительство» у Достоевского, лицезрея Девушкина, расчувствовался и даже вручил ему 100 рублей), а возникшее у самого Макара Алексеевича сомнение в своем праве на уважение к нему других людей — вот что означают слова героя «Бедных людей»: тут я чувствую, что «весь человек пропал!».
И только последовавший со стороны генерала жест признания Девушкина как человеческой «ровни себе» воскрешает его буквально из мертвых. Вовсе не сто рублей (мотив одноименного рассказа Я. Буткова), подаренные Макару Алексеевичу «его превосходительством», а рукопожатие генерала свершает у Достоевского чудо спасения-воскрешения героя «Бедных людей». «Этим, — заявляет Девушкин, — они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили…».
Итак, в чем же равенство Девушкина всем и каждому из людей? В своем самосознании он равен им не оттого, что беден вместе со многими из них, и не оттого, что по своей родовой природе одинаков с ними, а потому, что также неповторим, как в принципе каждый из них. Вот почему герой «Бедных людей» по-своему бунтует против любой попытки раз навсегда определить и завершить, тем самым и нивелировать его индивидуальность, откуда бы эта попытка ни исходила — из очерково-«физиологической» или антропологической концепции человека, из сословного общества (чиновников-сослуживцев Макара Алексеевича) или из литературы.
В романе есть сцена, в которой этот бунт Девушкина заявлен, пожалуй, самым очевидным образом. Имеем в виду реакцию Макара Алексеевича на гоголевскую «Шинель». Эпизод этот прекрасно прокомментировал в своей книге «Проблемы поэтики Достоевского» (1-е изд. в 1929; 4-е — в 1979) М. Бахтин. «…Макар Девушкин, — говорит исследователь, — прочитал гоголевскую „Шинель“ и был ею глубоко оскорблен лично. Он узнал себя в Акакии Акакиевиче и был возмущен тем, что подсмотрели, разобрали и описали всю его жизнь, определили его всего раз и навсегда, не оставили ему никаких перспектив. Девушкин увидел себя в образе героя „Шинели“, так сказать, сплошь исчисленным, измеренным и до конца определенным: вот ты весь здесь, и ничего в тебе больше нет, и сказать о тебе больше нечего. Он почувствовал себя безнадежно предрешенным и законченным и одновременно почувствовал и неправду такого подхода».
По Достоевскому, индивидуально-личностный пафос, упущенный из вида беллетристами «натуральной школы», есть доминирующий в поведении «современного человека», насколько бы социально малым он ни был. В самом деле: амбиция дороже всего и такому двойнику Девушкина, как бывший чиновник Горшков.
Неправедно обвиненный и отданный под суд, буквально голодающий со своим семейством, Горшков невыносимо страдает, однако, не столько от материальных тягот, сколько от урона, нанесенного его чести. И посмотрите, как на глазах меняется этот человек, как только его человеческое достоинство было восстановлено. Он был маленький, с капелькой под носом и слезинкой в глазах, робко входил даже к Девушкину и робко садился на краешек стула. Но вот его оправдали. «Мне даже показалось, — сообщает Девушкин, — что он и вырос-то и выпрямился и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был таком, бедный! Двух минут на месте не мог постоять, садился, вставал, опять садился, говорил бог знает что такое — говорит: „Честь моя, честь, доброе имя, дети мои“, — и как говорил-то! Даже заплакал. Ратазяев, видно, хотел его ободрить и сказал: „Что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги главное, вот за что бога благодарите!“ — и туг же его по плечу потрепал. Мне показалось, что Горшков обиделся, то есть не то чтобы прямо неудовольствие выказал, а только посмотрел как-то странно на Ратазяева да руку его с плеча своего снял».
Вернемся к главному герою романа и его нравственной эволюции в нем. С развитием произведения чувство, по слову Девушкина, его «собственного своего достоинства» все менее зависит от мерок иерархического общества и руководствующихся ими людей. «Жизнь Девушкина, — констатирует Г. Пономарева, — не укладывается в чиновничье существование… Ему дано подняться до высокого сознания, что „сердцем и мыслями я человек“». Запечатленное в последних словах героя сознание принадлежит уже не бедному чиновнику и не человеку как той или иной социальной (государственно-бюрократической) функции. Это сознание лица, внутренне освобождающегося от всевластия над ним и его поведением (волей) любых внешних обстоятельств и внешней реальности в целом, так как оно открывает ему ту онтологическую реальность, в которой он, как и каждый человек, «независим и самоценен» (Г. Пономарева) в качестве создания Божия.
По мере «воскрешения духа» героя «Бедных людей» (помните: «Этим поступком они мой дух воскресили…») в Девушкине из сословного индивида («титулярного советника», согласно Табели о рангах, — «чиновника девятого класса») или атомизированной особи (т.е. человека «маленького», в значении крайне обособленного, без общественных связей) по крайней мере в перспективе формируется — на основе высшей из человеческих связей — связи с Творцом — собственно личность. Вот одно свидетельство тому: к концу романа Макар Алексеевич замечает, что у него (т.е. в его письмах к Вареньке) выработался собственный стиль. А ведь стиль, сказал Ж. Бюффон, — это неповторимый человек.
Подытожим. Уже в дебютном произведении Достоевского — романе «Бедные люди» — была воплощена принципиально новая по отношению к очерково-нравописательной литературе «натуральной школы» концепция «современного человека». Суть ее не в открытии Достоевским новой человеческой сферы или отдельных человеческих качеств. Дело в открытии, по формулировке Бахтина, «нового целостного аспекта человека» — человека как явления сложного и неисчерпаемого, социально не ограниченного и нравственно свободного, в конечном счете суверенного.
В 1876 году Достоевский опубликует в «Дневнике писателя» проникновенный некролог на смерть знаменитой французской романистки Жорж Санд, где в числе прочих ее достоинств отметит, с его точки зрения, главные: во-первых, что она была «всех больше христианкой своих сверстников — французских писателей», и, во-вторых, что она «верила в личность человеческую безусловно.
(даже до бессмертия), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою — в каждом своем произведении и тем самым совпадала и мыслью, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, то есть с признанием человеческой личности и свободы ее…".
Оценка эта, вне сомнения, автохарактеристична. Достоевский потому так высоко ставит безусловную веру Жорж Санд в человеческую личность, что и сам — как в равной мере художник -христианин и хуяожнкк-гуманист — с самого начала своего творчества исповедует ту же веру. Она-то и предопределила новый угол зрения Достоевского на традиционного для русской литературы «маленького человека».
По глубокому замечанию Бахтина, Достоевский уже в первый период своего творчества «изображает не бедного человека» — это делал Гоголь и будут делать его подражатели. Он изображает «самосознание бедного человека» и, добавим мы, — его личностный потенциал. Действительно, в «Бедных людях» читатель видит изображение, говоря строго, не столько самих поступков Девушкина, сколько их результата для чувства его человеческого достоинства.
Отсюда и форма «Бедных людей» — романа в письмах, где герой сам рассказывает о себе, и последнее слово в его оценке остается за ним. Однако традиционно-литературное ее начало у Достоевского неразрывно сплелось с началом формы внутренней — именно евангельским мотивом восстановления-воскресения человека из мертвых. В последующих произведениях писателя, от «Записок из Мертвого дома» до «Братьев Карамазовых», данный мотив станет в той же мере структурообразующим, как и мотив бунта «русского скитальца» против мироздания и самого Творца.