Кружки и объединения
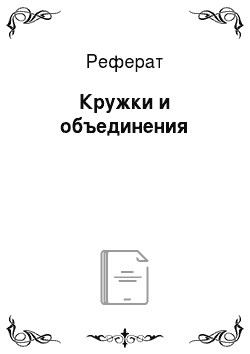
Однако в целом и соотношение позиции «Беседы» с романтизмом были сложнее, чем казалось ее противникам. «Беседчики» воздвигали преграды на пути западноевропейских, а значит, прежде всего романтических веяний, рассматривая их нередко в совокупности с веяниями политическими (идеология Просвещения, французской революции). В то же время сама установка «Беседы» на раскрытие национально самобытного… Читать ещё >
Кружки и объединения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Литературную жизнь начала XIX в. в значительной мере определяли два возникших в Петербурге объединения — «Беседа любителей русского слова» (1811 — 1816) и «Арзамас» (1815—1818). Оба объединения были по тому времени довольно многочисленными, а среди их участников — известные, знаменитые писатели. В «Беседу» входили Г. Р. Державин, И. А. Крылов, а в заседаниях принимал участие еще и А. С. Грибоедов. В «Арзамасе» были не менее громкие имена: В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский; присоединился к обществу и молодой, но уже заслуживший известность А. С. Пушкин (в «Арзамас» входил и его дядя, поэт Василий Львович Пушкин).
Взаимоотношения «Беседы» и «Арзамаса» были в значительной мере полемические, начиная с деталей поведения, внешнего вида, обстановки. Заседания «Беседы», проходившие обычно в доме Державина на Фонтанке, производили впечатление своей торжественностью, чинностью, соблюдением этикета. Члены общества распределялись по четырем «должностным разрядам», во главе которых стоял председатель. Казалось, собрались не литераторы, а чиновники министерства или офицеры и генералы воинского подразделения, что отчасти соответствовало действительности: ведь А. С. Шишков, глава общества, был отставным вице-адмиралом, государственным секретарем, членом Государственного совета, а позднее (в 1824 г.) он стал еще и министром народного просвещения.
Участниками «Арзамаса» были простые, обыкновенные люди, что подчеркивалось и полным названием объединения: «Арзамасское общество безвестных людей». И собирались они не в роскошном особняке, а там где придется:
«Всякое место, — провозгласили они, — на коем будет находится несколько членов налицо, и сие место, какое бы оно ни было — чертог, хижина, колесница, салазки, — должно именоваться на все продолжение заседания Новым Арзамасом».
По этому поводу исследователь заметил, что салазки «были вписаны ради красного словца», а «колесница», т. е. карета, на самом деле послужила местом одного из заседаний «Арзамаса»[1]. Можно лишь добавить, что перед нами оригинальное претворение одной из романтической оппозиций, где в качестве альтернативы «дворцу» выступал не домик, не хижина, не шалаш, а карета. Да и вся деятельность «арзамасцев» строилась в значительной мере на игровом поле, изобиловала шутками, розыгрышами, пародиями — конечно, прежде всего пародиями на «беседчиков» и «шишковистов» (второе наименование было произведено от фамилии А. С. Шишкова).
При этом в качестве материала для создания пародий использовались — казалось, неожиданно! — элементы поэтики Жуковского, точнее, имена персонажей его баллад, которые чуть ли не в обязательном порядке присваивались вступающим в общество. Так Вяземский стал Асмодеем, Уваров — Старушкой, Батюшков — Ахиллом (вследствие тщедушности его фигуры друзья шутили над ним: «Ах, хил»). Пушкин стал Сверчком (подразумевался звонкий, обративший на себя широкое внимание голос молодого дарования), а его дядя Василий Львович — Вотрушкой (от часто произносимой указательной частицы «вот»). Воейков был назван Ивиковым журавлем, а сам Жуковский — Светланой. Что это: удар по своим? Нет, конечно. «Беседчики» выступали против новых, романтических художественных форм, которые для них были, как красная тряпка для быка. Так вот и получайте! А то, что при этом в «зону смеха» попадали сами «арзамасцы», их не смущало: в отличие от многих «беседчиков» они были открыты стихии комического, иронии и самоиронии[2]. По удачному выражению современника, чиновника и литератора Ф. Ф. Вигеля, «арзамасцы» собирались «затем, чтоб умно подурачиться«[3].
Однако в целом и соотношение позиции «Беседы» с романтизмом были сложнее, чем казалось ее противникам. «Беседчики» воздвигали преграды на пути западноевропейских, а значит, прежде всего романтических веяний, рассматривая их нередко в совокупности с веяниями политическими (идеология Просвещения, французской революции). В то же время сама установка «Беседы» на раскрытие национально самобытного начала соответствовала духу романтизма. Объективно члены «Беседы» действовали в соответствии с тезисом, выдвинутым немецким философом И. Г. Гердером: человеческая общность как хор, в котором участвует каждый народ, со своим оригинальным голосом. Такая двойственность дала основание Г. А. Гуковскому назвать «Беседу» «упорной, хотя и неумелой, ученицей романтизма»[4]. Впрочем, и это утверждение исследователя можно уточнить, причем, наверное, парадоксальным образом: общество «Беседа» было не только учеником, но если речь идет о романтизме в русской литературе, то в некоторой мере и его учителем, хотя учителем (тут можно повторить Гуковского) «неумелым», а самое главное — совершенно не сознающим этой своей роли.
Сложно соотносятся позиции «Беседы» и «Арзамаса» и в сфере языка, в той сфере, где проходила главная полемика противоборствующих сторон — приверженцев «нового» и «старого» слога. Наименования эти были введены в обиход трактатом А. С. Шишкова «Рассуждение о новом и старом слоге российского языка» (1803), направленным против языковой реформы Карамзина. Эта реформа отвечала требованию времени, содействуя сближению литературного языка и разговорного языка образованных слоев общества, снимая искусственные перегородки (вроде теории «трех стилей»), устраняя архаичные словообразования и вводя новые слова, адекватные новым понятиям. При этом у защитников «старого» слога, или, если прибегать к литературоведческим категориям, — у «архаистов» («Архаисты и новаторы» — название знаменитой работы Ю. Н. Тынянова), тоже была своя правда: осознание тех еще далеко неисчерпанных возможностей, которые таили в себе, с одной стороны, просторечье, а с другой — язык старославянский и древнерусский.
Односторонность приверженцев «нового» слога (в категориях литературоведческих — «новаторов») отмечал и Пушкин, который в письме Вяземскому в 1823 г. писал:
«Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали»[5].
Позднее, в 1847 г., когда острота полемики «архаистов» и «новаторов» во многом сгладилась, Вяземский мог произнести своего рода декларацию языковой (и, в сущности, не только языковой) терпимости:
«По мне все, что хорошо сказано по-русски, есть чисто русское, чисто народное. Каждое теплое чувство, каждая светлая мысль, облеченные живым и стройным русским словом, есть выражение и достояние народности: будь это стих Дмитриева, которого отлучают от народности, будь стих Крылова, в котором она будто бы олицетворялась, будь передо мною любая страница Карамзина, будь одна из хороших страниц Гоголя. Неужели Жуковский, который передает нам Гомера и еще греческим гекзаметром, а нс размером песней Кирши Даниловича, должен по части народности уступить ему в отношении к форме, а, например, Хераскову, творцу Россияды, в отношении к содержанию»[6].
Характерно, что это говорит писатель, в свое время бывший членом «Арзамаса», т. е. согласно знакомой нам терминологии, убежденный «новатор».
И «Беседа», и «Арзамас» — объединения в основном литературные, хотя, конечно, обсуждение проблем литературных и лингвистических невольно подводило их участников к проблемам более общим — философским и культурологическим. Но вот, несколько позже, в 1823 г., в Москве возник кружок с ярко выраженной философской направленностью, о чем говорило уже его наименование — «Общество любомудрия»: «…мы для отличия и называем истинных философов любомудрами», — писал его председатель В. Ф. Одоевский[7]. Кроме него в общество входили Д. В. Веневитинов (секретарь), И. В. Киреевский, Н. М. Рожалин, А. И. Кошелев, В. П. Титов, С. 11. Шевырев, Н. А. Мельгунов и др.
«Любомудры» усердно изучали философов, особенно немецких: И. Канта, И. Г. Фихте, Л. Окена, И. Гёрреса, но больше всего Ф. В. И. Шеллинга. Философское умонастроение определяло подход любомудров к литературе: они выступали против эмпиризма и «критики вкуса», доказывали необходимость «единства теории изящного». В поэзии «любомудры» содействовали развитию философской лирики с характерными для нее принципами углубленного психологизма, самосознания, установкой на аллегорию, пантеистическую метафоричность и т. д. Все это в значительной мере совпадало или входило в основу романтического мироощущения, однако прямое отождествление взглядов «любомудров» с романтическими принципами, скажем, шеллингианской «философией тождества», неправомерно.
«Любомудрам» не чужды были и политические, либеральные веяния: Киреевский увлекался Гельвецием (французский философ с сильными материалистическими тенденциями), Веневитинов «пел свободу» («Песнь грека», стихи на смерть Байрона и т. д.), Одоевский участвовал в декабристском альманахе «Мнемозина». Перед восстанием 14 декабря 1825 г. оппозиционные настроения в кружке усилились, и, как свидетельствует участник кружка А. И. Кошелев, сочинения французских «политических писателей» оттеснили с первого плана немецкую философию[8]. После подавления восстания декабристов «любомудры» распустили кружок, уничтожив при этом устав и протоколы. Впоследствии большинство участников кружка объединились вокруг журнала «Московский вестник».
Преемником «Общества любомудрия» явился кружок Станкевича, возникший в 1831 г. в Москве и объединявший преимущественно студентов Московского университета. В кружок вошли или к нему примыкали разносторонне одаренные молодые люди: поэты В. И. Красов, И. П. Клюшников, поэт и критик, в будущем один из идеологов славянофильства К. С. Аксаков, знаменитые в будущем историк Т. Н. Грановский, ученыйвостоковед П. Я. Петров, историк и публицист Ю. Ф. Самарин, деятель народного просвещения Я. М. Неверов, писатель и художественный критик В. П. Боткин, публицист и критик М. Н. Катков и др. Особенно выделялись двое: В. Г. Белинский, уже вступивший на стезю критики и ставший вскоре самым знаменитым русским критиком, и М. А. Бакунин, начинающий философ, критик, в будущем получивший европейскую известность как один из идеологов анархизма.
Глава кружка — Н. В. Станкевич не оставил сколько-нибудь значительных литературных и научных трудов, но обладал гениальным умом, огромными знаниями и еще даром общения и понимания людей. Все это отразилось в его письмах и устных беседах, запечатлевшихся в сознании и памяти современников[9].
Станкевич задавал тон философским занятиям: это были главным образом уже знакомые нам по кружку «любомудров» философы (Кант, Фихте, Шеллинг), но с добавлением еще одного имени — Г. В. Ф. Гегеля. Ознаменовавший высшую стадию развития немецкой классической диалектики, Гегель порой казался русским интеллектуалам (да и не только им) чересчур рассудочным и схоластичным. Но не Станкевичу, не Бакунину, не Белинскому (до начала 1840-х гг.), не другим членам кружка, чья философская ориентация во многом определила отношение к художественным явлениям, в частности к романтизму.
Романтизм был осмыслен ими как естественный результат художественной эволюции, ее законное звено: после классического и перед современным, новым искусством.
Такая тройственность (или, как принято было говорить, — триада) уже была знакома русской критике хотя бы по Надеждину, но Станкевич и его единомышленники действовали гораздо более исторично, а по отношению к романтизму, можно сказать, и более бережно. Законное время романтизма не заканчивалось со Средними веками (как у Надеждина), но простиралось до Нового времени. Тем самым создавалась почва для приятия, осознания и высокой оценки романтического искусства, будь то восточные поэмы Байрона или южные поэмы Пушкина.
В то же время философская ориентация накладывала на художественный вкус критиков — членов кружка Станкевича некие «вериги». Поскольку от произведения требовались значительность содержания, определенность и новизна идеи — словом, все то что позднее получило обозначение «художественного открытия», — вне понимания и справедливой оценки зачастую оказывались произведения более тонкой, неброской художественной фактуры, не претендующие на сообщение какой-либо «важной» мысли (здесь уместно вспомнить гоголевское выражение «поэзия поэзии» — самый трудный для понимания вид поэзии). Таковы, скажем, проза, сказки или некоторые лирические произведения Пушкина. Лишь со временем, к рубежу 1830—1840-х гг., к Белинскому и Станкевичу пришло понимание этих произведений, а вместе с тем и осознание своей вины перед поэтом.
- [1] См.: Гиллелъсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974. С. 57.
- [2] Яркое свидетельство комического, пародийного настроя «арзамасцев» — протоколызаседаний. См.: «Арзамас»: сб. Кн. 1—2 / под ред. В. Э. Вацуро, А. Л. Осиовата. М., 1994.
- [3] Цит. по: «Арзамас». Кн. 1. С. 79. Также об этом см.: Атанасова-Соколова Д. Письма/послания «Арзамасского братства» // Письмо как факт русской культуры XVIII—XIX вв.еков. Будапешт, 2006. С. 166−174.
- [4] Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. С. 21.
- [5] Цит. по: Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: в 16 т. Т. 13. С. 80.
- [6] Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 168.
- [7] Цит. по: Мнемозина. 1824. Ч. IV. С. 163.
- [8] См.: Кошелев А. И. Записки Александра Ивановича Кошелева (1812—1883 годы).С семью приложениями / сост. О. Ф. Кошелева. М., 1991. Ч. 1. С. 51.
- [9] Письма Н. В. Станкевича издавались дважды: Переписка Николая ВладимировичаСтанкевича. 1830—1840. М., 1914; Станкевич Н. В. Избранное / сост., прсдисл., примеч.Г. Г. Елизаветиной. М., 1982. Художественные произведения В. И. Красова, И. П. Клюш-никова и др. собраны в кн.: Поэты кружка II. В. Станкевича / вступ. ст. и подгот. текстаС. И. Машинского. М.; Л., 1964.