ДРАМА 1610—1630-х годов
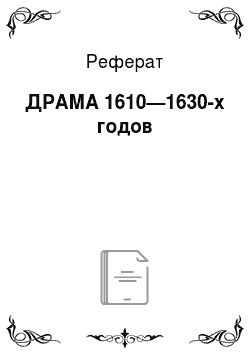
Так, в знаменитой комедии Шерли «Хайд-парк» (1632) весьма динамичным парадоксом оборачивается попытка молодого Трайера испытать добродетель своей невесты Джульетты: девушка не только отвергает легкомысленные ухаживания лорда Бонвила, согласившегося сыграть роль обольстителя, но с неменьшим презрением отказывается и от брака с самим Трайером. Венцом этого парадоксального переворачивания ситуации… Читать ещё >
ДРАМА 1610—1630-х годов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
К концу первого десятилетня XVII в. в английской драматургии в целом наметились ощутимые сдвиги. «Классическая» ренессансная традиция, продолжая косвенный «обмен» со своим новым маньеристским окружением, буквально на глазах «меняла кожу» и усваивала тенденции раннего барокко. В 1610-е годы черты барочной поэтики становятся особенно заметны в последних пьесах Шекспира (его «романических» трагикомедиях), а также в творчестве популярных драматургов нового поколения — Френсиса Бомонта и Джона Флетчера. Маньеризм этого периода также обнаружил способность к внутренней динамике и усвоению нового. Катализатором этой новизны стало отношение драматургов к романическим приемам и ценностям.
В самом начале 1600-х годов драматурги маньеристского направления по большей части отринули «романическое» начало, заменив романические ценности их сатирическим отрицанием. В следующем десятилетии талантливые художники-маньеристы (Дж. Уэбстер, Т. Миддлтон) вновь обращаются к романическим ценностям и мотивам, не «брезгуя» уроками Шекспира, Хейвуда, Чэпмена или Бомонта и Флетчера. Не меняя своего настороженного (или прямо отрицательного) отношения к романической форме Идеала, они дают ей более глубокий анализ по сравнению с антироманическими драмами начала века.
Одним из крупнейших драматургов-маньеристов этого же периода считается Джон Уэбстер (ок. 1575—1625?). В его трагедиях («Белый дьявол», 1612, и «Герцогиня Амальфи», 1612—1614) мы вновь встречаем уже знакомое нам «итальянизированное» зло, духовные скитания героев во мраке заблуждения, роковые ошибки, когда друга принимают за врага (или наоборот). Программный характер в этом отношении носит трагедия Уэбстера «Белый дьявол». Героиня пьесы Виттория Коромбона обладает всеми внешними признаками романической героини: красотой, умом, благородным происхождением, стойкостью, решительностью, мужеством. Даже ее изворотливость кажется лишь извращенным проявлением высшего остроумия, ее хитрость — избытком женственности. Но участь всех этих достоинств — остаться внешними украшениями блестящей куртизанки, любовницы герцога Браччиано, фактически — убийцы собственного мужа, наивного Камилло, и своей безобидной и несчастной «соперницы» — герцогини. Как говорит о Виттории ее враг — кардинал Монтичельзо, Во зло такое обратить сумели Вы жизнь и чары красоты своей.
Что сделались любых комет зловещей Князьям.
(III. 1, перевод И. Аксенова)
В основную интригу уэбстеровских трагедий органично включается характерная для маньеристской драматургии амбивалентная роль «недовольного»: одновременно орудия в руках сильных злодеев, их жертвы и растлителя их воли, и вместе с тем бича общих пороков (в том числе своих собственных). Таков Даниэль Босола («Герцогиня Амальфи») — когда-то падуанский ученый, не заработавший наукой ни гроша (такова же и участь Фламиньо в «Белом дьяволе»), впоследствии наемный шпион и убийца. Он сознает низость своей роли, знает пороки своих господ, но полагает, что в этом мире тот, кто беден и лишен власти, может быть лишь пиявкой, присосавшейся к уху сильного. Фактически Босола становится также и палачом, когда его хозяева герцог и кардинал истязают свою сестру, тайно вступившую в брак с дворецким Антонио. По иронии судьбы Босола погибает в тот самый момент, когда пытается совершить единственное благое дело — спасти Антонио, но вместо этого губит и Антонио, и себя.
Центральное место в трагедии занимают сцены, где братья применяют к своей сестре-герцогине изощренные душевные пытки, подвергая испытанию ее рассудок: так, «в знак примирения», героине протягивают холодную руку мертвеца, утверждая затем, что это рука ее мертвого мужа; ей показывают издали поддельные трупы ее детей (в действительности — восковые фигуры); готовят ей саван и отпевают заживо. Никакие прямые практические цели, называемые самими братьями (защита фамильной чести или стремление завладеть наследством сестры) не могут полностью объяснить этого бесчеловечного ритуала медленного убийства героини. Им мало убить ее физически, они хотят психологически уничтожить ее любовь к жизни и ее радостям, внушить отвращение к тому, что составляло наслаждение и полноту ее существования; представить все самое дорогое в тошнотворно-отвратительной маске смерти. В такой же маске (еще при жизни) она должна увидеть и себя — не жизнерадостную красивую жену и мать, не «герцогиню Амальфи», а «гнездо червей» и пишу для насекомых.
Уэбстер воссоздает атмосферу ужаса, которая буквально пронизывает воздух и определяет духовную структуру лучшей его трагедии. При этом на первый план в «Герцогине Амальфи» выступают не столько привычные кроваво-мелодраматические ужасы, потерявшие свою «сенсационность» от слишком частого повторения, сколько ужасы психологические.
Уэбстер, таким образом, переосмысляет некоторые популярные в маньеризме мотивы. Так, нередко в маньеристской поэтике (см., например, «Трагедию мстителя» С. Тернера) все наслаждения и самая красота жизни выступают как недолговечные маски всепобеждающего и неизменного лика смерти. Братья герцогини и их подручный Босола внушают ту же мысль герцогине Амальфи. Между тем в контексте пьесы такое «разоблачение» жизни — не что иное, как коварный и изощренный обман. Мучители героини бесконечно штампуют материальные муляжи смерти, пытаясь скрыть гармонию жизни под маской разложения. Но их обман оборачивается символическим парадоксом: ложным путем к героине приходит сознание истины. Сквозь бутафорские символы смерти и страданий (орудия пыток) она начинает видеть более глубокие и «вечные» противоречия бытия, которые были скрыты от нее в состоянии первоначальной невинности ее «естественного» счастья. Теперь она понимает, что жизнь, которая виделась ей как радость, оказывается еще и юдолью скорби.
Тем не менее этот душевный переворот не приводит ее ни к потере рассудка, ни к утрате своего психического и нравственного «я». «И все же герцогиня я Амальфи», — говорит она своим истязателям, пытающимся лишить ее собственной воли и ясного представления о мире и добре и зле. Она зовет и принимает смерть, но не в бессилии затравленного зверя и в злобе на убийц, а словно с ощущением какой-то нераскрытой тайны, неведомой ее братьям, — тайны, которую она уносит с собой:
Когда со мной покончите, ступайте Моим скажите братьям, что они Отныне могут есть и пить спокойно…
Но все же герцогиня я Амальфи.
(IV.3, переводЯ. Мелковой).
В «Герцогине Амальфи», таким образом, есть и черты барочной мученицы, и это позволяет говорить о тяготении уэбстеровского маньеризма (в трагедии) — к барокко.
Последним автором, сохранившим приверженность маньеризму уже в начала 1620-х годов был Томас Миддлтон, получивший известность в начале XVII в. как автор сатирических «городских комедий». Мир этих комедий постепенно становился все более мрачным, и неудивительно, что в своем позднем творчестве Миддлтон достиг немалых высот и в жанре трагедии («Женщины, берегитесь женщин!», 1622, «Оборотень», совместно с У. Роули, 1622). В этих произведениях важную роль играет присущий маньеризму аллегорический эмблематизм и изображение мира как царства хаоса. Хаос служит удобной почвой для созревания и вынашивания зла, которое охватывает не только внешнюю действительность, но и человеческую душу. Зло при этом (как и в «Белом дьяволе» Уэбстера) может иметь привлекательную наружность. Однако в отличие, например, от Виттории Коромбоны, которая знает о себе все, — персонажи трагедий Миддлтона на первых порах полны иллюзий на свой собственный счет. Именно поэтому они, не замечая семян зла в собственной душе, скатываются в пучину преступления и порока, откуда уже нет выхода и спасения. Основная тема трагедий Миддлтона — это нравственная деградация человека, его приобщение к миру зла и поглощение этим миром. Слабые попытки воплотить в жизнь романический идеал (браки по любви: Леантио и Бьянки в трагедии «Женщины, берегитесь женщин», Беатрисы и Альсемеро в «Оборотне») не только заканчиваются крахом, но и обнаруживают ущербность самого романического идеала.
Герои Миддлтона не титаны и даже, в отличие от уэбстеровских персонажей, не «сильные личности» с сильными страстями. Это обычные частные лица, которых их частные эгоистические стремления увлекают на путь компромисса со злом, чтобы в скором времени утопить их в пучине порока. Так, героиня «Оборотня» Беатриса-Джоанна начинает с того, что избавляется с помощью наемного убийцы (бедного дворянина Де Флореса) от нелюбимого жениха Алонсо; затем, накануне свадьбы со своим романическим избранником Альсемеро, она, преодолевая отвращение, платит Де Флоресу за совершенное преступление своим телом; и, наконец, пройдя через еще одно кровавое злодеяние (убийство служанки Диафанты), Беатриса окончательно перерождается. Она превращается в распутную любовницу Де Флореса, сумевшего стать ей необходимым, и (теперь уже добровольно) изменяет своему благородному и красивому мужу.
Используя в «Оборотне» традиции испанской драмы чести, Миддлтон переосмысляет основные мотивы этого жанра, вскрывая иллюзорность привычного понимания чести, принятого в театре и драме. Пребывая в своих иллюзиях, Беатриса не чувствует разницы между честью внутренней и внешней (публичной, показной). Де Флорес мыслит гораздо более приземленно и «реалистично» (в духе маньеристского «цинического реализма»). Для него природа греха (убийства или прелюбодеяния) едина в своей сути, и тот, кто задумал или совершил кровавое преступление, уже лишился былой невинности и чистоты:
В крови по локоть — говорить о чести?..
Вглядитесь в книгу совести своей.
Она не лжива, и она вам скажет, Что мы равны.
(III.4, перевод /'./VI Кружкова)
Де Флорес не просто запугивает Беатрису (вернее, шантажирует ее). Подобно злому ангелу в «Фаусте» Марло, он отравляет ее сознание мыслью о непоправимости ее нравственного падения, о некой внутренней порочности, которая скрывается в ней и от которой ей не убежать;
Сказать еще? Ты, девственная телом, В душе распутница. Пришел второй —.
Твой Альсемеро, и любовь былая Забыта невзначай блудливым сердцем.
(Там же) Де Флорес улавливает Беатрису в свои сети не только реально совершенным ею преступлением, но и еще только зреющим в ее душе пороком, рассматривая его через увеличительное стекло и показывая ей в увеличенном отражении. Недаром в роли Де Флореса есть нечто мефистофельское: он завладевает сначала телом, а затем душой героини, которая на весь мир и на себя начинает смотреть глазами своего соблазнителя. Под конец Де Флорес одному себе присваивает право распоряжаться захваченным им сокровищем. Именно он закалывает разоблаченную Беатрису и себя, не оставляя отцу и мужу возможности свершить «законную» месть. Тем самым он лишний раз показывает, что он и никто другой является законным «господином» героини, и с некоторой мелодраматической торжественностью препровождает ее и свою души в ад:
Одну лишь нить осталось перерезать.
(Закалывается.)
Сеньоры, я избавил вас от мести.
Как я учил, Джоанна, ну же! — вместе.
(V.3).
В целом, однако, английский маньеризм в 1610 — начале 1620-х годов, несмотря на значительные художественные достижения представителей этого стиля, уже не играет той роли творческого фермента, которую он играл в первом десятилетии XVII в. И если ведущими направлениями второго и начала третьего десятилетия XVII столетия являются «поздний» маньеризм и «раннее» барокко, то одновременно между ними существуют многочисленные переходные ступени (развитие классицизма как будто временно приостанавливается). Эти господствующие направления нередко спорят друг с другом, но спорят, повернувшись друг к другу лицом. При этом «классическая» линия английской драматургии, окончательно оторвавшись от Ренессанса, выплескивает на поверхность всю свою скрытую «неклассичность», дремавшую в Возрождении. Тем самым водораздел между «классическим» и маньеристским выходом за пределы Ренессанса постепенно стирается. К драматургам приходит все более ясное сознание того, что их «общая» драматургическая система существует и развивается в новых условиях.
Как всегда, к изменениям в высшей степени чуток оказался Шекспир — художник одновременно наиболее «традиционный» и наиболее изменчивый, самый цельный и самый непостоянный. Характер его последних пьес (составляющих в его творчестве особую группу[1]) наиболее точно раскрывается с помощью понятия «неполной, смещенной гармонии» (А.Н. Горбунов). Это понятие применимо не только к финалам последних пьес, где «восстановленная» гармония омрачается какой-то непоправимой потерей (иногда эта потеря является физической, как смерть Мамилия в «Зимней сказке», чаще — нравственной, и почти всегда она связана с бессмысленной «растратой» времени и человеческих сил). Оно относится и к общему мироощущению, выраженному в поздних произведениях Шекспира. «Смещенная гармония» выступает в них как принцип взаимоотношений между человеком и миром и в то же время как принцип внутреннего равновесия человека — в его единственно возможной (и реально достижимой) форме. «Неполнота» гармонии — следствие «сопротивления материи» идеалу, поскольку для Шекспира подлинным идеалом по-прежнему остается идеал воплощенный — вошедший в плоть материальной жизни и одухотворяющий самостоятельную активность природного бытия.
Гармония между человеком-индивидом и Вселенной возможна, утверждает Шекспир в последних пьесах, но она не может быть непосредственной. Часть бесконечного богатства физического мира человек может «присвоить» и познать только духовно. И в то же время не менее значительная часть безграничных духовных способностей и «сил» мироздания способна «отразиться» в человеке лишь «физически» — посредством символов и знаков, воспринимаемых его обычными земными чувствами:
Окончен праздник. В этом представленье Актерами, сказал я, были духи.
И в воздухе, и в воздухе прозрачном, Свершив свой труд, растаяли они.
(«Буря», IV. 1, здесь и далее перевод М. Донского)
Не всякий опыт может быть пережит человеком с такой духовной и физической интенсивностью, которая равна интенсивности самого явления. В природе есть вещи антиномичные, которые не могут быть восприняты целостно, не разрушая гармонию индивида. «Неполная» гармония не дает полного успокоения человеческому сердцу и уму. Героев позднего Шекспира мучит, как дурной сон, воспоминание о гармонии чистой, незамутненной и целостной. Но в этом беспокоящем сновидении есть, может быть, и залог спасения. Если то, что было реальностью (незамутненная гармония прошлого, воплощенный идеал) стало лишь беспокойным сном, то и новая реальность, проникнутая пороками мира, когда-нибудь тоже станет сном, и, значит, не менее призрачна (ср. у Кальдерона: «…затем, что в этом мире каждый, / Живя, лишь спит и видит сон». «Жизнь есть сон», хорнада II, пер. К. Бальмонта).
Восприятие жизни как сна (сопоставимое с мотивами барочной драмы Кальдерона) отчасти снимает остроту гамлетовских вопросов. Что значит падение воплощенного (т. е. «чувственно доказанного») идеала, если все самое реальное и несомненное, что мы наблюдаем, переживаем и чувствуем в жизни, пришло в этот мир и «воплотилось» в нем на краткий миг; а время одинаково безжалостно к «простым» вещам и ко всему прекрасному и совершенному в нашей жизни:
Вот так, подобно призракам без плоти, Когда-нибудь растают, словно дым, И тучами увенчанные горы, И горделивые дворцы и храмы, И даже весь — о да, весь шар земной.
И как от этих бестелесных масок, От них не сохранится и следа.
Мы созданы из вещества того же.
Что наши сны. И сном окружена Вся наша маленькая жизнь.
(«Буря». Там же) Антиномии существования человека в мире настолько остры, что встретить их прямо — лицом к лицу — и пережить, сохранив рассудок (и оставаясь человеком), почти невозможно:
Взволнован я. Простите эту слабость.
Смешались мысли в старой голове.
Не обращайте на меня вниманья.
Ступайте же в пещеру, отдохните, А я пока немного поброжу, Чтобы унять волненье.
(Там же) Но они как бы «растворяются» на грани бытия (где жизнь превращается в сон). На этой грани воображение и мысль могут балансировать, соприкасаясь с фантазиями искусства и отблесками «растаявших, как дым», но когда-то живых и доступных нашему чувству воплощений всего человечного и прекрасного.
Это бегство из центра Вселенной, где гуманист мечтал воздвигнуть свой идеал, к самым окраинам чувственно данного бытия, пожалуй, можно назвать «эскейпизмом». Но эскейпизм этот имеет скрытую и глубоко гуманную цель: сохранить ту часть «человечности», которая неотделима от человека, уберечь ее от разрушительного давления противоречий века (и бытия вообще), дать ей отдых и необходимую гуманную пищу (пусть даже слишком бесплотную и ограниченно-малую для возможностей человека, открывшихся наступившему веку в новом богатстве). Сохранение островка «подлинной» человечности на грани бытия и сознания оставляет надежду на то, что когда-нибудь, «в лучшем мире, чем этот» (слова Бойе из комедии «Как вам это понравится», 1599), сохраненная человечность заиграет всеми своими красками и явится во всем блеске — не для того, чтобы обманывать легкомыслие и невинность своей блестящей наружностью (как это делает Виттория Коромбона у Уэбстера или свита высокородных негодяев в финале «Бури»), но для того, чтобы в «прозрачной» оболочке явить миру истину прекрасного человечества. Сравните:
О, чудо!
Какое множество прекрасных лиц!
Как род людской красив! И как хорош Тот новый мир, где есть такие люди.
(«Буря», V.1).
В этом, пожалуй, заключается уникальный гуманистический смысл барочного утопизма шекспировских пьес начала 1610-х годов.
Другую версию раннего барокко реализуют в своем творчестве Фрэнсис Бомонт (1584—1616) и д) кон Флетчер (1579—1625)[2]. Их остроумные, ясные по языку и стилю, отлично слаженные пьесы нередко ставят исследователей в тупик отсутствием в них видимых следов какого-либо «высшего» морального задания, помимо отражения гедонистической морали «кавалеров» и ярко выраженной установки на развлекательность. Бомонта и Флетчера то обвиняют в беспринципности, то обнаруживают у них своеобразный аристократический гуманизм (А. Аникст), но, видимо, все эти качества не настолько однозначны, чтобы споры о мировоззрении драматургов прекратились раз и навсегда.
Отчасти дело заключается в том, что определенная моральная (и эстетическая) недосказанность составляла суть их поэтики и мировосприятия. Скачки от гедонизма к проповеди платонической любви, характерные для поэтического мира Бомонта и Флетчера, возможно, не были одним лишь проявлением их «беспринципности» и безразличия к тому, какие идеалы проповедовать со сцены, — лишь бы пьеса была интересной. С другой стороны, элементы гуманизма (аристократического или какого-то еще) не выявляются в их произведениях достаточно четко и ясно. И вовсе не потому, что драматурги эпохи Стюартов проявляли в своем гуманизме какую-то «непоследовательность». Основополагающей чертой их идеала была сама зыбкость идеальных форм.
Суровый морализм пьесам Бомонта и Флетчера, бесспорно, не свойствен, но в их произведениях мы все же можем обнаружить какую-то область постоянного морального интереса, своего рода болезненный очаг, вокруг которого кружатся основные нравственные вопросы. Центральной точкой этого очага служит идея достоинства частного лица (измененный и «урезанный» вариант ренессансного «достоинства человека»). Идея эта нередко облекается у Бомонта и Флетчера в оболочку аристократической чести. Однако в то же время все виды чести, которые традиционно имели сословную подоплеку (семейная честь дворянина, честь подданного в его вассальных отношениях с королем), — у названных драматургов приобретают новую окраску. Честь героя — это прежде всего личное достоинство частного человека, поэтому персонажей бомонто-флетчеровских драм глубже всего задевает оскорбление, касающееся их частных связей. Эти герои убеждены, что права личности так же сувсренны, как и права монарха, но это их убеждение наталкивается на произвол власти и грубое попрание свободы отдельного лица. Неудивительно, что собственные желания, страсти, долг, права и обязанности сливаются в представлениях этих героев в какое-то невообразимое смешение иррациональных порывов и обрывков разумных рассуждений, попыток действовать и невозможности их осуществить. Экзальтация страсти часто соединяется в психологии персонажей Бомонта и Флетчера с параличом воли, а классицистический конфликт — с маньеристской зыбкостью форм и амбивалентностью поступков, «приправленных» барочной театральностью, и психологической противоречивостью (антиномиями страсти и рассудка).
В знаменитой «Трагедии девушки» (Бомонт и Флетчер, 1610) доблестный полководец Аминтор в знак особого королевского расположения получает руку блестящей придворной красавицы Эвадны. Королевское благодеяние, однако, сразу же оборачивается нарушением «естественной», общепринятой чести — герой покидает свою невесту, скромную Аспазию: «Я был ей верен, но велел мне царь / Жениться на твоей сестре достойной» (1.1, пер. 10. Корнеева). Впрочем, Аминтор не просто «жертва долга» или благодарности государю. Эвадна привлекает его своей яркой красотой и блестящим умом, затмевая прежнюю возлюбленную.
Однако в брачную ночь, вместо законных наслаждений, Аминтору приходится пережить унижение, сравнимое разве что с неприятностями короля Гунтера в спальне богатырши Брюнхильды.
(«Песнь о нибелунгах»), Эвадна оказывает молодому супругу стойкое сопротивление и объявляет, что давно уже принадлежит другому — «высшему» — и никогда не изменит этому «союзу любви». Любовник Эвадны не кто иной, как сам король, месть которому за личное оскорбление для Аминтора морально невозможна. Единственное, что остается герою, — это видимость достоинства — людское мнение, и он отчаянно изображает перед окружающими счастливого супруга. Однако счастливый вид «соперника» вызывает неудовольствие короля. Добрый властелин требует объяснений, подвергая Аминтора последнему унижению. В бессильном гневе молодой полководец сознается, что в брачную ночь не «обладал» королевской наложницей. Бесстыдное покушение короля на жалкие остатки чести и достоинства подданного приводят Аминтора в настоящую ярость, способную, однако, излиться лишь в словах:
Вы деспот, и не столько потому, Что честный человек поруган вами, Сколь потому, что вы не постыдились Сказать ему об этом.
(Ш.1).
Чтобы найти какое-то разрешение этого конфликта, авторы позволяют одному из своих героев — брату Эвадны Мелантию — вспомнить об «иронической справедливости», разящей зло его же собственным оружием. Мелантий подступает к своей порочной сестре Эвадне с тираноборческими речами и яркими красками рисует ей низость ее положения, виновником которого явился король. Мелантий знает, что Эвадна уже погубила себя, и потому именно в ее руки вкладывает цареубийственное оружие, благодаря которому свершится месть за муки «честного человека». «Гибнущая» из-за своей гордыни Эвадна погибнет окончательно и в своем падении увлечет за собой оскорбителя, надругавшегося над семейной честью Мелантия и Аминтора. А тот, в свою очередь, погибнет именно как частное лицо (от руки соблазненной им «падшей» женщины), а не как царь, чья плоть и имя «святы» (III. 1).
Увлекая Эвадну надеждой очиститься от скверны греха пролитием королевской крови, Мелантий в сущности понимает, что обманывает сестру, ибо единственно возможная реакция Аминтора на цареубийственный «подвиг» Эвадны — это ужас и отвращение. Эти «аффекты» полностью уничтожают и неудовлетворенную страсть Аминтора к Эвадне, и то сострадательное, нежное чувство, которое он готов был испытывать к ней как к своей платонической супруге. «Порок ты искупаешь преступленьем», — заявляет он, в ужасе убегая от красавицы-жены, впервые раскрывшей ему объятия (V.4.). Для Эвадны остается один лишь выход — самоубийство. Таков конец безумных дерзаний ее гордыни и вместе с тем еще одна — невольная — месть самой себе за оскорбление «честного» Аминтора.
Муки оскорбленной чести Аминтора находят свое искупление в гибели короля и Эвадны. Остаются лишь муки совести перед невинной Аспазией, которую он когда-то покинул. Но и этим мукам тоже вскоре приходит конец. «Образец» должного поведения герою на сей раз дает сама Аспазия. Ее переодевание в мужской наряд и вызов героя на дуэль — по сути замаскированное самоубийство. И в то же время смерть Аспазии оказывается наилучшей местью оскорбителю. Аминтор, вопреки своим убеждениям проливший невинную кровь, отныне вынужден стать «мстителем» самому себе за совершенное злодеяние. Освобождаясь от мук постылой жизни, где честь и достоинство превратились в пустой звук, он вновь оказывается способен и на сочувствие к падшей Эвадне. Круг мести, пройдя через ряд парадоксальных препятствий и поворотов, замыкается на самом герое, словно намекая на то, что человек, и никто другой, является главным преступником и оскорбителем своей чести.
Большинство пьес Бомонта и Флетчера строится на указанном парадоксе. Повторение одних и тех же конфликтов и ощущение неразрешимости антиномий бытия делают произведения популярных драматургов однотипными по структуре. Сюжет и действие этих пьес как будто вечно вертятся по кругу: герои сталкиваются вновь и вновь с одним и тем же непреодолимым для них препятствием. Своеобразный паралич воли выражается либо в пассивной бездеятельности героя, либо в крайней импульсивности его поступков, совершаемых под влиянием аффекта. Так, например, Филастр (герой одноименной трагикомедии, 1609 г.) не может обрести успокоения ни в смирении собственных страстей, ни в их искусственном распалении, так что в конце концов эффект его поступков оказывается почти комическим. Этот благородный принц, лишенный власти дядей-узурпатором и оказавшийся в положении Гамлета, дважды пытается покончить с собой, но вместо этого дважды ранит ни в чем не повинных женщин: свою возлюбленную Аретузу, которую он подозревает в измене, и переодетую пажом верную Ефразию, которая любит его чистой платонической любовью. В «Верной пастушке» Дж. Флетчера (1609) роковые ранения и чудесные исцеления также следуют одно за другим, ничего не меняя ни в отношениях героев, ни в психологических мотивах их поступков. За каждой ложной развязкой следует новый виток действия, приводящий к новому тупику. В конечном счете эти повторы как бы обескровливают и «настоящий» финал, который оставляет у зрителя ощущение, что действие может возобновиться и вновь пойти по уже знакомому руслу. В силу этого трагедии и трагикомедии Бомонта и Флетчера различаются лишь по финалу, но не по структуре, и это различие порой кажется случайным — неким «произволом» драматургов, узаконенным в их поэтике.
Как и Шекспир, Бомонт и Флетчер сознают, что часть противоречий бытия невыносима для непосредственного переживания. Поэтому они снимают остроту противоречий и нейтрализуют глубину эмоций, сознательно превращая сюжетные столкновения и экзальтированные страсти в искусный театральный прием. Средством такой нейтрализации как раз и является бесконечный повтор. После нескольких однотипных «поворотов винта» зритель перестает воспринимать всерьез болезненные эмоции и неразрешимые проблемы героев. Он начинает смотреть пьесу «как пьесу», сохраняя рассудочную дистанцию по отношению к экзальтированным страстям персонажей. Сама экзальтация чувств выступает отчасти как форма бегства от остроты действительных переживаний. Психологическая «глубина» сознательно «вытеснена» внешней психологической изощренностью. Антиномии страстей приобретают театрально-игровой характер, чтобы не стать психологически слишком болезненными.
Бомонту и Флетчеру в целом чужд приглушенный утопизм поздних шекспировских трагикомедий. Человеческие страсти и поступки приобретают для них утраченное достоинство лишь в качестве театральных поступков и страстей. Во многом Бомонт и Флетчер следуют структуре итальянской маньеристской трагикомедии, которая служила образцом для их романических драм. Но эмблемы и аллегории итальянцев они последовательно заменяют «театральной метафорой» («жизнь есть театр»). Ощущение «змеевидного» хаоса вытесняется у них четкостью барочного лабиринта, контраст между разгулом страстей и неизменностью «скрытого» идеала — сочетанием моральной «беспринципности» с эстетической притязательностью. В целом читатель и зритель не могут отделаться от ощущения, что Бомонт и Флетчер буквально балансируют на грани маньеризма и барокко, используя приемы маньеризма как средство и материал, но наполняя их новым эстетическим содержанием.
Связующим звеном между маньеристско-барочной драмой 1610-х — начала 1620-х годов и следующим этапом развития английской драматургии (1620— 1630-е гг.) может служить творчество Филипа Мэесинджера (1583—1640). Многому научившись у Бена Джонсона, Мэссинджер долгие годы сотрудничал с Флетчером, став основным соавтором последнего после смерти Фрэнсиса Бомонта. Поэтому сочетание классицистических и барочных тенденций в творчестве этого автора кажется глубоко подготовленным его литературными связями, вкусами и пристрастиями.
Многолетнее сотрудничество с другими авторами (главными из которых были Флетчер и Деккер) не убило в Мэссинджере творческой самостоятельности, которая ярко проявлялась даже в его пьесах-переделках (например, в комедии «Новый способ платить старые долги», ок. 1625, написанной «по мотивам» знаменитой пьесы Т. Миддлтона «Как провести старика»).
В названной пьесе-переделке замечательно раскрылся талант Мэссинджера-комедиографа. Морализаторство в духе Джонсона не ослабляет живости его сатирических образов, но придает необходимую четкость очертаний сюжету и характерам (связь между характерами и сюжетом в пьесах Мэесинджера гораздо органичнее, чем в «комедии гуморов» Б. Джонсона). Как мастер интриги Мэссинджер в середине 1620-х годов не знает себе равных. Перерабатывая старую пьесу Миддлтона «Как провести старика» (1604—1606), он предпочитает маньеристскому методу дробления и повтора — барочно-классицистический метод «концентрации противоречий». Так, вместо двух марионеточных ростовщиков Лукра и Хорда он выводит на сцену одного, но зато уж подлинно яркого барочного злодея. Соединяя в себе сюжетные функции двух персонажей Миддлтона, сэр Джайлз Оверрич является гораздо более живой фигурой, чем Лукр и Хорд, вместе взятые. Для сэра Джайлза ростовщичество не просто причудливая предрасположенность рассудка (гумор) и даже не индивидуальное проявление «общей» тяги к мошенничеству в гротескном комедийном мире. Это настоящая страсть, по-барочному вычурная и экзальтированная. Вот почему, лишившись объекта своей страсти, сэр Джайлз теряет всякую опору в этом мире и под конец театрально лишается рассудка.
В не менее занимательной комедии «Госпожа из Сити» (1632) Мэссинджер предвосхищает сразу несколько мольеровских образов и тем — в частности, тему «жеманниц» и тему «мещан (у Мэссинджера — скорее мещанок) во дворянстве». Предваряя Мольера («Тартюф»), он создает также запоминающийся образ лицемера (Льюка Фругала), который под маской святоши скрывает черствость бездушного эгоиста, железную хватку ростовщика и немалый аппетит к чужому богатству. Льюк Фругал — один из немногих комедийных образов на английской сцене первой трети XVII в., обладающих (подобно характерам Мольера) некоторой внутренней динамикой. Удачно выбранный сюжетный ход (временное возвышение героя, жившего в доме старшего брата на положении приживала) позволяет органично выявить главную черту Льюка — его холодный эгоизм, скрываемый под маской пуританского смирения. Умелое ведение интриги создает ощущение классицистической четкости, вместо маньеристского раскачивания маятника, хотя в театрализованной развязке чувствуются также и барочные черты.
Слава Мэссинджера-комедиографа после его смерти надолго затмила его более скромные (как казалось) достижения в искусстве трагедии. Тем не менее и эта страница его творчества заслуживает внимания. В трагедиях («Герцог Миланский», 1621 —1622; «Великий герцог Флорентийский», 1626; «Благородная девушка», 1626; «Римский актер», 1626; «Верьте, если хотите», 1631) Мэссинджер подтверждает свое мастерство композиции, умение строить сюжет, органично соединяя его с характером, а также свою способность давать характерам четкие очертания. В трагедиях Мэссинджера чисто моралистический пафос комедий уступает место строгому морально-гражданскому пафосу (опять-таки сродни классицизму). К этому можно добавить хорошее знание античных источников, особенно заметное в пьесе «Римский актер», которую автор считал «лучшим порождением своей Минервы» (посвящение к изданию пьесы 1626 г.).
Не ломая законов английской сцены, Мэссинджер приближается в этой пьесе к соблюдению одного из важных канонов классицизма — единства действия. «Однолинейность» не накладывается на художественный материал извне, но последовательно вызревает «из глубины» традиционного английского «двойного сюжета». Действие достигает большей концентрации, чем у предшественников Мэссинджера, и через эту концентрацию приближается к «единству». События, связанные с заглавным образом (актера Париса), строго говоря, не выделяются в отдельную сюжетную линию. Только в начале трагедии линия Париса имеет видимость самостоятельности, но с появлением на сцене императора Домициана она все теснее переплетается с основной линией — судьбы Рима.
Вызвать у зрителя ощущение «равнозначности» фигур актера и императора и поставить их на одну линию восприятия — задача далеко не простая, ведь даже страсть к актеру императрицы Домиции не в состоянии уравнять обожествленного властелина мира и жалкого лицедея. Парис не обладает ни доблестью, равной воинским доблестям императора (II. 1), ни его «политической» (вернее, макиавеллистической) дальновидностью, ни даже стойкостью духа и добродетелью, которые он мог бы противопоставить сластолюбию и жестокости римского тирана (роль морального посрамления Домициана выполняют в трагедии другие персонажи — молодые римские стоики Юний Рустик и Пальфурий Сура, с презрением выносящие пытки и казнь). В отличие от них Парис пассивен, мягок, уступчив, несамостоятелен. Даже его знаменитая речь в сенате (в защиту театра) имеет успешный финал лишь потому, что в самый разгар «суда» над актерами в Рим прибывает с триумфом император, известный как защитник и покровитель лучшего римского лицедея.
В «Римском актере» Мэссинджер сосредоточил свое внимание на выявлении сходства в принципах римского искусства и римской власти. Их родство обнаруживается через соединяющую их тему любви. Любовь захватывает человека целиком, обещая ему мир наслаждений. Власть превращает весь мир в орудие и проявление его воли. Искусство, посредством «перевоплощения», иллюзорно «сливает» природу актера с природой представляемого им характера, позволяя лицедею беспредельно расширить границы своей индивидуальности. Все эти мощные силы обещают человеку гармонию с миром и все они в равной мере обманывают его.
Полная гармония с миром (понятая как «обладание» им) в пьесах Мэссинджера — всего лишь иллюзия. Император Домициан, находясь во власти этой иллюзии, считает себя земным богом и яростно ополчается на каждого, кто испытывает пределы его прерогатив. И все же любому «актеру», играющему на сцене театра или в жизни, рано или поздно приходится выйти из роли (даже если это роль земного божества) по причине естественной ограниченности человеческой природы.
Не является исключением из общего правила и «универсальная» роль актера. Ее универсализм также требует умаления человечности ради безграничной способности к перевоплощению. Роль лицедея требует податливости и гибкости, но именно в силу этих свойств Парис оказывается по-человечески нестойким в сцене «обольщения» его Домицией: он отвечает на ее страстные поцелуи как обычный «слабый» человек, а не живое изваяние актерской игры. Сам император, будучи одним из совершеннейших актеров в жизни, видит в этом «падении» Париса не просто измену своему покровителю и «другу», но гораздо худший грех — измену Искусству, выход героя из «роли» лучшего актера Рима, чья человечность не самодостаточное свойство, а только материал игры. Вот почему император «в знак особой милости» убивает Париса прямо на сцене, включаясь в театральную постановку в качестве актеpa-любителя. Тем самым он возвращает своего любимца в границы его высшего — актерского призвания, стирая «постыдные» следы человечности с его чела. Преступление Париса в том, что он вышел из своей истинной роли лицедея, но, благодаря «милости» императора, он умирает как актер и остается не изменником, но артистом в памяти потомков: «…и так как жил ты / Актером лучшим Рима, я задумал, / Что ты умрешь под гром аплодисментов / Немолчных для грядущих поколений / От нашей императорской руки» (IV.2.296—300, пер. мой. — Т.Ч.).
В целом Мэссинджер (сторонник строгих моральных норм и четких линий в обрисовке характера) вместе с тем остается противником ложных абсолютов. Он ясно понимает, что искусство, политика, наслаждение и мораль не могут быть абсолютными (как все земное), иначе они разрывают обычную человечность напополам. Поскольку человек слаб, всякая универсальная гармония должна быть «смещенной, неполной». При этом осознание антиномий в отношениях мира и человека сочетается у Мэссинджера с высокой театрализацией жизненного опыта, а его моральная последовательность как художника не исключает доли нравственного компромисса. Весь этот сложный комплекс мировоззренческих установок является почвой достаточно органичного сочетания художественных принципов барокко и классицизма в творчестве Мэссинджера.
Последним крупным трагедиографом предреволюционной эпохи и по своим художественным принципам, бесспорно, художником барочного склада был Джон Форд (1586—1639). Барокко как стиль и направление уже утвердилось на английской сцене в творчестве Ф. Бомонта и Дж. Флетчера и с середины 1620-х годов стало, пожалуй, главным стилем английской драмы. В рамках этого стиля (не без влияния классицизма) создает свои основные произведения и Джеймс Шерли — один из прямых предшественников комедии Реставрации.
Джон Форд в своих трагедиях избегает ярких, насыщенных красок, предпочитая общий сумрачный колорит. Его взгляд на человека пессимистичен и по-своему глубок. Он тонкий психолог, способный довольно скупыми (и в то же время ярко театральными) средствами показать противоречия страсти — чаще всего непреодолимой, охватывающей человека целиком и рвущей его сердце на части. Страсти, их внутренняя природа — то, что интересует драматурга больше всего. Эмоции его героев могут быть не слишком масштабны, но глубоки и насыщенны. Подобным страстям можно стоически сопротивляться, но их нельзя победить, во всяком случае такая победа разума над плотью оборачивается гибелью живой души и неизбежным угасанием тела.
Острота конфликта в трагедиях Форда многократно усиливается тем, что большинство героев драматурга, нарушающих закон и нормы морали, относятся к своему человеческому долгу отнюдь не легкомысленно. Они только слишком часто бывают ослеплены своей страстью, чтобы не спутать ее со своим истинным долгом.
Так, например, Пентея в «Разбитом сердце», насильно выданная своим братом замуж за вельможу Бассания, хранит ему безупречную верность — вопреки притязаниям Оргила — своего первого, «настоящего» жениха, с которым она была связана и чувством, и словом. Однако верность нелюбимому мужу не дает ей ни простого покоя, ни сознания собственной добродетели или радости исполненного долга. Верная жена, Пентея, увы, не считает себя добродетельной, но, напротив, ощущает себя оскверненной, поруганной в этом браке, нарушившем святость нерасторжимого союза любящих:
Мое приданое ушло к другому, И девственность похитил он мою.
Ужель я допущу, чтобы Оргилу Достался сорванный цветок?..
(П.З, перевод С.Э. Таска)
Обручена с Оргилом, я живу Наложницей Бассания — так разве Не шлюха я?
(Ш.2).
Пентея чувствует себя поруганной не только физически, но и нравственно — тем, что нарушена ее свободная воля и данное ею слово. Этого груза «тихая» Пентея выдержать не в силах. Ломаясь под ударами судьбы, она сходит с ума и умирает (добровольно расстается с жизнью, отказываясь от пищи).
Если Пентея, на первый взгляд, «слабая» героиня, а принцесса Каланта — героиня сильная, то сопоставление их судеб лишний раз доказывает, что от невыносимых противоречий бытия не спасает и безупречный стоицизм. Другими путями он ведет к тому же неизбежному результату — смерти от «разбитого сердца». В отличие от горько тоскующей Пентеи Каланта ни словом ни звуком не выдает своих страданий, слыша страшные вести о смерти отца, любимой подруги и, наконец, о гибели возлюбленного — Итеокла. Как настоящая спартанка, она даже не прекращает танца, когда ей сообщают об этих горестных событиях. Стойкая героиня до конца сохраняет рассудок и отдает последние распоряжения с ясностью мысли и дальновидностью мудрой правительницы. Но сердце — самый хрупкий инструмент человечности — не выдерживает страданий и разбивается — от невозможности любви и счастья:
Армост Царица умерла!
Бассаний Разбилось сердце.
Ты рождена была для грустной роли, Но как достойно ты ее сыграла!
С улыбкой на устах.
(V.3).
Важное нравственное содержание в «Разбитом сердце» несет в себе и роль Итеокла — брата Пентеи, разрушившего ее счастье. Он воплощает в себе честолюбивый дух дерзания, стремление достичь царственных вершин, и ради этого жертвует счастьем сестры. Лишь полюбив недосягаемую Каланту и испытав все муки «молчаливой» страсти, он начинает понимать истинный смысл своего поступка. Но одного сочувствия бедной Пентее мало. Героя ждет худшее испытание, которое он встретит стоически. В тот самый момент, когда его собственное счастье кажется таким близким и он становится обрученным женихом прекрасной Каланты, его настигает месть Оргила. Однако Итеокл встречает гибель так же достойно, как и сама Каланта:
Ты полагал, я запрошу пощады Из страха не достичь зенита славы.
Но я не стану честь твою лишать Возможности отмстить за униженья…
Я понимаю, это не убийство, А лишь возмездие, так не тяни же!
(IV.4).
Чужое страдание в трагедии Форда не дает нравственного знания, пока оно не станет своим. Лишь собственная боль раскрывает человеку истину и отдергивает завесу тайного замысла небес. И обретение этого знания дает героям силы встретить смерть стоически. Поэтому как итог нравственному самопознанию героев звучат в пьесе слова нового царя Спарты: «Нет, не понять нам неба с нашим знаньем, / Пока мы сами жертвами не станем» (V.3).
Если в «Разбитом сердце» герои по большей части сохраняли верность формальному долгу, но это не спасало их от трагических последствий, то в «сенсационной» трагедии «Как жаль ее развратницей назвать» (опубл. 1633) такое же тяжелое испытание проходит «правда сердца».
Джиованни и Аннабелла чувствуют сердцем, что созданы друг для друга, что в чуждом и враждебном мире их нерасторжимый союз — единственная гавань живой человечности. Этот союз находит такую прочную основу в самом себе, что никто и ничто (от поучений философов до внешних препятствий) не может его поколебать. Трагедия, однако, заключается в том, что Джиованни и Аннабелла — брат и сестра и их взаимная страсть нарушает все общепринятые законы — божеские и человеческие. Герои пытаются противопоставить миру закон своей собственной страсти — свято оправданной в их собственных глазах:
Джиованни Я должен
Тебя любить. Должно. Хочу! Хочу!
Теперь мне жить иль умереть?
Аннабелла Живи.
(1.3, перевод И. Аксенова)
Для Джиованни свобода любить Аннабеллу равносильна элементарной свободе бытия, она имеет тот же смысл, что и свобода воли, и неразрывно связана с самим правом любого существа на жизнь: «Что всем дано, дано ли мне — любить?» Этот вопрос Джиованни перекликается с вопросами кальдероновского Сехисмундо о праве человека на то, чем «естественно» пользуются и владеют все живые твари. И так же, как вопросы Сехисмундо, он тесно увязан с проблемой свободы воли, столь важной для барочных драматургов в Англии и в Испании.
Однако никто не может уйти от моральных законов и избежать своей судьбы. Пытаясь скрыть последствия своей страсти, Аннабелла выходит замуж за Соранцо, невольно вступая на путь обмана. Месть мужа, раскрывшего распутство своей жены, должна быть «скорой и страшной». Однако Джиованни опережает «законную» месть супруга; он наносит Аннабелле смертельный удар и извлекает из ее груди сердце, принадлежавшее ему одному («сердце, где я свое похоронил»). В этой театрально-кровавой метафоре соединяется целая гамма болезненно-изуродованных чувств: «спасение» героини от мести «чужого» человека; месть за «измену» нерасторжимому союзу любви; утверждение вечности этого союза сердец в жизни и в смерти, когда каждый из любящих является нераздельной собственностью другого. При этом, в отличие от столь же нерасторжимого, но абсолютно антироманического «адского» союза Беатрисы и Де Флореса, вокруг союза Аннабеллы и Джиованни сохраняется некий ореол поэзии и романического достоинства:
Обнимемся. В грядущих временах, Когда б узнать могли о нашей страсти, Законы и обычай, может быть.
Осудят справедливо нас. Но если Узнают, как любили мы — сметет Всю грязь обычного кровосмешеиья…
(V.5, перевод И. Аксенова)
У Форда видимость и реальность, добродетель и порок меняют свой облик и смешиваются не в результате остроумных или злокозненных подмен, но потому, что в жизни они стянуты в один неразрешимый узел. Неудивительно, что в проблеме соотношения видимого и реального, которой еще художники-маньеристы придали столько интригующих поворотов, Форд также открывает новые грани, находя в ее решении свой оригинальный путь.
Пожалуй, нигде у Форда эта тема не получает такого яркого раскрытия, как в исторической драме «Перкин Уорбек» (1634). Возрождая полузабытый жанр национальной хроники, Форд делает главным героем своей пьесы известного самозванца времен Генриха VII. Автор придает этой фигуре драматическое достоинство, нигде при этом не утверждая, что претензии Уорбека на престол имели под собой какую-то реальную основу, а сам герой в действительности являлся сыном Эдуарда IV, как он утверждал. Главный парадокс пьесы заключается в том, что рвущийся к престолу самозванец при ближайшем рассмотрении гораздо менее похож на беспринципного «политика"-макиавеллиста, нежели прагматичные и вовсе не величественные «законные» короли: Генрих VII Английский и Иаков IV Шотландский. Внешнее «королевское достоинство» сочетается в самозванце с действительной царственностью помыслов, величием планов, щедростью и великодушием — и вместе с тем с какой-то архаической простотой, свойственной, быть может, королям-рыцарям прошлого. Фигура Перкина овеяна каким-то мистическим «духом» царского величия, по которому простой народ привык обычно отличать «настоящего» короля от «поддельного»[3].
«Благородство речей» Перкина поражает его невесту Кэтрин Гордон. Она не очень верит в его миссию и в осуществимость его планов, но, слушая его слова, заливается слезами — просто потому, что именно так должен говорить истинный помазанник Божий. И именно такого языка и таких слов ждут от короля его подданные.
Отношение Кэтрин к Перкину чрезвычайно важно для понимания трагедии. Героиню выдают замуж за самозванца по приказу шотландского короля, вопреки желанию ее отца и почти против собственной ее воли. Но со временем из чисто политического трюка, выгодного Шотландии, этот брак «по расчету» превращается в подлинный союз любящих душ. Происходит это уже тогда, когда «организатору» свадьбы Иакову IV брак Перкина и Кэтрин становится неудобен. У Кэтрин есть возможность покинуть мужа, но она остается ему верна и в дни величайшего унижения, как и в дни призрачной былой славы. Сцена на улице Лондона, когда супруги прощаются под издевательства толпы, доказывает, что союз сердец не зависит от одобрения невежественного большинства (как и сильного меньшинства). И даже отец Кэтрин под конец признает Перкина истинным мужем дочери и настоящим дворянином. Чувства же самой Кэтрин к этому времени давно уже переросли в нечто большее, чем формальный долг супружеской верности.
Последний выдающийся драматург «каролинской» эпохи (эпохи царствования Карла I) — Джеймс Шерли (1596—1666), писавший в разных жанрах, но прославившийся своими комедиями. Шерли, как и Форд, художник барочного стиля, однако барочные тенденции сочетались в его творчестве с тенденциями классицистическими. Важную роль в его комедии играет парадокс, составляющий основу его художественного восприятия.
Так, в знаменитой комедии Шерли «Хайд-парк» (1632) весьма динамичным парадоксом оборачивается попытка молодого Трайера испытать добродетель своей невесты Джульетты: девушка не только отвергает легкомысленные ухаживания лорда Бонвила, согласившегося сыграть роль обольстителя, но с неменьшим презрением отказывается и от брака с самим Трайером. Венцом этого парадоксального переворачивания ситуации становится исправление храброго и щедрого, но лишенного твердых моральных устоев Бонвила под влиянием стойкой в своей добродетели Джульетты. Столкнувшись с ее стойкостью и добрыми качествами, Бонвил отрекается от прежней распутной жизни и становится вполне достойным претендентом на руку девушки. «Повесть о безрассудно-любопытном» имеет на сей раз счастливый финал, ибо, хотя Бонвил и побеждает в качестве соперника Трайера и добивается благосклонности Джульетты, тем не менее моральное поражение при этом терпит не «вероломная» невеста, а только мнимо добродетельный жених. Если исправление «несмертельных» пороков под влиянием добродетели встречается довольно часто в комедии классицизма, то сам по себе мотив «парадоксального» спасения на грани гибели является характерным для драмы барокко. Именно в пьесах барочных авторов грешник, погрязший в пороке и преступлениях, может буквально за гранью всякого мыслимого и немыслимого падения (и даже смерти) обрести благодать и спастись от власти греха (ср. «Поклонение Кресту», «Волшебный маг» и другие пьесы Кальдерона).
Парадокс лежит также и в основе второй сюжетной линии той же комедии Шерли: чтобы завоевать руку и сердце острой на язычок красавицы мисс Керол, ее поклонник Ферфилд берет с нее клятву, что она не будет искать с ним встреч и проявлять к нему какое-либо подобие нежности. Легко предугадать при этом, что капризная девица, привыкшая все делать наперекор, не сможет сдержать свою клятву. Вскоре она действительно обнаруживает уже все признаки влюбленности в сообразительного героя. Капризность героини Шерли отчасти напоминает строптивый нрав шекспировской Катарины или может рассматриваться как ее «гумор», с которым Ферфилд ведет борьбу «от противного». Между тем у Шекспира в «укрощении» Катарины ее супругом Петруччио на первом плане стоит восстановление нарушенной гармонии характера; у Джонсона (в сценах «очищения» туморов) главное — это обретение разумного равновесия страстей, тогда как у Шерли суть замысла Ферфилда — это парадокс ради парадокса, ибо в парадоксе для барочного автора заключается смысл бытия.
Столь же парадоксальным принципом («клин клином вышибают») пытается воспользоваться и муж «ветреницы» леди Аретины в комедии Шерли «Ветреница» (1635), однако в его поступке чувствуется и классицистическая назидательность: видя, к каким катастрофическим последствиям приводит легкомыслие и расточительность Аретины, ее супруг Добруэлл разыгрывает на глазах жены еще большего мота и повесу, надеясь, что «все это напугает и заставит» «ветреницу» «быть бережливей» (II. 1, пер. М.Я. Бородицкой). Тем не менее исправлению падшей героини в гораздо большей степени способствует не этот рационально-классицистический замысел, а подлинно барочный парадокс: вступив с помощью обмана в связь с никчемным повесой Бреллоком, Аретина в ужасе узнает, что ее любовник уверен, будто во время тайного свидания ему довелось ублажать дьявола в женском обличье. Эта ситуация как будто воспроизводит знаменитый эпизод с явлением дьявола Кайусу Грешену в «Безумном мире» Т. Миддлтона. Однако повеса нового образца, вместо того чтобы незамедлительно покаяться (хотя бы временно) при виде сатаны в женском образе, готов и впредь оставаться на содержании у черта (V.1). Такая кощунственная низость повергает Аретину в ужас, и ее возвращение на стезю добродетели сопровождается религиозным покаянием, равно как и готовностью повлиять в душеспасительном духе на мадам Капкаун — ту самую сводню, которую Бреллок принял за сатанинское отродье, объятое вожделением.
Тем не менее окончательный выбор примиренной супружеской пары остается неопределенным. Муж не сомневается, что жена, согласно давнему его желанию, вернется с ним в деревню. Однако, не успев высказать эту надежду вслух, сквайр Добруэлл тотчас же получает приглашение отобедать с супругой у молоденькой вдовы Селестины, а Аретина выражает готовность выхлопотать придворную должность для Бреллока, если он раскается и смирит вожделения плоти. Все это делает не только возвращение героев к «корням», но и само их раскаяние весьма шатким: маньеристская амбивалентность в духе Миддлтона окольным путем возвращается в русло барочно-классицистической поэтики. На фоне этих превращений идеалом Шерли остается скорее некоторое очищение и обновление лондонской жизни, нежели полный отказ от ее преимуществ ради сельской идиллии. Драматург, пожалуй, и сам колеблется в выборе между двумя возможными «положительными» исходами («исправление» города или возвращение в деревню), но он не уверен в реальности ни одного из них.
И Форд, и Джеймс Шерли, показавшие в своих комедиях целую галерею нравов нового Лондона — Лондона «кавалеров», — были драматургами не только глубоко и своеобразно талантливыми, но и весьма близкими «духу» своего времени. Форд кажется более тесно связанным с традициями прошлого (хотя это не помешало ему предвосхитить многие особенности трагедий Томаса Отвея, 1652—1685, написанных в эпоху Реставрации). Шерли как прямой предшественник комедий Реставрации (Дж. Этериджа, У. Уичерли) представляется прежде всего устремленным в будущее (а между тем в его драматургии сохранились традиции и Чэпмена, и Бомонта и Флетчера, и в некоторой степени Миддлтона). Такой «расклад» творческих сил в английской драме 1620—1630-х годов был вполне естествен, поскольку всякое (тем более «предгрозовое») время несет в себе и свое прошлое, обдумывая и переоценивая его заново, и вместе с тем осознанно ищет своих собственных, «неизбитых» путей в будущее.
Пуританская революция в Англии насильственно прервала развитие существовавшей в стране театрально-драматической традиции (см. парламентские указы 1642, 1647 и 1648 гг.), и драма эпохи Реставрации (1660 — начало 1700-х годов) явилась не только новой важной вехой в истории английского театра, но и по сути самостоятельной художественной системой, имевшей собственные истоки и самостоятельную внутреннюю динамику.
- [1] В эту группу, в частности, входят. «Цимбелин» (1610), «Зимняя сказка"(1610—1611)и «Буря"(1611 — 1612).
- [2] В так называемый «канон» Бомонта и Флетчера входят пьесы, написанные этимиавторами совместно или каждым из них по отдельности, а также некоторые драмы, созданные Флетчером в соавторстве с другими драматургами (после смерти Бомонта).
- [3] Сходные проблемы внутреннего и внешнего в природе и сане короля затрагиваются и в трагедии Ф. Мэссинджера «Император Востока» (1631). В эпоху Стюартов, когда между парламентом и монархом шли бурные дискуссии на тему о «божественномправе» короля, эти вопросы были весьма актуальными.