Психология допроса обвиняемого в уголовном процессе
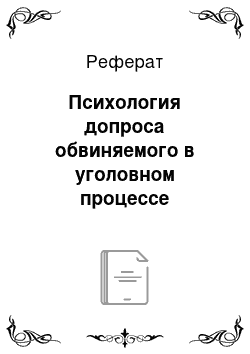
Возникающая в связи с этим проблема заключается в том, чтобы побудить обвиняемого говорить. В положении судьи правильнее всего попытки в этом направлении поставить так, как будто он имел дело с трудным свидетелем, а не с обвиняемым. Ибо те положения, которые нами выработаны на данных психологии свидетельских показаний и основанной на ней психологии свидетельского допроса, приобретают весьма… Читать ещё >
Психология допроса обвиняемого в уголовном процессе (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Для допроса обвиняемого первенствующее значение имеет тот принцип, что только в результате процесса должно быть установлено, действительно ли он виновен. Отсюда вытекает, что судья с психологической стороны должен рассматривать обвиняемого, как обычное доказательственное средство, как свидетеля. Это значит, что он должен с величайшим терпением и благожелательным беспристрастием предоставить обвиняемому возможность рассказывать. Что это требуется при всяком допросе, мы знаем, но крайней мере, в теории. Но именно в отношении обвиняемого это требуется в наибольшей степени, ибо волнение и смущение особенно сказываются обычно у обвиняемого, будь он действительно виновен или же невинно заподозрен. Поэтому вовсе неудивительно и, самое главное, не может служить хотя бы малейшим указанием на его действительную виновность то обстоятельство, что память у него функционирует слабо и ненадежно.
Чтобы это понять, стоит только уяснить себе, как мало, например, людей способно передать, что они делали дней восемь назад между 5 и 6 часами дня; в котором часу (с точностью) они видели того или другого знакомого. Кроме того, страх, который владеет обвиняемыми (опять-таки даже в том случае, когда они невиновны), в высокой степени ослабляет память: подобное явление можно наблюдать на любом экзаменующемся студенте. Наконец, в том же направлении толкает и работа фантазии. Человек всегда лжет, когда он находится в затруднительном положении; правильнее сказать — он часто вовсе не знает, сколько выдумки он привносит своей фантазией.
Но даже тогда, когда обвиняемый явно лжет, это ни в коем случае не говорит о его вине. Такой именно взгляд все еще очень распространен в судебной практике и, являясь наследием инквизиционного процесса, покоится на совершенно неправильном понимании человеческой психики. Дело в том, что ложь очень часто является результатом страха, на основании которого нельзя делать никакого вывода об участии данного лица в преступлении. Ибо также и невинные, преимущественно некультурные обвиняемые прибегают для своей защиты к этому неудачному средству. Самое большее, о чем можно заключить на основании лживых показаний обвиняемого, — это то, что у него были причины утаить определенные факты. Здесь могут иметь место совершенно особые мотивы, и ложь обвиняемого ни в коем случае не является доводом за то, что он совершил вменяемое ему деяние. Поэтому следует настойчиво предостерегать против переоценки значения лжи обвиняемого, если даже она потом обнаружилась. При том положении, при том неясном настроении, полном пугающих и волнующих сомнений, в котором находится обвиняемый, вообще невозможно в большинстве случаев различить в его ложных показаниях сознательную ложь от бессознательной. И вообще судья должен остерегаться делать поспешные и окончательные выводы из поведения обвиняемого.
Многие судьи поступают неправильно, создавая себе отвлеченное представление о том, как должен вести себя невиновный человек, которому предъявлены неосновательные обвинения, и устанавливая для себя на этом основании масштаб, которым они мерят любого обвиняемого. И вот всякий, кто не ведет себя в согласии с представлениями этих психологов обобщающего склада, является для них виновным, и каждое движение, которое он делает, для них становится выражением вины. Это наблюдение вовсе не устарело. И в настоящее время такая, склонная к обобщениям, психология, которая из собственных суждений извлекает масштаб для оценки обвиняемого, может приводить судью к весьма ошибочным заключениям.
От таких ошибок судья может предохранить себя, если он навсегда проникнется тем сознанием, что прийти к оценке обвиняемого он может лишь в порядке последнего вывода из всей совокупности воспринятых на судебном следствии доказательств. А до того всякое нарушение сдержанности, всякое выражение неудовольствия, неодобрения и, тем более, гнева очень опасно. Это нарушает спокойную и бесстрастную атмосферу, при наличии которой единственно и можно надеяться на торжество права и истины.
Обвиняемый, со своей стороны, встречаясь с таким отношением со стороны суда, приходит в раздражение и вынужден прибегать к таким средствам защиты, которые только затрудняют объективное установление истины, что, в свою очередь, еще сильнее возбуждает судью: он приходит в такое душевное состояние, которое создает благоприятную почву для неправильных заключений и поспешных обвинений.
Только в совещательной комнате, после окончания судебного допроса, судья может определить свое отношение к фактам, установленным в период следствия. Установление этих фактов, однако, может быть надежным, если оно выполнено sine ira et studio[1] и если оно не сошло с правильного пути вследствие аффективных оценок pro и contra.
В уголовном процессе все участвующие в нем лица (потерпевший и его близкие, соседи и другие случайные очевидцы и в особенности, разумеется, обвиняемый) могут оказаться иод влиянием возбуждения, самовнушения, воздействия со стороны других лиц, чувства самосохранения или какихлибо счетов с другими: поэтому перед судьей встает масса помех; перед ним запутанные и неясные пути, в которых он должен ориентироваться. Нет сомнения в том, что только величайшее спокойствие и самокритика могут предохранить его от ошибок, грозящих здесь на каждом шагу.
С другой стороны, и с точки зрения обвиняемого, это требование приобретает исключительно важное значение. Если он виновен, он всегда сильнейшим образом заинтересован в сокрытии истинных событий. В случае же невиновности он находится в положении такого свидетеля, которому приходится опасаться большой беды от процесса, и потому он настолько связан заботой и страхом, что подвергается опасности потерять душевное равновесие и, вместе с тем, способность к ясным и внушающим доверие показаниям.
Судья обязан сделать попытку разобраться в этой обстановке и составить себе определенное мнение о том, что обвиняемый действительно знает о деянии, является ли он здесь совершенно посторонним лицом, или же, напротив, именно он это деяние совершил и какие моменты вины в этом последнем случае следует ему вменить. За исключением тех случаев, когда обвиняемый признает свою вину в заслуживающей доверия форме или когда его вина может быть установлена с помощью других доказательств с такой бесспорностью, что его участие в судебном следствии не является вовсе необходимым, — остаются в силе обычные задачи уголовного процесса, остается обычная возможность для судьи выяснить фактическую обстановку дела лишь при помощи показаний самого обвиняемого.
Возникающая в связи с этим проблема заключается в том, чтобы побудить обвиняемого говорить. В положении судьи правильнее всего попытки в этом направлении поставить так, как будто он имел дело с трудным свидетелем, а не с обвиняемым. Ибо те положения, которые нами выработаны на данных психологии свидетельских показаний и основанной на ней психологии свидетельского допроса, приобретают весьма большое значение и в отношении обвиняемого. Поэтому обвиняемому нужно предоставить возможность связно рассказать то, что ему известно о деянии. Для того чтобы человека смущенного, взволнованного и проникнутого недоверием заставить говорить, необходимо проявить к нему доверие и дружелюбие. Известно, как много добиваются опытные полицейские чиновники крупных городских центров от «своих клиентов» благодаря дружелюбному и мягкому обращению. Английское судебное правило — «судья — лучший адвокат обвиняемого» — the judge is the best counsel — должно научить нас, что мягкий тон в обращении с обвиняемым сам по себе единственно допустимый и с точки зрения процессуальной техники лучше всякой резкости.
Если судье удастся получить от обвиняемого ответы на отдельные предложенные ему вопросы и если, кроме того, он связно расскажет о себе, о своей жизни, о своем отношении — положительном или отрицательном — к преступлению, то в распоряжении судьи будут весьма важные данные для выяснения дела, имеющие значение источника познания личности обвиняемого. Ибо даже в том случае, если показания обвиняемого кажутся весьма неполными и неверными, они тем не менее дают руководство к пониманию его душевных качеств. Этот источник более надежен, чем большая часть тех масштабов для характеристики обвиняемого, которые могут быть получены из показаний свидетелей, т. е. из вторых и третьих рук.
Но, разумеется, самостоятельным рассказом обвиняемого (как и свидетеля) всегда разрешается только часть той задачи, которая ставится допросу. Ибо редко человек, стоящий перед судьей, способен связно рассказывать и именно так рассказывать, чтобы ясно и полно были переданы существенные моменты события. Поэтому отдельные вопросы, с которыми затем судья обращается к обвиняемому после его «рассказа», должны послужить к разъяснению и восполнению его, обвиняемого, показаний. В этот момент недопустимо и с процессуально-технической точки зрения неправильно ставить ему вопросы, которые возникают в связи с показаниями свидетелей или другими доказательственными средствами. Относящиеся сюда вопросы нужно предлагать обвиняемому лишь после прохождения через судебное следствие соответствующих доказательств. Если судья уже при первоначальном допросе обвиняемого обращается к нему с подобными вопросами, то предлагать их он может лишь на основании письменных материалов. Но эти материалы, согласно принципам устности и непосредственности, в этот момент еще не могут быть использованы для судебного следствия.
Судья, который обращается к обвиняемому с вопросами и возражениями, на основании письменных материалов, прежде чем дали на судебном следствии свои показания, относящиеся к предмету этих вопросов, свидетели и др., совершает вопиющее нарушение принципа непосредственности, присваивая себе функции обвинения, становится в положение нападающего и своим поведением обнаруживает пристрастие в пользу тех свидетельских показаний, которые для судебного следствия еще не существуют.
Совсем иначе обстоит дело, если через судебное следствие прошел какой-либо доказательственный момент, и лишь после того председательствующий предлагает обвиняемому дать свое объяснение. До этого же момента он должен предлагать обвиняемому лишь такие вопросы, которые представляются необходимыми для пояснения его собственного рассказа, а в случае надобности, исследовать тот источнику на котором покоится знание обвиняемого (или свидетеля).
Какой же вывод нужно сделать из сказанного? Цель допроса состоит в том, чтобы судья создал себе личный образ обвиняемого, и в том случае, если последний рассказывает о своем отношении к деянию, составив свое мнение о степени важности, правдоподобия или неправдоподобия сделанных обвиняемым заявлений. Для этой цели необходимо вскрыть те источники, на которых основаны заявления обвиняемого.
Если последний обвиняет в преступлении другое лицо, это может или быть голословным и подсказанным одной лишь злобой, или же быть основанным на непосредственных наблюдениях и впечатлениях, которые должны быть в таком случае проверены следствием. Что на самом деле имеет место — первое или второе, — судья может выяснить только при том условии, если он опросил обвиняемого об «источнике его знания». Это, собственно, сохраняет свою силу и в том случае, когда показания обвиняемого могут ослабить предположение о его виновности. И в этом случае нужно установить, на чем основаны показания обвиняемого: являются ли они одним лишь продуктом конструктивного, интеллектуально-психологического акта или же в основе их лежат определенные внешние восприятия?
При этом необходимо допросить обвиняемого нс только о его восприятиях, но также и о том, каким образом и при каких обстоятельствах они возникли. Ибо, как известно, наши восприятия обладают различной ценностью и различной мерой реального содержания; это зависит от того, был ли субъект восприятия усталым или внимательным, возбужденным или спокойным, равнодушным или заинтересованным, поверхностным или сосредоточенным, воспринимал ли он как сведущий наблюдатель или без особого понимания. Таким образом, необходимо, насколько возможно, проследить историю тех сведений, которые сообщает обвиняемый, так как не то, что он говорит, а источники его знания одни только и дают судье надежный материал для обсуждения.
Кроме того, психология допроса обвиняемого осложняется еще одним моментом. Дело в том, что наш процесс рассматривает обвиняемого, как свидетеля, который имеет право отказаться от дачи показаний. При каждом допросе его следует спрашивать: «имеет ли он сделать какие-либо возражения против обвинения». Показание обвиняемого, таким образом, является его правом, отнюдь не обязанностью. Прежде всего надо иметь в виду, что даже самый тяжкий преступник является правовой личностью и самостоятельной стороной в процессе. Он может давать показания, но не обязан это делать, и государство не имеет никакого права принуждать его содействовать изобличению его вины.
Разумеется, нельзя ставить выполнение задач уголовного процесса в зависимость только от доброй воли обвиняемого. Карательная власть государства должна пробить себе дорогу вопреки его воле. Если, поэтому, обвиняемый отказывается давать показания, это приводит лишь к тому, что вина его доказывается без его содействия, помимо и вопреки его желанию. В этом случае остаются только не принятыми во внимание те моменты, которые связаны с его личностью и только при его посредстве и могут быть освещены. Остаются неучтенными моменты, говорящие в его пользу, на которые только он и мог бы указать; кроме того, его молчание само, но себе может быть истолковано как улика против него же.
По указанным причинам это право может в общем оказаться только вредным для того обвиняемого, который на самом деле невиновен. Он мог бы доказать свое [алиби] теперь же только говорит направленная против него сила уличающих показаний, к которым присоединяется еще новая улика, выражающаяся в его молчании: он де не может опровергнуть основания к подозрению. Таким образом, в общем, как будто бы никаких мотивов пег у невиновного, которые бы послужили объяснением его молчания.
Конечно, и здесь бывают исключения, о которых должен помнить чуткий и проницательный судья. Также у невиновного в преступлении молчание может иметь свои причины. Здесь может иметь место слабоумие, в иных случаях — полное душевное расстройство, когда обвиняемый не понимает серьезности обвинения и последствий своего молчания. Кроме того, встречается — особенно у некультурных людей, но при определенных условиях и у очень развитых и необычайно чувствительных людей — экзальтация «оскорбленной невинности», вызывающая состояние, подобное столбняку, которое, так сказать, «герметически закупоривает» способность к речи и совершенно связывает защиту. Бывают также случаи, когда обвиняемый мог бы доказать свою невиновность, только сообщив такие сведения, которые тяжело отразились бы на положении его близких или хотя бы только скомпрометировали их, например, когда доказывание им своего [алиби] могло бы раскрыть нарушение супружеской верности или другое какое-либо интимное отношение. Таким образом, и здесь причины молчания могут порою лежать гораздо глубже и оказаться гораздо более сложными, чем это представляется на первый взгляд.
Редко обстоятельства складываются так, чтобы углубленным психологическим анализом нельзя было извлечь из личности обвиняемого, из его биографии, из его мотивов таких данных, в свете которых его преступление выступало бы менее тяжким. Если обвиняемый вообще не дает ответа ни на один вопрос, то все соображения, говорящие в пользу меньшей вины или меньшей наказуемости, выпадают из круга обсуждения судьи. Если бы обвиняемый рассказал о себе, о тех обстоятельствах, которые толкали его на преступление, о тех причинах, которые постепенно его сводили с правильного пути и определяли его поступки, то в связи с этим могла бы обнаружиться значительная доля вины других лиц и общества, что при молчании подсудимого остается неизвестным и неучтенным при определении вины и наказания. Таким образом, здесь имеет место то же самое, что и в случае невиновности обвиняемого. Молчание обвиняемого о себе обычно не приносит ему никакой пользы.
Однако гораздо опаснее бывает положение, когда со стороны судьи проявляются ослепляющие его человеческие чувства неприязни и предубеждения. Обстоятельства и последствия преступления вызывают такую массу горя и возбуждения, от которых судья не может остаться в стороне. К сожалению, это бывает не только с несведущими судьями, как это легко думают профессиональные судьи. Бывают также случаи, когда суд безнадежно чужд и враждебен тому мировоззрению и тем мотивам, которые толкнули обвиняемого на преступление: фанатизм одного сталкивается со столь же некритическим и упорным фанатизмом другого. В этом случае, действительно, каждое слово, сказанное обвиняемым в свою защиту, может лишь усилить отягчающие моменты и возбуждение против него. Молчание, и только молчание, при таких условиях — единственная оборонительная тактика, которая предотвращает худшее. Все же э го редкие исключения.
Однако признанием того, что в настоящее время судье запрещаются всякого рода принудительные приемы, имеющие целью добиться от обвиняемого показаний, разрешаетс я лишь одна часть психологической проблемы. Дело в том, что обвиняемые обыкновенно ничего не знают о своем праве отказываться от показаний, между тем как, в общем, у большинства из них — будь они виновны или невиновны — можно констатировать потребность защищаться, высказываться по поводу предъявленных им источников подозрения и выдвигать те обстоятельства, которые говорят в их пользу. Во всяком случае мне представляется правильным — в противоположность господствующей практике — если обвиняемого спрашивают словами закона: «желает ли он что-либо возразить против обвинения», причем судья ставит открыто ударение на слове «желает». Если обвиняемый заявляет, что он не желает давать показания, то судья должен, не показывая никаких признаков нерасположения к нему, на этом успокоиться и не делать никаких попыток отклонить его от намерения. В этом случае следует прекратить допрос и только после рассмотрения судом каждого отдельного доказательства следует снова спросить его, не имеет ли он дать какое-либо разъяснение. Но и в этих случаях судья должен с уважением относиться к прямо выраженному или обнаруженному конклюдентными действиями (качанием головы, молчанием) желанию обвиняемого отказаться от дачи показаний.
С другой стороны, было бы неправильно в случае колебания обвиняемого, говорить ли ему или молчать, советовать ему молчать. Ибо молчание в большинстве случаев действует как отягчающий фактор: такова именно психология, фактически преобладающая у германского судьи и наблюдающаяся в большинстве случаев, как это было уже указано. Судья, однако, должен, также согласно принципам обвинительного процесса, помочь обвиняемому обнаружить все обстоятельства, смягчающие его вину: он не должен, поэтому, давать обвиняемому никаких советов, которые бы могли ухудшить его положение.
В качестве вывода из развитых выше мыслей следует, наконец, выдвинуть третье правило психологии допроса: оно заключается в предостережении от слепого недоверия к обороняющемуся обвиняемому и от слепого же доверия к его сознанию.
Мы знаем, что только путем процесса предстоит еще установить вину обвиняемого: последний еще невиновен и, может быть, он вообще невиновен, несмотря на имеющиеся улики. Даже такие обвинения, которые, в условиях нашего расчлененного и полного недостатков предварительного производства, представляются совершенно обоснованными, в суде могут разлететься подобно карточному домику.
Обычно председательствующий к началу судебного следствия — особенно, когда оно подготовлено тщательным предварительным следствием и умно составленным обвинительным актом, — имеет определенное убеждение, заключающееся в том, что если собранные в течение предварительного производства данные будут подтверждены судебным следствием, то обвиняемый должен быть виновен. Поскольку судья добросовестно выполняет свои обязанности, он не обнаружит этого своего убеждения, хотя, к сожалению, очень часто имеет место противоположное. Но он может лишь с помощью весьма больших усилий над собою противостоять тому давлению, которое производит на его психику сложившееся уже раньше убеждение.
При таком основном предположении легко случается, что судья рассматривает поведение обвиняемого, как подтверждающее во всех отношениях его первоначальное предположение: проявляет обвиняемый беспокойство — это означает, по мнению судьи, что он понимает всю серьезность своего положения и обнаруживает свою нечистую совесть; если он ведет себя непринужденно — эго называется дерзостью. Забыл обвиняемый какое-либо незначительное обстоятельство — это значит, что он запирается; если же он находит, что ответить на все вопросы — это значит, что он действует по предварительно обдуманному плану защиты с целью обмануть судью.
Как можно избежать подобных выводов, опасность которых для судебного решения очевидна? Прежде всего, таким подходом судьи к обвиняемому, который был бы свободен от всякой предвзятости — насколько это возможно — и в особенности воздержанием от всякого заранее готового, неблагоприятного для обвиняемого, суждения. Из этого вытекает, что судья, с одной стороны, не должен оценивать показания обвиняемого, отрицающего свою вину, и показания свидетелей, клонящиеся в его пользу, как презумитивно ложные, а с другой стороны, не должен рассматривать показания свидетелей, служащие уликой против обвиняемого, как презумитивно правильные. Ибо в этом сказывается ограниченная примитивная психология, которая может вести к ошибкам. Прежде всего потому, что часто только случай решает вопрос, не сидел ли на скамье подсудимых подлинный свидетель и, напротив того, не выступал ли действительный преступник в роли свидетеля.
Необходимость проявить особую осторожность представляется также и в том случае, если обвиняемый уже раньше подвергался наказанию или если он вообще человек дурной репутации.
Улика не становится сильнее от того, что обвиняемый уже раньше совершил подобное же преступление. Кто знает — может быть, уже и тогда ему была причинена несправедливость? Но если даже этого не было, разве распознать вора-рецидивиста легче, чем вора еще неопороченного? Разве здесь не приходится в одинаковой точно мере опасаться непрочности наших восприятий, усиленной к тому же тем недоверием, которое мы питаем уже к определенным людям, — примеси искажающей фантазии, ненадежности нашей памяти, недостаточной обоснованности наших умозаключений? Не должен ли, поэтому, судья вменять себе в обязанность, именно в отношении обвиняемых, которых особенно обличает их предыдущая жизнь, проявлять скептицизм и критическое отношение к доказательствам, и здесь именно в еще большей степени, чем в других случаях, учитывать возможность ошибок и неправильных заключений из обличительного материала? Для доказательства преступления, именно того, что обвиняемый выполнил определенный его состав, вывод из его репутации — дурной или хорошей — является источником темным и опасным.
Противоположное этому слепому недоверию наблюдается в случае сознания обвиняемого. Теоретически мы вполне уяснили себе в настоящее время, что мы не стоим уже на точке зрения прежнего процесса. Сознание обвиняемого (confessio) не является больше «царицей доказательств»: в настоящее время, также и при отсутствии сознания обвиняемого, может быть вынесен обвинительный приговор, и, кроме того, сознание обвиняемого, как и всякое другое доказательство, должно быть проверено со стороны его достоверности. Но здесь речь идет о таких вопросах, в которых опыт и теоретические учения судебной психологии лишь медленно и спорадически начинают оказывать свое влияние на наших современных судей. Психология удобства и соблазнительность попытки вырвать у обвиняемого сознание, когда это важно, действуют в противовес указанному влиянию и ведут к тому, что ошибки, практиковавшиеся столетиями, нелегко исчезают.
История ошибок человеческого правосудия показывает нам с поразительной убедительностью, какие несчастия могут возникать благодаря вырванному у обвиняемого сознанию. Суд обычно ничего не знает о приемах допроса в ходе предварительного расследования, он читает лишь о сознании обвиняемого, не зная, каким образом оно было добыто в тиши подследственной тюрьмы или полицейского арестного дома. Если само по себе всякое признание обвиняемого способно внушить судье веру в виновность подозреваемого, то вера в правильность его признания еще более укрепляется, коль скоро и другие улики ведут в том же направлении. Если факт сознания уже налицо, то бесконечно трудно этот факт уничтожить посредством взятия признания обратно: обвиняемым верят, когда они принимают на себя вину, им не верят, когда они заявляют о своей невиновности, в особенности, когда они уже однажды сделали признание.
Из указанных случаев следует сделать два вывода. Судья, разбирающий дело, всегда должен ознакомиться с тем, каким образом обвиняемый пришел к признанию своей вины. Тем же должностным лицам, перед которыми это признание впервые делается, должно быть вменено в обязанность составлять подробный протокол, в котором, что особенно важно, должен быть дан точнейший отчет о способе допроса. Но при этом всякое сознание обвиняемого должно быть точно детализировано', обвиняемого, который сознается перед полицией или следователем, следует побудить к возможно более выразительному рассказу о приготовлениях к преступлению, о том, что происходило до, во время и после преступления. Этим создается возможность добросовестно проверить степень заслуживаемого сознанием обвиняемого доверия и предотвратить последующее неправильное отречение от сделанного признания. Уголовный процесс должен дать гражданину защиту против злоупотреблений и ошибок государственной власти.
Я. А. Канторович
- [1] Без гнева и пристрастия, без предвзятого мнения (лат.).