Творчество У. Фолкнера
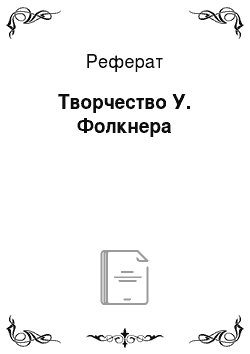
Если в «Шуме и ярости» доминирует лирическая стихия, рождающая напряжение между движением и контрдвижением, «книгой» и «контркиигой» (образ X. Л. Борхеса), то «Авессалом, Авессалом/», несмотря на крайнюю повествовательную сложность, является прежде всего идеологическим романом. В центре произведения, основанного на скрещении множества повествовательных линий и сюжетов, — судьба человека… Читать ещё >
Творчество У. Фолкнера (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Оригинальность Фолкнера, его биография. Мир Юга США и «закат Запада» в прозе Фолкнера. Типология фолкнеровского творчества, особенности новеллистики («Роза для Эмили») и романистики. Роман «Шум и ярость»: движение от «поэзии» к «прозе», конфликт точек зрения как символическое поле этого произведения. Роман «Авессалом, Авессалом!»: попытка реконструкции истории Юга, образ Сатпепа. Новелла «Медведь»: мотивы инициации, греха, искупления исторической вины.
Художественная манера Уильяма Фолкнера (William [Harrison Faulkner, 1897—1962) в определенной мере примиряет крайности — образцовость Хемингуэя и романтику Вулфа. Этот писатель постоянно варьировал свою манеру письма, отдав должное едва ли не всем основным стилям конца XIX — первой трети XX в. Поэтому от фолкнеровской прозы, всегда тщательно проработанной и придирчиво взвешенной на весах писательского рацио, можно перебросить мостик к авторам, столь разным, как Ф. Достоевский («Братья Карамазовы») и Т. Харди (романы «уэссекского цикла»), Дж. Конрад («Тайный агент») и Дж. Джойс («Улисс»).
Яркостью и разнообразием своего художественного языка Фолкнер обязан как устной повествовательной традиции Юга США с ее колоритным юмором, тяготением к библейской возвышенности стиля и к готике, так и интенсивному кругу чтения. Помимо Библии (в особенности Ветхий Завет) писателем, по собственному признанию, регулярно перечитывались «Илиада» и «Одиссея», весь Шекспир, «Дон Кихот», «Моби Дик», романы Достоевского и Конрада. Но это нс мешает лучшим романам Фолкнера быть глубоко оригинальными.
Важно отметить, что автор «Шума и ярости» — потомственный южанин и впитал в себя (в отличие от Вулфа) предание об аристократической плантаторской культуре, унесенной ветром Гражданской войны. Фолкнер не мифологизирует эту канувшую в Лету цивилизацию, он знает ее социальные и человеческие слабости, а также исторические «грехи», которые привели южан, этот своего рода ветхозаветный народ, к вавилонскому пленению и рассеянию. Тем не менее Юг в отличие от Севера (со всем его миром безродных чванливых янки, банков, безналичного расчета — словом, «модернизма») Фолкнеру во всех отношениях ближе. Поэтому для него 1861-й год примерно то же самое, что в контексте русской истории 1917;й. Так появилась созданная воображением этого южанина вселенная — округ Йокнапатофа в штате Миссисипи, где проживают на 2400 квадратных милях, переходя из произведения в произведение, точно сосчитанные им 15 611 человек, и среди них — столь колоритные личности, как полковник Сарторис («Сарторис») и Квентин Компсон («Шум и ярость»), Эдди Бандрен («Когда я умираю») и Эмили Грирсон (рассказ «Роза для Эмили»), Лукас Бичем («Осквернитель праха») и Айзек Маккаслин («Сойди, Моисей»), Флем Сноупс («Деревушка») и гангстер Лупоглазый («Святилище»). Воссоздавая приметы старого Юга и, безусловно, зная цену ушедшего, Фолкнер далек от любования прошлым в духе писателей послереволюционной русской эмиграции (например, И. Шмелева). Если его и сравнивать с русскими писателями, то рядом с ним помимо Достоевского можно условно поставить автора «Мертвых душ» как творца целой галереи незабвенных образов, в переливчатом свете богатейшего гоголевского языка одинаково реальных и нереальных, трагических и комических. Вместе с тем Фолкнер, отдав должное преданиям старины и пытаясь ответить на вопрос, в силу какого рока все-таки пал Юг и отчего это проклятие продолжает свое действие в XX в., в общем и целом не склонен к его христианской оценке, а если и становится идеологом, то придерживается (книга рассказов «Сойди, Моисей», 1942) точки зрения, близкой руссоизму, а также писателям-натуралистам (Э. Золя).
Своеобразие написанного Фолкнером в том, что на материале регионального прошлого он ставит проблему современного человека, мучительно переживающего «закат Запада», осознанные или неосознанные сложности в историческом самоопределении. Страх времени дорастает в фолкнеровских произведениях до навязчивой мании, сопровождается насилием, исканием смерти, влечением ко всему противоестественному (инцест, содомия, убийство ближайших родственников), ко взрывчатому, в контексте реалий Юга начала века, смешению белой и черной крови. Находясь в плену у времени, материи у Фолкнера властной, проникнутой эротическими импульсами, являющейся полем запутанных семейных и внутрисемейных конфликтов — противоборства матерей и отцов, отцов и сыновей, сыновей и возлюбленных, фолкнеровские персонажи и хотели бы противопоставить настоящее прошлому, но оно от них, то «идиотов», то «безумцев» и «честолюбцев», то «преступников», в конечном счете ускользает. Изощренность психологизма, реализованного средствами «потока сознания», системы курсивов, оригинально обработанных ветхозаветных образов и сюжетов, делает прозу Фолкнера непростой для чтения. Вместе с «Улиссом» и «К маяку» В. Вулф фолкнеровские романы (и прежде всего «Шум и ярость») стали образцами англоязычного литературного «модерна», той точкой литературной эволюции, где развести в стороны романтизм, натурализм и символизм, а также традицию бытописательной прозы и поэтику интеллектуального «романа идей», драйзеровское и джеймсовское начало (если говорить о литературе США) не представляется возможным. Как и в случае с Э. По, мировая слава пришла к Фолкнеру через Францию, что, пожалуй, закономерно. В большей степени, чем другие американские писатели, он пропустил сквозь себя проблематику «конца века», «декаданса», «пола и характера». Ж.-П. Сартр посвятил ему статью «Время в „Шуме и ярости“ Фолкнера» (1939).
Фолкнер родился в городке Нью-Олбани, штат Миссисипи. Его дед, полковник Фолкнер, был героем Гражданской войны и известным южным романистом. Отец будущего Нобелевского лауреата (1950) в течение долгого срока занимал должность казначея университета штата в Оксфорде, куда его семья переехала в 1902 г. Фолкнера следует считать самоучкой — он не кончил ни школы (бросив ее в 11-м классе), ни отцовского учебного заведения, хотя и посещал там занятия в течение года. Мечтая попасть на войну в Европе, он, как заявлял позднее, стал курсантом британских ВВС в Торонто (1918), но мечта из-за перемирия не сбылась, и Фолкнер после исключения из университета из-за слабого знания английской литературы то служил в Оксфорде на почте, то отправился в Ныо-Йорк, где работал в книжном магазине. Поначалу он хотел стать поэтом, находился под сильным влиянием французских символистов (Верлен, Малларме, Ж. Лафорг), Суинберна, Т. С. Элиота и опубликовал сборник профессионально выполненных, но вторичных стихов («Мраморный фавн», 1924). В 1925 г. Фолкнер познакомился в Новом Орлеане с III. Андерсоном и буквально на пари с ним написал свой первый роман «Солдатская награда» (1926), обыгрывающий проблематику «потерянного поколения». В том же году он побывал в Париже. Первым же произведением, где выведены округ Йокнапатофа и его столица Джефферсон, стал роман «Сарторис» (Sartoris, 1929), прошедший значительную издательскую переработку. Первоначальное его название — «Флаги в пыли».
Всего Фолкнер, редко покидавший родные края и методично выпускавший том за томом, опубликовал девятнадцать романов. В их число он включал книгу новелл (или роман в новеллах?) «Сойди, Моисей» и четыре сборника рассказов. Написанное Фолкнером можно условно разделить на две основные группы произведений. К первой из них, собственно и принесшей этому писателю славу литературного виртуоза, принадлежат весьма сложные ио технике повествования романы — например, «Шум и ярость» (The Sound and the Fury, 1929), «Когда я умираю» (As I Lay Dying, 1930), «Авессалом, Авессалом!» (Absalom, Absalom!, 1936), а также романизированная новелла «Медведь» (The Bear, из книги «Сойди, Моисей», Go Down, Moses, 1942). Все они посвящены загадке истории и — шире — времени. Ключ к ней в «предыстории», в легендарном прошлом рухнувшего, словно древний Израиль, плантаторского Юга. Пытаясь если не разгадать ее, то хотя бы составить примерное представление о тех запутанных законах крови, почвы, бессознательной памяти, которые в силу некоего рокового предопределения продолжают влиять на настоящее, фолкнеровские южане первой трети XX в. не только не освобождаются от наваждения прошлого, но чаще всего оказываются его жертвами.
Ко второй группе лучших фолкнеровских произведений принадлежат романы «Свет в августе» (Light in August, 1932), «Деревушка» (The Hamlet, 1940), «Осквернитель праха» (Intruder in the Dust, 1948), а также большинство новелл книги «Сойди, Моисей». Здесь проблема южного «преступления и наказания» предстает преимущественно в расовом и натурфилософском аспектах. Эти произведения, тяготеющие к жанру психологического «романа идей», уже не столь сложны по поэтике. В них намечена тема искупления «греха» прошлого, сформулированная Фолкнером в Нобелевской речи (1950) следующим образом: «…человек не просто выстоит, но и преодолеет трудности… ибо он наделен душой — духом, способным к состраданию, самопожертвованию, терпению». Некоторые из произведений Фолкнера, человека, склонного к мистификациям, и литератора, имеющего вкус к пародии и самонародии, составляют особую группу. Таковы, например, роман «Святилище» (Sanctuary, 1931), гротескно обыгрывающий штампы гангстерского романа (похищение чернокожим бутлегером и убийцей Лупоглазым восемнадцатилетней красавицы Темпл Дрейк, которая, как выяснилось, весьма далека от идеала южной «прекрасной дамы»), или новелла «Роза для Эмили» (A Rose for Emily, 1931).
Написанная по мотивам Диккенса (образ мисс Льюишем из романа «Большие ожидания»), Э. По (противоестественные склонности многих его персонажей), Флобера («Простая душа»), она повествует об Эмили Грирсон, всю жизнь находившейся «в тени» своего отца, внушившего ей сословные представления южной знати о матримониальных «табу». Из-за этого расстраивается ее брак с северянином Хомером Бэроном. Точнее, Бэрон решает сбежать от женщины, неуловимо напоминающей своего отца, личность негибкую и авторитарную, но попадает в капкан «крепкой как смерть» любви. Ради предотвращения побега Эмили отравляет своего возлюбленного и помещает его труп в жениховском костюме на втором этаже своего особняка, чтобы время от времени наведываться туда и любоваться своим «суженым». С одной стороны, рассказ приближается к пародии на южную «готику», к вариации на тему «цветов зла» южного декаданса, представленной почти что в фрейдовском ключе. С другой — к трагической истории о колоритной личности, которая постепенно становится для жителей Джефферсона олицетворением прошлого, уже не кошмара (связанного с истуканом-родителем и отравленным франтом-женихом), а живой поэзии, мифа старины, резко противопоставленных настоящему — «модернизму» бензоколонок, тротуаров, налоговой системы. Именно об этой Эмили, подлинном genius loci, целый хор голосов (повествование ведется от лица «мы»), или коллективное бессознательное нескольких поколений южан, — готов сложить сагу. Этой «розой» (ни о какой конкретной розе в рассказе не говорится), или данью невольного уважения, собственно, и является рассказ, но воле автора причудливо балансирующий на грани серьезного и несерьезного, трагического и комического, китча и искусства прозы.
Одно из ключевых произведений творчества Фолкнера — роман «Шум и ярость». Чтобы оценить не только его проблематику, но и параметры авторского мастерства, необходимо учитывать важнейшее событие фолкнеровской творческой биографии в 1920;е гг. — переход от символистской поэзии к прозе. В понимании большинства символистов и постсимволистов граница между прозой и поэзией довольно условна. Главное не то, о чем пишется стихотворение или роман, а как они пишутся, выстраиваются — как конкретное артистическое переживание из глубинного явления, имеющего безобразную, довербальную, но вместе с тем ни на что не похожую личную ритмическую природу, перевоплощается в плоть и кровь готовых форм языка, которые сопротивляются незнакомой «музыке», но затем при надлежащих усилиях поэта вступают с ней во взаимодействие и приобретают новый — звуковой и метафорический — силуэт. Французский поэт А. де Ренье в связи с этим говорил о «диссоциации идей» и (как мы догадываемся) о последующем их новом обретении. Т. С. Элиоту ближе образ «объективного коррелята» — такой косвенной презентации исходного лирического откровения, распознав которое, читатель, уже не профан, а посвященный, способен пройти строка за строкой весь путь его вербализации. Этот путь и есть стихотворение, музыка, замкнутая в клетку пространственного измерения, замещающая сырое «чувство» проработанная эмоция (эссе «Гамлет и его проблемы», 1919). Э. Паунд ставил вопрос о творческом усилии лирического рода. Эта энергия «размывает контуры, перегруппировывает, снова сводит воедино». Речь, иначе говоря, шла о тексте как эмоциональном и интеллектуальном единстве, чыо структуру создает ритм, постепенно обрастающий словесной плотью. Любое произведение хранит в себе как эмоциональное ядро смысла, источник вдохновения, так и ритмический рисунок его постепенной рационализации.
«Шум и ярость» представляет собой именно столкновение «шума», музыки поэзии с писательской «яростью», жаждущей это дионисическое начало зафиксировать, сделать пространственным. Источником творческого порыва в этом четырехчастном романе выступает женское начало, Кэдди Компсон, в чем признавался сам Фолкнер, рассказывая о «девочке с запачканными сзади трусиками, которая забралась на грушу, откуда она могла подсмотреть через окно, как идут приготовления к похоронам, и поведать своим братьям внизу о том, что происходит в доме». Кэдди в романе и более чем реальна (девочка; чувственная девушка, сошедшаяся с одним из местных ловеласов, а затем, чтобы скрыть позор, срочно выданная замуж; женщина, изгнанная из семьи с ребенком на руках), и нереальна, как нереальны в невинном детском восприятии время и смерть. Впрочем, правильнее сказать, что самой Кэдди в романе нет. Есть же в нем четыре разновременные точки зрения на ее поступки (7 апреля 1928 г., 2 июня 1910 г., 6 апреля 1928 г., 8 апреля 1928 г.) и четыре техники повествования, этим ракурсам соответствующие. 6, 7 и 8 апреля приходятся на Страстную Пятницу, Страстную Субботу и Пасху; 2 июня 1910 г., отчаявшись от неразделенной любви к сестре, покончил с собой в далеком от Джефферсона Гарварде брат Кэдди, Квентин Компсон.
Первые три части романа, выполненные в технике «потока сознания» и внутреннего монолога, изображают мир столь разных людей, как слабоумный тридцатитрехлетний Бенджи, студентинтеллектуал Квентин, циник и прагматик Джейсон, которому приходится после смерти отца, приведшего некогда славный аристократический род к разорению, содержать мать, слабоумного брата, Квентину (незаконнорожденную дочь Кэдди), черную прислугу. Для первого Кэдди — самое дорогое существо, носитель «объективных» времени и пространства и даже сам язык, для второго — субъект любви-ненависти, олицетворение трагической утраты, для третьего — главная причина собственных житейских неудач, а также денежного дохода (он присваивает себе деньги, присылаемые для Квентины живущей в Мемфисе матерью). Четвертая точка зрения как бы безоценочна, «безлична». Каждая из частей фолкнеровского текста — эго и новый штрих в некоем коллективном портрете прошлого, где все, в конечном счете, находится на своих местах, и само время в движении, выталкивающее прошлое в настоящее и тем самым его постоянно переиначивающее. Наличие движения и контрдвижения делает Кэдди Компсон носительницей лирического неизвестного в романе, тем таинственным женским началом, где, как сказали бы герои Достоевского, «все концы в воду спрятаны», — где сходятся вместе натуралистический роман о падшей женщине и символистское тристанизольдовское томление; обсуждение проблем пола, материнского начала, и притча на тему любви, греха, краха семьи, целого мира; христианский образ искупления первородного греха, Воскресения Христова и дискурс «Шекспира без конца» (Гёте). Последнее особо близко символистам. Идея творческого порыва как сердцевины вечного становления отражена в названии романа, обыгрывающем знаменитые слова из «Макбета». Соответственно, читателя «Шума и ярости» можно сравнить с пленником платоновской пещеры. Находясь в гуще отражений и отражения отражений, ему крайне трудно прорваться от «тени» к «свету» и от «явления», «феномена» к «вещи в себе».
Тем не менее «Шум и ярость» — весьма цельное произведение. Можно сказать, что, но своему внутреннему напряжению оно близко символистской прозе («Записки Мальте Лауридса Бригге», «Петербург», «Улисс», «Доктор Живаго»), писавшейся в расчете на предельное расширение границ поэзии и поиск в ней, этой универсальной и всепроникающей стихии, ритма, подлинности бытия. Фолкнеру, думается, понятна, но в то же время не родственна безысходность поэмы С. Малларме «Бросок костей никогда не упразднит случая». Вроде бы случайная последовательность частей, равно как и разобщенность, одиночество внутренних миров, представленных в «Шуме и ярости», не мешает роману быть повествовательно вольным, но лирически предопределенным, нацеленным на оправдание поэтического Целого. Рассмотрим под этим углом зрения каждую из его частей.
Назначение первой части «Шума и ярости» весьма ответственно, поскольку Фолкнер взялся за структурирование того, что заведомо сумбурно. Однако в ней выведено сознание не только «мученика» (Джейсон намерен сдать идиота в сумасшедший дом; Бенджи кастрирован), но и «поэта» — самой стихии поэзии, слагающей на особом языке свою песнь любви. Она содержит такие образы, как.
«слышу крышу», «она пахнет деревьями», скоросшивает тринадцать разновременных планов под знаком вечного детства, невинности, чистоты. Это видение Кэдди наиболее лирично и является самым надежным свидетельством о детстве младших Комнсонов. Бенджи не способен к абстрактному мышлению, он может разбить лоб об лед, приняв его за воду, но это не мешает ему знать наиглавнейшее. Он «чует» смерть (бабушки, Квентина, отца) и роковой ход времени, материализовавшийся в неестественном запахе духов Кэдди, красном галстуке ее ухажера. Уход Кэдди из семьи лишает Бенджи системы координат, которая связывает его через сестру, заменившую ему мать, с окружающим миром. Выражая свое отношение к падению дома Компсонов, Бенджи ревет, хнычет, мычит, лепечет. Итак, функция первой части — придать исходную форму материалу, чтобы в последующих частях подвергнуть его дальнейшей обработке. Бенджи — сам дионисийский исток поэзии, Орфей, подлежащий растерзанию. Он существует постольку, поскольку чувствует и страдает, переживая трагедию в чистом виде. Его скорбь и ужас ничем не облегчаются, не разрешаются в языке. Сам Фолкнер, выступая в 1950;е гг. перед студентами, сравнил сознание идиота с «зеркалом, в котором не отражается ничего, кроме истины».
Роль второй части «Шума и ярости» иная. По контрасту с Бенджи, Квентин Компсон — воплощение порядка, интеллекта, иронии. Он гамлетовская фигура, выясняющая отношения с отцом и матерью, а также намеренная постичь, в чем именно южное время «вышло из колеи» и какие личные усилия требуются для его искупления. В написании главы «от противного» просматривается очевидная поэтическая стратегия. Дионисическое и символическое свойство первой части должно быть уравновешено аполлонизмом второй, а интуитивно схваченное — отбором и анализом. Сменив в хоре голосов одну драматическую маску на другую, Фолкнер поворачивает свою «тайну» новой гранью, начинает распознавать ее в соотношении частей и пока еще гипотетического целого…
Главный мотив главы — «тень». Тень — это и непростые отношения с отцом, и собственное «сердце тьмы», и упрямый ход астрономического времени, от которого Квентин любой ценой хотел бы обособиться. В отчаянии он даже разбивает часы (подарок отца), но те продолжают тикать и без стрелок. Страстно влюбленный в сестру, Квентин не способен смириться с ее утратой и бросается с моста в реку через неделю после ее вынужденной свадьбы. Таким образом, он берет на себя вину за беременность Кэдди. Лента его сознания раскручивается практически до того момента, когда этот студент Гарварда кончает с собой.
Квентину в 1910 г. двадцать лет (Кэдди — 19, Джейсону — 16, Бенджи — 15), он надежда пришедшего в упадок рода. Университетское образование — мечта матери. Ради ее осуществления продается квадратная миля земли в центре Джефферсона, что лишает всех остальных детей наследства. Квентин — сноб, «аристократ», гордец. В его мыслях — фрагменты строк из Нового Завета, Шекспира, Шелли, Хаусмена, Элиота, он знаком с схоластикой, новейшей психологией, занимается в драматическом кружке. Композиционно глава построена на изощренном споре «я» и «не-я» одного и того же лица, в котором испытывается на прочность уже принятое решение о самоубийстве. В принципе, оно характерно для отчаявшегося романтика. Поразительно, сколь точно Квентин вторит логике поступков Чаттертона в трагедии А. де Виньи. Речь идет о «болезни» чисто нравственного свойства (как об этом говорит Квакер у Виньи). Это болезнь гордости, поразившей душу, не искушенную в жизни, полную страсти к красоте и правде, но встречающую повсеместно их попрание. Так делаются возможными ненависть к жизни, искание смерти («возвращение билета Богу») и — одновременно — сравнение себя с Христом, способным искупить все грехи мира. Подобно Чаттертону, Квентин кончает с собой, чтобы или на чисто личном уровне упразднить время, или хотя бы в аду навсегда с сестрой «остаться вдвоем». Психологически Компсон, напоминающий также некоторых персонажей Достоевского, кажется себе неуязвимым. «Времени не существует, пока не состоялось „было“», — словно утверждает он, переиначивая апостола Павла («Пока нет закона, нет и преступления»).
Третья часть «Шума и ярости» продолжает очуждение исходного романного образа (девочка на дереве). Она демонстрирует читателю Джейсона как последнего из дееспособных Комисонов. Но на нем этот «ветхозаветный» род прервется. С одной стороны, Джейсон — тип крайне отталкивающий, воплощение зла, жадности, похоти, расовой нетерпимости, но с другой — не менее трагическая фигура, чем его братья. И Джейсона несет неумолимая река времени, с которой он по-компсоновски тщетно пытается бороться. Рядом с ним нет ненавистной Кэдди, но «прошлое» в силу трагической иронии повторяется, заставляет Джейсона жить под одной крышей с ее дочерью Квентиной, названной так в честь покончившего с собой дяди. Джейсон — подобие трагикомического злодея (здесь уже вспоминаются диккенсовские персонажи), фарисей, считающий себя праведником. Он боится продешевить на стоимости «мертвых душ», но вместе с тем проигрывает немалые деньги на бирже. Намеренно рассеивая хаос первых двух глав, Фолкнер не только расцвечивает трагедию блестками юмора, но и делает роман более беллетристичным, заполняет повествовательные пробелы. Кэдди впервые предстает перед читателем без всякого романтического флера. Джейсон, по существу, призван привести трагедию к своей противоположности, к серии заурядных бытовых фактов: выживший из ума отец, хнычущая мать, кретин-брат, потаскушка-сестра…
Уже в этой точке роман мог бы завершиться и являл бы собой серию фрагментов на тему «шагреневой кожи», фатального разлада между мечтой и действительностью, искусством и жизнью. Если бы так произошло, то Фолкнер, несмотря на некоторую необычность стиля, не вышел бы за рамки романтической аллегории. Однако сколь ни притягивает «прекрасная дама» трех братьев и самого Фолкнера (некое глубоко личное переживание), автору в четвертой части, по-своему столь же субъективной, как и все остальные, важнее иное. Речь идет не о раскрытии «тайны» любви, того, о чем именно намеревался сказать автор, а об искусстве прозы, оставляющем тайну (символ) тайной, помещающем живую воду вербальной активности в надежный сосуд. То есть Фолкнер отвечает прежде всего за наличие этого структурного принципа, но в то же время как бы не вполне знает, что в нем. Поэтому четвертая часть не может считаться идеологической программой, которую одни критики готовы связать с выпукло представленной в ней фигурой негритянки Дилси (народные мудрость, стойкость, вера), а другие — с ее «объективной» (т.е. программно безличной) манерой.
Другими словами, последняя часть «Шума и ярости» свидетельствует о возвращении исходного стихийного чувства (или «легенды», в фолкнеровском определении) к самому себе в виде обогащенной, классически просмотренной эмоции. Это круговое движение говорит о контроле над своим вдохновением, которое Фолкнер методом утверждений и отрицаний сумел укротить. В виде букета вариаций оно стало целым эпосом лирической мысли, уже не только чисто временным (как в первых двух частях), но и пространственным принципом. Четвертая часть «Шума и ярости» — эквивалент некоего волнореза, той границы, у которой, по выражению Б. Пастернака, «задуманное идеально овеществляется». Это явление парадоксально настолько, насколько парадоксально приложение к «Доктору Живаго» стихов, того единственного, в чем пастернаковский персонаж вопреки жестокости революционных лет, утрате любимой, собственным слабостям, одинокой смерти оказывается бессмертным, до конца реальным.
Свой «портрет художника в юности» Фолкнер сравнивал с «вазой» («Ода греческой вазе» Китса — одно из любимых его стихотворений; оно, отметим, посвящено «не знающей увяданья деве»). Подобное сравнение понятно. Заключительная глава оберегает авторский лирический порыв от дурной бесконечности. «Все на своих назначенных местах» — этот финальный аккорд «Шума и ярости» помимо всего прочего сообщает о важнейшем творческом факте. Вопреки «поражению», той тщете слов, с которой при вербализации интуиции сталкивается каждый подлинный писатель, роман состоялся — отделился от автора, стал alter ego, «жизнью». Фолкнер в 1933 г. прокомментировал случившееся так: «Когда я кончил «Шум и ярость», мне стало ясно, что на свете и впрямь существует нечто, к чему истертое слово «искусство» не только приложимо, но и должно прилагаться…
Если в «Шуме и ярости» доминирует лирическая стихия, рождающая напряжение между движением и контрдвижением, «книгой» и «контркиигой» (образ X. Л. Борхеса), то «Авессалом, Авессалом/», несмотря на крайнюю повествовательную сложность, является прежде всего идеологическим романом. В центре произведения, основанного на скрещении множества повествовательных линий и сюжетов, — судьба человека из «ниоткуда», демонического Томаса Сатпена. Этот честолюбивый выходец с Гаити покупает сто акров земли («сатпенова сотня»), строит на ней особняк и пытается навязать обитателям Йокнапатофы свою волю, дать начало вековой плантаторской династии. В достижении этой цели он, подобно мелвилловскому Ахаву, бросает вызов человеческому достоинству окружающих его людей, законам брака, родства, расы (мотив взрывчатого смешения белой и черной крови проходит через весь роман), самой природе. Однако постоянно идя против течения, Сатпен надломлен поединком с судьбой — утратой наследника (ибо Генри, участник Гражданской войны, вынужден скрываться из-за убийства сводного брата Бона, сына Сатпена от первого брака, так как тот, не зная о своих родовых связях, желал жениться на Юдифи, родной сестре Генри, и мог совершить кровосмешение), тщетными попытками родить продолжателя рода, свободного от примесей черной крови, — и сам в 1869 г. гибнет от руки «случайного» убийцы, отца обесчещенной им Милли Джоунз. Со смертью Сатпена действие рока не заканчивается. Впоследствии оно сопровождается болезнями (смерть Юдифи от желтой лихорадки) и вырождением (идиотизм внука Сатпена, Джима Бонда), дальнейшим смешением белых и черных. Последним погибает в огне опустившийся Генри. Дом, где он долгие годы скрывается от властей после убийства Бона, поджигает в 1910 году Клитемнестра, выжившая из ума дочь Сатпена от черной рабыни.
Хитросплетения сюжета усложнены в романе тем, что они даны не в последовательном изложении, а реконструируются. Собранную из разных источников информацию пытается свести воедино уже знакомый читателям по «Шуму и ярости» Квентин Компсон. Задача этого фолкнеровского Измаила, встраивающего историю своей жизни в летопись Юга (налицо определенное сходство между Квентином и Генри Сатпеном, также университетским студентом и защитником чести сестры), крайне сложна.
Ему необходимо найти общий знаменатель между показаниями свидетелей прошлого, сообщенными ему устно, семейными документами, письмами, тем, что сохранила в памяти народная молва (миф), и игрой собственного воображения, стирающего границу между «было» и «есть». По «Авессалому» можно судить, сколь усовершенствована американским писателем повествовательная техника, ранее положенная в основу «Лорда Джима» и «Ностромо» — столь нравившихся Фолкнеру психологическоавантюрных романов Дж. Конрада о преступлении и наказании.
Сатпен принадлежит к целой галерее фолкнеровских характеров, пытающихся реализовать себя вопреки фатальному компромиссу. Соответственно, вся его последующая жизнь становится не достижением желаемого, а самим «роком в действии». Однако в перспективе времени содеянное этим духовным стяжателем (таковы античные и ветхозаветные прототипы действующих лиц, таков и вроде бы неподкупный конрадовский Ностромо, сходящий с ума из-за золота в одной из охваченных гражданскими войнами латиноамериканских стран) не так однозначно. Сатпен для Квентина — фигура символическая: и проявление крайнего зла, и дух милой его сердцу довоенной старины, которая противопоставляется им современности. Переживание прошлого оттенено в романе приметой настоящего, спорами двух гарвардских студентов — южанина Квентина и его друга, канадца («северянина») Шрива. На их фоне становится очевидным, что Сатпен — «великий мираж», неотъемлемая часть истории Юга и, следовательно, часть самого Квентина. Об этом свидетельствуют пронзительные финальные строки «Авессалома» — выкрик Компсона о своей «любви-ненависти» к родине, о том, насколько трудно ему, «Гамлету Мценского уезда», выбирать между «прошлым» и «настоящим», двумя видами иллюзий.
Романизированная новелла «Медведь» (1942), входящая в книгу рассказов «Сойди, Моисей», трактует проблему южной истории в несколько ином ключе. Российским читателям, как правило, известен авторский журнальный (четырехчастный) вариант (1955) этого произведения, и лишь относительно недавно они познакомились с пятичастным текстом этой прекрасной вещи в 6-томном Собрании сочинений Фолкнера. С пропущенной четвертой частью новелла воспринимается преимущественно как «охотничья история» или повествование о мальчике (затем юноше), который из года в год участвует в почти что ритуальном преследовании лесного исполина, чтобы постичь смысл подлинных отношений человека и природы. Реальное же содержание новеллы в ее полном объеме несравнимо богаче.
«Медведь» следует логике «романа воспитания». Но исходя из того, что события в нем развертываются в ретроспективе и движутся, как всегда у Фолкнера, только «вспять» (трудно не упомянуть здесь эффектное название романа «Когда я умираю»!), то «воспитание» уместно сравнить с «отречением». Айк Маккаслин, один из немногих всецело положительных обитателей Йокнапатофы, будучи уже глубоким стариком, заново переживает в своей памяти события детства, отрочества, юности. Отсюда — параллельное движение в тексте двух «я». Одно из них, принадлежащее всевидящему оку южного патриарха, иногда выделено курсивом. Другое следует правилам хронологического изложения материала. В четвертой главе, позволяющей вспомнить о «Братьях Карамазовых» (разговор Ивана с чертом), эти два «я» в рамках «потока сознания» даже вступают друг с другом в надвременной спор. Нет нужды отрицать, приобщение к охоте (многосложному ритуалу), общение с древним лесом в дельте один на один, встречи с такими личностями, как Бун, Сэм Фазерс, полковник Сарторис, помогли Айку стать тем, кем его хочет видеть автор, — олицетворением «смирения, сострадания, стойкости». Именно наличие этих свойств позволяет Буну и Сэму Фазерсу не просто убить медведя (можно ли убить саму тайну леса?), но увидеть в этом акте искупительную жертву за себя и свой народ. Однако подлинное значение того, чем является «грех» не только индейцев, но и белых людей, всей Йокнапатофы, проступает только в четвертой части новеллы.
В двадцать один год Маккаслин, разбирая семейные метрические записи, обнаруживает, что в его предках смешалась черная и белая кровь. Узнав об этом событии, повлекшем за собой трагические последствия, Айк не только раскрывает загадку семейного прошлого (в аллегорическом плане поиски медведя в чаще сродни блужданиям в «дебрях» и «пустынях» истории), но и отказывается от владения доставшейся ему по наследству фермой. В результате от него уходит жена и Маккаслин остается бездетным. Представления о природе, рабстве, продолжении рода, собственности у Фолкнера, таким образом, тесно связаны. «Бог создал человека, — рассуждает Айк Маккаслин в другой новелле из книги „Сойди, Моисей“ („Дельта осенью“), — и создал для него мир — „живи“, и, думаю, такой мир создал, в каком бы и Сам не прочь жить, будь Он на месте человека». Однако это единство мира и человека было разрушено продажей земли, насилием над ней (беззастенчивая эксплуатация, строительство железных дорог), рабством. Отсутствие любви к земле и лесу рождает ситуацию «преступления и наказания». Добровольно обратив в пустыню чащу и убив в пойме все живое, человек, в трактовке Фолкнера, сам себе подписывает приговор и сам же его исполняет. Мотивы рока, греха, наваждения — едва ли не самые распространенные в фолкнеровской прозе. С одной стороны, они ассоциируются с победой индустриального Севера над аграрным Югом, цивилизацией, где творится насилие над стариками и детьми, а певчих птиц либо жарят на ресторанном вертеле, либо заключают в позолоченные клетки (образ из романа «Святилище»). С другой — соотнесены с незнанием себя, своего «сердца» как органа всеобщего исторического кровообращения.
Впрочем, всесилие нового типа собственников, наподобие Сноунса (трилогия «Деревушка», «Город», «Особняк»), довольно иллюзорно. Владение землей — еще не обладание ею. В новелле «Медведь» почти что по-руссоистски утверждается, что земля с того момента, как становится предметом купли-продажи, перестает реально принадлежать человеку, оказывается тем «утраченным раем», где завет «плодитесь и размножайтесь» теряет свою силу. Это относится и к индейцам, первым, от Бога, владельцам земли, носящей поэтому индейское имя («Иокнапатофа» означает «текущая река»), и к современным белым.
Тем не менее концовка новеллы связана с надеждой на будущее. Айк Маккаслин, полюбив (медведя, лес, истину), обрел (знание, понимание себя и прошлого, веру в смысл истории), но, обретя, утратил (участок земли, семью, возможность иметь детей). Он одинок и сознает, что искупление исторической вины целого народа требует не только единичного покаяния. И все же старик Айк (его полное имя — Исаак) даже в середине двадцатого столетия, как и ветхозаветные патриархи, ждет невозможного, ждет чуда. На это указывает название книги, заимствованное из негритянской духовной песни: «Сойди, Моисей, и выведи народ свой из пустыни».
Фолкнер стал одним из самых значительных писателей США XX в. Благодаря мировому резонансу его творчества южная традиция вышла из тени и заявила о себе такими примечательными именами, как А. Тейт, К. Э. Портер, Р. II. Уоррен, К. Маккалерс, У. Стайрон, У. Перси.