Между «казаться» и «быть»

Отказ аудитории испытывать эмоции, которые стремится пробудить выступающий, будет доказательством того, что художник потерпел поражение. В тех же случаях, когда первое впечатление постепенно вовлекает публику в соучастника представления, актер чувствует, что «взят правильный тон» и ощущает точность своих стартовых действий. Безусловно, искушенная часть публики, знакомая с многочисленным арсеналом… Читать ещё >
Между «казаться» и «быть» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Важно, однако, отметить, что все перверсии сознания, которые мы фиксируем у крупного и даже не очень крупного художника — безмерный эгоизм, самовлюбленность, тщеславие — это скорее не детерминанты его творчества (которые, якобы, «заставили» его в свое время избрать профессию актера, музыканта, писателя, живописца), а в большей мере последствия, результат этой профессии. Результат многократных, многолетних профессиональных упражнений, творческой жизни в качестве объекта наслаждения других. Близкие идеи высказывают и авторитеты мировой психологической науки. Так, В. Франкл утверждает, что в норме наслаждение никогда не является целью человеческих стремлений. Оно должно оставаться результатом, точнее — побочным эффектом достижения цели. «Чем больше человек стремится к наслаждению, тем больше он удаляется от цели. Другими словами, само „стремление к счастью“ мешает счастью. Это саморазрушающее стремление к наслаждению лежит в основе многих неврозов»[1]. В той мере, в какой человек делает «состояние счастья» (в нашем случае — шумный успех, публичное внимание к себе) первоочередным предметом своих устремлений, он неизбежно теряет представление о реальных предпосылках этого состояния; перемена местами причины и результата, цели и средств жестко усугубляет психический дисбаланс. Искус публичности — своего рода тяга к предельным переживаниям, вместе с тем «охота за предельными переживаниями немного напоминает охоту за счастьем», — согласимся в этом с А. Маслоу.[2] Гипертрофированное желание «быть счастливым» нейтрализует ощущение подлинности действительной жизни. В итоге человек между «быть» и «казаться» вольно или невольно выбирает второе.
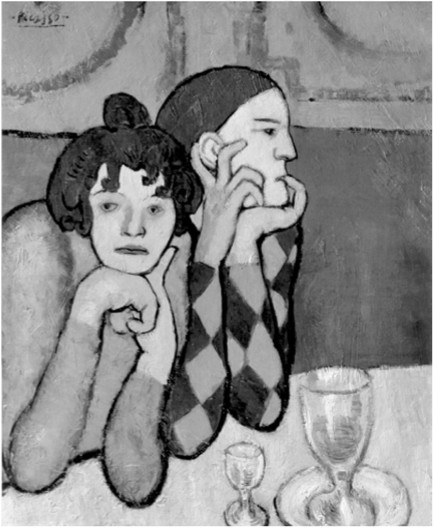
Пикассо П. Странствующие гимнасты. 1901.
Любопытно, что и сами деятели искусства, давно составившие наблюдение о прочной связке эго художника и его таланта, обронили на этот счет точные реплики. Так, Бродский подошел к этой проблеме с «обратной стороны», высказав однажды умозаключение: «Недостаток эгоизма у художника — это недостаток дарования».
Разумеется, восприятие художественной аудитории весьма далеко от положения завзятого соглядатая, подсматривающего нечто такое, что могло произойти бы без ее участия. Публика не просто активно воспринимает предложенное, но своим восприятием во многом диктует, каким должно быть исполнение. Известно, сколь трудно для актеров исполнение спектакля, к примеру, перед конкурсным жюри в отсутствии публики. Или запись музыкантов-исполнителей в специальной студии звукозаписи или на радио. Отсутствует обратная реакция, оттого любой художественный жест «проваливается в вату». Здесь являет себя парадокс, подчеркивающий различие между художественным и научным сообществом: в коллективе ученых каждый его член, как и в любой слаженной труппе, претворяет собственные задачи, сообразуясь с ролями и функциями своих коллег. Однако зачастую три участника научного процесса (ученый, его коллеги, читательская аудитория) сжаты в два — ведь коллеги часто и легко берут на себя функции аудитории-публики. В сценических же видах искусства отказ от третьего участника разрушает саму природу художественного процесса. Невозможно оспорить Р. Дж. Коллингвуда, утверждающего, что «в пустом зале каждый жест, каждое слово умирают, еще не родившись. Труппа вовсе не исполняет пьесу — она совершает определенные действия, которые станут пьесой только в присутствии аудитории, которая будет выполнять роль резонаторов»[3].
Вместе с тем сегодня мы являемся свидетелями новейших режиссерских практик, когда постановщики (например, А. Васильев), акцентируют приоритет для актерского исполнения «вертикальных» связей в противовес «горизонтальным» (т.е. соизмерение усилий и правды актерской игры с Абсолютом, а не с сиюминутным сознанием публики). Здесь в известной мере демонстрируется безразличие к четвертой стене (между сценой и публикой), о важности сокрушения которой так много писал К. Станиславский и большинство теоретиков театра начала XX в. Очевидно, что доведенные до крайности эксперименты такого рода вообще не требуют наличия театральной публики, что, конечно, ставит под вопрос определение жанра подобного актерского действа.
С одной стороны, актер — лишь материал, покорный своей собственной воле: он намерен изобразить вот это, а не что-то другое. В этом случае художник совершенно идентичен творческому процессу. Акт творчества может столь завладеть им, что у актера исчезает всякое сознание этого обстоятельства. Он сам и есть собственное творчество, целиком сливается с ним. С другой стороны, еще со времен Дидро известно, сколь тщательно актеры способны (и призваны!) контролировать ту выразительность, которая направлена на публику («этот дрожащий голос, эти обрывающиеся слова, эти придушенные или протяжные звуки, это содрогание тела или подкашивающиеся колени, эти обмороки, эта исступленность, все это — заранее выученный урок, патетическая гримаса, великолепное обезьянничанье»)[4]. На каждом шагу исполнитель тщательно взвешивает возможный эффект, постоянно соблюдая законы формы и стиля. Помочь контролированию впечатления от исполнения, в частности, может охрана доступа в «закулисные зоны» любого сценического действа, чтобы помешать посторонним видеть не предназначенные им секреты представления. Эти секреты объединяют особые художнические страты издавна, «они известны всем исполнителям в команде и охраняются ими сообща. Поэтому в отношении членов команды обычно развиваются особая солидарность и дружеская фамильярность посвященных»[5].
Отказ аудитории испытывать эмоции, которые стремится пробудить выступающий, будет доказательством того, что художник потерпел поражение. В тех же случаях, когда первое впечатление постепенно вовлекает публику в соучастника представления, актер чувствует, что «взят правильный тон» и ощущает точность своих стартовых действий. Безусловно, искушенная часть публики, знакомая с многочисленным арсеналом исполнительских «приемов», порой может без груда почувствовать, как художник манипулирует теми аспектами выразительности, которые стремится представить в качестве спонтанных, и будет искать подтверждения или опровержения его достоверности в более сокрытых слоях его поведения и внешнего вида. Можно согласиться с исследователями, полагающими, что «искусство проникать в усилия индивида сыграть спонтанность, по-видимому, развивается лучше, чем наша способность манипулировать собственным поведением, и поэтому, сколько ходов ни было бы сделано в сложной игре, наблюдатель скорее имеет преимущества перед актером и изначальная асимметрия коммуникативного процесса, по-видимому, сохраняется»[6]. В этой ситуации происходит сильная стимуляция так называемого «экранированного поведения» художника, стремящегося управлять впечатлениями аудитории посредством возвращенного взгляда, одновременностью отношений с собой и с другими.
Все лирические жанры в искусстве — это особо емкое выражение потребности и желания художника концентрироваться на себе, извлекать из себя и делать всеобщим достоянием уже не только самое высокое, самое совершенное, максимально в себе усиленное, но и просто свою повседневную жизнь, выставлять свою «инертную практику» в качестве предмета законного всеобщего внимания; заставить потенциальную аудиторию не сомневаться в том, что и заурядные элементы жизни художника обладают притягательной силой. Здесь налицо априорная убежденность в том, что его собственные ощущения интересны не только ему.
Ахматову покинул любимый, она пишет стихи. Что она ищет — сочувствия и понимания у читателя своей романтической наивности? — Нет. Она хочет поделиться открывшейся ей мудростью? — Нет, не так уж эта мудрость нова. Она избавляется от острого переживания, проходя курс психотерапевтического лечения за счет читателя? — Не совсем. (Хотя целительность такого варианта была известна художникам задолго до возникновения практик психоанализа. Так, О. Уайльд однажды заметил: «Стать зрителем собственной жизни — значит избежать ее страданий»). В произведении искусства поэт преобразует свою интимную историю в выразительную поэтическую миниатюру, преодолевающую его человеческую единичность, приобретающую «надличностное» значение. Художник гордится своим умением преобразовывать всклокоченное «вещество жизни» в стройное «вещество формы» и в этот момент, конечно, мыслит себя демиургом, центром притяжения, которому под силу особое «приращение бытия», создание некоего нового мира, концентрирующего в себе жизненно-важные смыслы. Поэт рассчитывает, что выведенная им художественная формула будет исполнена магнетизма живой жизни, вызовет любовь читателя, желание повторять, думать об этих строках, возвращаться к ним, идентифицировать себя через этот текст.
Разумеется, даже самые интимные, исповедальные художественные произведения не могут быть объяснены потребностью элементарного «любования собой», как предполагает узкая трактовка слова «нарциссизм». Одни художники чаще говорят от первого лица, а другие — только от третьего. Но и те, что говорят от первого, достигают в итоге результата не просто восхищения собой, а чего-то большего (вспомним: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; «Выхожу один я на дорогу… «) и т. п. Нередко собой чрезмерно восхищаются как раз те, что пишут от третьего лица: И. Бунин, например, порой слишком долго любуется в повестях и романах изысканно нарисованными им самим картинами-пейзажами, т. е. через них — в значительной степени самим собой. И напротив, максимальное, утрированное биение рефлектирующего сознания Пруста, открытое любым интимным лабиринтам, никогда не дает повод говорить, что автор очарован самим собой.
Важно понимать, что если глубокое, сильное переживание творца и обостряет на время его интерес к самому себе, на этом «стартовом состоянии самовлюбленности» художник не останавливается, от «дурной бесконечности» нарциссизма его выручает незаурядная одаренность. Автор может думать только о себе, о своих мимолетных и субъективных притяженияхотталкиваниях, о своей душевной хрупкости, о тяжести своих бессонниц, а в произведении возникает общая для всех Вселенная. Из мелодраматического пустячка («Я помню чудное мгновенье…») он способен построить выразительную реальность, в которой узнает и обретает себя любой человек, бывший когда-либо влюбленным. Каждый опытный художник прекрасно понимает, что притягивает не красота голоса самого по себе, не рифма, не линия, не краски сами по себе, а его собственная человеческая суть, его естество, его «Я». В этом причина, почему решающим в искусстве всегда оказывается не владение мастерством, не виртуозная техника, а эмоционально-интеллектуальные накопления внутри художника. Глубоко нрава Вишневская, утверждавшая, что даже оперный зритель в конечном счете бывает поглощен не красотой, силой и тембром голоса, а чем-то неосязаемым, «тем миром, который певец несет в себе»[7].
Потребность вновь и вновь переживать эту любовь, интерес к себе — один из сильных побудительных мотивов художественного творчества. Залог удачного творческого решения того или иного произведения — накопление внутри себя наблюдений о самом себе, коллекционирование разных ракурсов самого себя, обеспечивающих затем качество непреложности создаваемой художественной формы. Набирающая силу творческая рефлексия, раз запущенная, нередко начинает жить в художнике как неостановимая инерция. Систематический процесс художнического самонаблюдения, поимки «возвращенного взгляда» и фиксация «своего» на бумаге, в жесте, в мимике, в графических набросках, музыкальной интонации — повсеместен. Станиславский, Л. Оливье вспоминали, как подолгу практиковались перед зеркалом, отрабатывая жесты, выражение лица перед выходом на сцену[8]. К. Райкин рассказывал, что до того, как он стал танцевать па эстраде и в спектаклях, много танцевал дома «просто так» перед зеркалом, импровизируя, подолгу разглядывая себя, упражняясь со своим телом, до конца еще не понимая, что из этого получится. Таким образом, выразительные средства любого исполнителя — драматического актера, оперного певца — не есть стихийный язык его искусства. Его тело, голос, жесты становятся языком, способным вызвать интерес других, только если они взращены в этом его диалоге с самим собой, в неостановимом процессе самовосприятия, ревизии собственного «Я». Размышляя в этом направлении, можно предположить, как в отношении художника совсем иным смыслом наполняется известный афоризм Уайльда: «Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь».
Категорическое нежелание и неумение смотреть на себя как на Другого, нейтрализация любого внутреннего позыва к самонаблюдению — жест достаточно рискованный. С одной стороны, возникает иллюзия «аутентичного существования»: желание следовать своей органике, жить этой минутой, этой ситуацией, без перехватывания стороннего взгляда на себя. С другой стороны, аутентичность как самоцель — герметична, предполагает аморфную, вегетативную жизнь, которая отключает механизмы целеполагапия, а значит и механизмы самоограничения и самоконцептрации. Вне творческой рефлексии не осуществляется селекция собственных «узоров интенции», не происходит откладывание накоплений в резервуар внятной самости, помогающей кристаллизации собственного «Я». По всей видимости, становление и жизнь любого человека предполагает взаимодействие внутренне противоречивых тенденций: жажда приучиться жить духовно самостоятельно, независимо, не изменяя себе, сопрягается с потребностью строить себя, примеривая, присваивая и отбирая уже состоявшиеся формы, знаки, структуры, образы. В этом смысле в поле действия самонаблюдения и идентификации всегда переплавлены и конструктивные силы, и силы заблуждения. Иллюзии представлений о целостности и синтезе личности обновляются на каждом новом этапе жизни человека и потому всякий раз преобразуют себя в новом воплощении бинарных оппозиций внешнего/ внутреннего, реального/идеального, возможного/невозможного.
Контрольные вопросы
- 1. Что означает способность творческой личности выступать одновременно как субъектом, так и объектом творчества?
- 2. В какой мере перехватывание стороннего взгляда публики способно корректировать процесс актерского исполнительства?
- 3. Как применительно к процессу творчества актера можно интерпретировать смысл слов «казаться» и «быть»? Какое из этих состояний более ценно?
- 4. Имеет ли значение для качества музыкального исполнения отсутствие воспринимающей публики, например в Доме звукозаписи?
- [1] Франкл В. Э. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. С. 55.
- [2] Maslow A. Lessons from the Peak-Experiences //Journal of Humanistic Psychology. 1962.№ 2. P. 9.
- [3] Коллипгвуд Р.Дж. Принципы искусства: теория эстетики: теория воображения: теорияискусства М.: Языки рус. культуры, 1999. С. 291.
- [4] Дидро Д. Парадокс об актере. М., 1957. С. 50.
- [5] Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. С. 23.
- [6] Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. С. 192.
- [7] Вишневская Г. Галина: история жизни. М., 1992. С. 221.
- [8] См.: Вильсон Г. Психология артистической деятельности. С. 123.