Естественно-научный и гуманитарный подходы в философии образования.
Сближение первоначально альтернативных или оппозиционных подходов
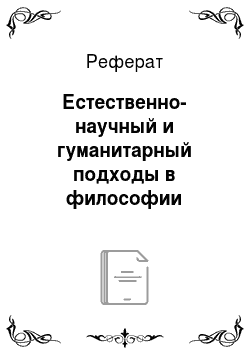
Во-первых, гуманитарная наука изучает не природные явления, а такие, которые имеют отношение к человеку (самого человека, произведения искусств, культуру и пр.). Во-вторых, гуманитарные знания используются не с целью прогнозирования и управления, а для понимания или гуманитарного воздействия, например педагогического. Конечно, и педагог стремится управлять поведением учащегося, но, если… Читать ещё >
Естественно-научный и гуманитарный подходы в философии образования. Сближение первоначально альтернативных или оппозиционных подходов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
«Эмпирико-аналитический (естественно-научный по моей классификации. — В. Р.) метод, — пишут авторы книги „Образы образования“, — базируется на фиксации типичных, повторяющихся данных наблюдения и эксперимента в „языке фактов“. Этот процесс направляется теорией — системой высказываний о законах выделенного круга объектов, которая упорядочена логически. Вместе с тем она обусловлена фактами, на основе которых интегрируются законы… вычлененная типологическая регулярность поддается достаточно определенному прогнозу, который способен выступить основанием для столь же конкретной практической цели и, далее, проекта и управления его реализацией. Во всех этих концепциях образ человека мыслится как „сборка“ из биосоциальных или психологических типовых деталей…»[1]
Напротив, как известно, представители гуманитарного подхода и методов утверждают, что гуманитарная наука изучает единичные, уникальные явления, не имеет дело с экспериментом, целью ее не является установление законов, соответственно гуманитарные знания не позволяют делать обоснованные прогнозы и управлять. Тем не менее гуманитарии настаивают на том, что гуманитарное познание в лучших своих образцах имеет все черты нормальной науки, а именно опирается на факты, отображает реальность методом конструирования идеальных объектов, если нужно, оформляется в теорию (см., например, работы М. Бахтина). Это, так сказать, инвариантные характеристики науки, одинаковые для естествознания и гуманитарного подхода. Специфика гуманитарной науки в другом[2].
Во-первых, гуманитарная наука изучает не природные явления, а такие, которые имеют отношение к человеку (самого человека, произведения искусств, культуру и пр.). Во-вторых, гуманитарные знания используются не с целью прогнозирования и управления, а для понимания или гуманитарного воздействия, например педагогического. Конечно, и педагог стремится управлять поведением учащегося, но, если он опытный, то понимает, что помимо его влияния на учащегося не менее сильно влияет семья, улица, окружающая культура, кроме того, учащийся сам активен и его устремления могут не совпадать с педагогическими усилиями. В результате воздействия педагога по своей природе скорее гуманитарные, а не инженерные. В-третьих, в гуманитарном познании ученый проводит свой взгляд на явление, отстаивает свои ценности; это не ценности прогнозирования и управления явлением, а ценности личности гуманитария, причем различные у разных ученых. В-четвертых, гуманитарное познание разворачивается в пространстве разных точек зрения и подходов, в силу чего гуманитарий вынужден позиционироваться в этом «поле», заявляя особенности своего подхода и видения. В-пятых, хотя начинается гуманитарное познание с истолкования текстов и их авторского понимания, но затем гуманитарий переходит к объяснению предложенного им истолкования, что предполагает изучение самого явления. В-шестых, гуманитарное научное познание — это не только познание, но одновременно и взаимоотношение ученого и изучаемого явления. Как писал М. Бахтин, предмет науки о духе — «не один, а два „духа“ (изучаемый и изучающий, которые не должны сливаться в один дух). Настоящим предметом является взаимоотношение и взаимодействие „духов“»[3]. Чтобы лучше понять сформулированные здесь характеристики, приведу один пример — исследование А. С. Пушкина.
Читая однажды письма Пушкина, я поймал себя на мысли, что мне совершенно не понятны ни поступки, ни высказывания великого поэта, особенно по отношению к женщинам, кутежам и карточной игре. В то же время и игнорировать свое непонимание я не мог, слишком велико в моей душе было значение Пушкина, следуя за Мариной Цветаевой, я вполне мог сказать: «Мой Пушкин». Я не мог и жить с таким пониманием, точнее непониманием, и отмахнуться от возникшей проблемы. Читая дальше письма, я с определенным удовлетворением отметил, что сходная проблема не давала покою и Петру Чаадаеву.
В марте-апреле 1829 года Чаадаев пишет Пушкину: «Нет в мире духовном зрелища более прискорбного, чем гений, не понявший своего века и своего призвания. Когда видишь, что человек, который должен господствовать над умами, склоняется перед мнением толпы, чувствуешь, что сам останавливаешься в пути. Спрашиваешь себя: почему человек, который должен указывать мне путь, мешает идти вперед? Право, это случается со мной всякий раз, когда я думаю о вас, а думаю я о вас так часто, что устал от этого. Дайте же мне возможность идти вперед, прошу вас. Если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится на свете, углубитесь в самого себя и своем внутреннем мире найдите свет, который безусловно кроется во всех душах, подобных вашей. Я убежден, что вы можете принести бесконечную пользу несчастной, сбившейся с пути России. Не изменяйте своему предназначению, друг мой»[4].
Не правда ли удивительно: Чаадаев пишет, что Пушкин «мешает ему идти вперед». Спрашивается, причем здесь Пушкин? Иди вперед, если хочешь. Но в том-то и дело: если Пушкин мой, во мне, часть моего «Я», то не могу отмахнуться, если не понимаю или не одобряю его поступки.
В результате я вынужден был начать сложную работу. Вспомнив совет Михаила Бахтина, который писал, что «чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, как вещи, — с ними можно только диалогически общаться, думать о них — значит говорить с ними, иначе они тот час же поворачиваются к нам своей объектной стороной»[5], я предоставил голос самому Пушкину, чтобы он отвечал на мои недоумения. Для этого я искал в его письмах ответы на мои вопросы, пытался встать на позицию Пушкина, увидеть мир его глазами, сам и с помощью Ю. Лотмана реконструировал его время, нравы, обычаи и т. д. и т. п. Например, я понял, что Пушкин был романтиком, что карточная игра в его время имела совершенно другой смысл, чем в наше (это была форма преодоления несвободы), что отношение Пушкина к женщинам отчасти было обусловлено тем, что он был помещиком, что на Пушкина большое влияние оказывали его друзья, не согласные с его образом жизни, наконец, и сам Александр Сергеевич все больше осознавал несоответствие своего образа жизни декларируемым идеалам и реальной роли национального поэта России. Опираясь на все это, т. е. на сконструированный мною образ Пушкина (идеальный объект), я смог показать, что на рубеже 30-х годов с Пушкиным происходит духовный переворот. Он пересматривает свою жизнь, отказывается от прежних ценностей, принимает на себя ряд задач, направленных на служение России. Я анализировал поступки Пушкина и старался понять их мотивы, короче, делал все, чтобы Пушкин, действительно, стал моим, чтобы Пушкин, как писал Чаадаев, позволил мне идти своим путем, чтобы я смог жить вместе с Пушкиным. Не знаю, как это выглядит со стороны, но психологически мне это, в конце концов, удалось[6].
При этом я, безусловно, вел исследование творчества Пушкина, но главным было не подведение Пушкина под какую-то известную мне схему или теорию творчества, а движение в направлении к Пушкину и, тешу себя надеждой, движение Пушкина ко мне, поскольку я старался предоставить Пушкину полноценный голос. То есть мое исследование как тип мышления представляло собой создание условий для нашей встречи, для общения. Структура и «логика» мысли задавались в данном случае не правилами, категориями или построенной ранее схемой, хотя все это я использовал по мере надобности, а именно работой, направленной на встречу и общение с Пушкиным.
Обратим внимание, в рассмотренном исследовании можно увидеть все основные характеристики гуманитарного познания. Постижение явления (жизни Пушкина) путем конструирования идеального объекта (я приписывал Александру Сергеевичу различные характеристики — он романтик, на него влияли его друзья и т. д.). Опора на факты (письма Пушкина и события, установленные другими исследователями). Стремление дать научное (культурологическое и психологическое) объяснение. Движение в пространстве разных точек зрения (я начал с обсуждения противоположных оценок личности и жизни Пушкина). Попытка правильно понять тексты (письма Пушкина и высказывания о нем). Сознательное проведение в исследовании своих ценностей — культурологических, гуманитарных, методологических. Подчинение исследования задаче общения с Пушкиным, встречи с ним.
Но вернемся к Огурцову и Платонову. «Цели гуманитарной философии образования, — пишут они, — при всем многообразии течений внутри ее определяются принципиально иначе, чем в эмпирико-аналитическом направлении. Если в традиции эмпирико-аналитической философии задача образования усматривается в каузально-аналитическом объяснении самой реальности образования и выработке технологически-прикладных знаний, существенных для целерационального действия, то гуманитарная философия образования ориентируется на постижение смысла и на герменевтическую интерпретацию содержания тех актов, которые составляют действительность образования. Если эмпирико-аналитическая традиция в философии образования во многом представляла собой вариант социальной инженерии, которая отвлекалась от ценностей и идеалов соответствующей культуры, от того, что действительность образования существует не сама по себе, а в совокупности действий и взаимоотношений субъектов образования, то в центре гуманитарной философии образования — иная трактовка образования, которое осмысляется как система действий (причем не столько целерациональных, но и ценностно-рациональных) и взаимодействий участников педагогического процесса. И по своему методу гуманитарная философия образования в корне отличается от эмпирико-аналитических направлений. Если эмпирико-аналитическая традиция ориентируется на методы причинного объяснения и каузального анализа, т. е. на точные методы классической науки, то гуманитарная философия — на методы понимания, интерпретации смысла действий участников образовательного процесса»[7].
Странно, что при таком четком разведении естественнонаучного и гуманитарного подходов А. Огурцов и В. Платонов утверждают, что они сходятся. «Верно, — пишут они, — что естественные науки, особенно в их классической сциентистской интерпретации, пока что во многом не стыкуются с гуманитарными, но неверно предположение антисциентизма о принципиальной несоизмеримости этих подходов, их закрытости по отношению друг к другу. Здесь необходимо специальное исследование взаимного проникновения этих подходов с позиций современной философии науки, которая раскрывает позитивное взаимодействие эмпирикоаналитических наук (не только на их „нормальном“, но и на экстраординальном уровне) с гуманитарными: обусловленность науки как знания, с одной стороны, социокультурными, следовательно, гуманитарными факторами (Т. Кун) и, с другой стороны — социально-экономической, политической и т. п. жизнью». «В целом же их оппозиция эволюционировала в направлении конвергенции, формирования посредствующих звеньев между этими полюсами философского мышления, так что первоначально противостоящие варианты постепенно трансформируются посредством наведения мостов друг к другу. Такого рода конвергенция явилась результатом не только изменений в социокультурной и политической обстановке, но и во внутренней логике каждого из направлений. В ходе этих изменений эмпирико-аналитические концепции постепенно инкорпорируют в свои системы круг антропологических проблем (субъект знания, субъект деятельности и др.) и, соответственно, данные гуманитарных наук, от которых ранее отвлекались. Антропологизм от крайнего индивидуализма двигается к трактовке человека, которая пронизана идеями коммуникации и интерсубъективизма. Схождение этих крайностей означает приближение к решению, по-видимому, самой фундаментальной проблематики современной философии»[8].
На мой взгляд, между естественно-научным и гуманитарным подходом в онтологической плоскости нельзя навести мосты, и они никогда не сойдутся. Так, никогда не удастся свести задачи прогнозирования и управления к пониманию, законы — к индивидуальным объяснениям, природную необходимость — к свободе, индивида — к личности. «Всякий истинно творческий текст, — пишет Бахтин, — всегда есть в какой-то мере свободное и не предопределенное эмпирической необходимостью откровение личности. Поэтому он (в своем свободном ядре) не допускает ни каузального объяснения, ни научного предвидения»[9].
Позицию авторов «Образов образования» интересно сравнить с близкими представлениями синергетиков, касающихся уже демаркации естественных и социальных наук. Илья Пригожин в статье «Дано ли нам будущее», заявляя программу нового естествознания, начинает обсуждение с кардинального замысла сблизить социальные и естественные науки (две культуры), а также проблемы парадигмального различия между этими типами наук. Это различие он видит в том, что в социальных науках обсуждаются события, наступление которых ученый не может предсказать. «Я полагаю, — пишет Пригожин, — что сущность события выражается в том, что оно вводит различие между тем, что предсказуемо, и тем, что нет… Существование событий в человеческом масштабе показывает, что в этом масштабе социальные структуры ускользают от детерминизма… Мы можем „объяснять“ события прошлого. Мы можем их рассматривать почти как результат скрытого детерминизма, но мы не можем предсказать события будущего»[10].
Далее, противопоставляя принципы и онтологию ньютоновского мира, где создана теория траекторий и время обратимо, и «мира социальных наук» (в интерпретации автора статьи), где анализируются множества и время необратимо, Пригожин вводит синергетическую интерпретацию как природной, так и социальной (исторической) действительности. «Кроме обратимых законов динамики, существуют законы небратимых процессов, предполагающих существование стрелы времени… Мы окружены структурами, которые сформировались в ходе исторического развития Земли, будь то структуры, изучаемые химией, геологией или биологией. Мы должны искать их происхождение в последовательности бифуркаций… Это ведет нас к „историческому“ взгляду на природу… вдали от равновесия мы вновь обнаруживаем те характеристики, которые мы перечислили для социальных наук: стрела времени, точки бифуркации, события. Точнее говоря, мы являемся свидетелями знаменательного сближения двух культур»[11].
Формулирует Пригожин и два важных для обсуждаемой темы принципа: целью нового естествознания по-прежнему является нахождение законов (и детерминистических, и сценарных, понимаемых как знание вероятности развития тех или иных событий[12]), но на реализацию определенных социальных и исторических закономерностей может оказать воздействие сам человек в качестве фактора, действующего в точке бифуркации. «Разве, — спрашивает Пригожин, — мы не приближаемся к точке бифуркации, которая затрагивает фундаментальные аспекты жизни наших обществ? Мы ведем чрезвычайно интенсивную жизнь в начале этого нового века, но ведем ее в неопределенности и непредзаданности будущего. Неопределенность, вызванная глобализацией, является неизбежной. Но то, что мы не должны забывать, — это флуктуации, которые определят ту ветвь, по которой пойдет развитие после точки бифуркации. Это — призыв к индивидуальному действию, которое сегодня гораздо в большей степени, чем когда-либо, необязательно обречено остаться ничтожным и кануть в лету»[13].
Итак, вроде бы снимается противопоставление естественных, гуманитарных и социальных наук? Действительно, если природа обладает историей, а история подчиняется сценарным законам, если познающий и действующий человек определяет природные закономерности, то получается, что да, мы имеем дело с новым естествознанием, включающим социальные и гуманитарные науки. И разве не то же самое утверждают В. И. Аршинов и В. Г. Буданов? Согласно В. С. Степину, пишут они, переход современной науки к постнеклассической стадии развития создал новые предпосылки формирования единой научной картины мира. Эти новые предпосылки В. С. Степин видит в становлении в современной науке «концепции глобального (универсального) эволюционизма, принципы которого позволяют единообразно описать огромное разнообразие процессов, протекающих в неживой природе, живом веществе, обществе»[14].
Заметим, что здесь Степин, как показывает Э. Н. Мирзоян в статье «Единство естествознания как проблема истории и философии науки» идет вслед за М. Планком и В. Вернадским, обсуждавшими идею «единой науки». «Наука одна и едина, — писал Вернадский, — ибо, хотя количество наук постоянно растет, создаются новые, они все связаны в единое научное построение и не могут логически противоречить одна другой»[15]. «В действительности, — вторит ему Планк, — существует непрерывная цепь от физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу»[16]. О том же кстати пишут авторы «Образов образования», говоря, что в конце 60-х годов начинает утверждаться убеждение, что наука едина, что нельзя строить «китайскую стену» между методологией естественных и гуманитарных наук.
Утверждая, что саморазвивающиеся системы на определенных этапах и уровнях развития могут включать в себя не только объекты, но и их историю, а также субъекты и даже социокультурные условия, обусловливающие последних, В. Степин проводит взгляд, по которому не имеет смысла противопоставлять естественные, гуманитарные и социальные науки (не вообще, а при решении ряда задач), что-либо мы имеем дело с наукой, либо с ненаукой.
Позицию В. Степина на снятие проблемы демаркации между естественными и гуманитарно-социальными науками в определенной мере разделяют и составители книги «Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания» (2004). «Резко обогатив свой концептуальный аппарат, — пишут Л. Киященко и П. Тищенко, — синергетика делает изоморфными, легитимно сопоставимыми, традиционно разведенные области естественно-научного и социогуманитарного знания… оставаясь всецело естественно-научной дисциплиной, синергетика смогла включить в свой понятийный потенциал те характеристики, которые в классическую эпоху выражали специфику гуманитаристики. Теперь, чтобы обеспечить собственную специфику, социогуманитарному знанию предстоит ответить на вызов синергетики»[17].
Имеет смысл обратить внимание, что данной концептуализации в логике контрапункта противостоит точка зрения, проводимая в статье Лео Няпинена «Программа Ильи Пригожина перестройки традиционной физики и вытекающие из нее заключения для понимания социальных проблем», который показывает, что естественно-научный подход (даже обобщенный на основе идей системного подхода и теории самоорганизации) немного может дать в области социальных наук. «Социальным наукам, — пишет Лео Няпинен, — не следует ориентировать себя по образу и подобию точных наук (видящих свою цель в предсказании и объяснении феноменов), социальные науки должны отказаться от амбиции давать точные среднесрочные и долгосрочные предсказания, а зачастую не давать и точные краткосрочные предсказания. Определения и методы, развитые в рамках программы Пригожина, в той степени, в которой они остаются точной наукой, также не могут добавить ничего нового к социальным и культурным исследованиям. Своей новой формулировкой законов природы Илья Пригожин в действительности установил пределы того, что может быть предсказано и контролируемо. Понимание самоорганизации во всей ее сложности и разнообразии возможно только за этими пределами»[18]. В. Брецинка тоже «указывал на то, что предметная область, которой занимается социальная наука, совершенно иная, чем область исследований естественных наук. И, подчеркивая своеобразие социальных наук, он отмечал, что они, в отличие от естественных наук, имеют дело с ненаблюдаемостью душевной жизни другого человека, с гораздо большей сложностью условий, от которых ей нельзя абстрагироваться, с уникальностью ситуаций и с постоянной изменяемостью человека и его окружения. Поэтому в социальных науках, согласно Брецинке, велика роль интерпретаций по сравнению с естественными науками»[19].
Кто же все-таки прав: Пригожин и Степин со товарищи-синергетики или Лео Няпинен и Брецинке? На мой взгляд, дело не в том, какую картину рисует исследователь: включающую историю и субъекта или не включающую их, а в том, как он при этом мыслит: в одном случае он мыслит как физик, в другом как гуманитарий, в третьем мыслит, совмещая эти мыслительные стратегии.
Опять же это не то, о чем пишет ученый: о природе или культуре, о системах или коммуникации, а то, как он при этом мыслит и на что ориентирует свои знания в плане их дальнейшего использования. Представитель естествознания, говоря о первой природе или человеке (культуре, обществе и т. п.), ориентируется в плане использования своих знаний на практики инженерного типа, где основные задачи — прогнозирование, расчет и управление явлениями. Кроме того, он описывает эти явления (именно для того, чтобы решить указанные задачи) как механизмы, добиваясь в эксперименте соответствия между изучаемым феноменом и математической конструкцией, описывающей его (в результате эта конструкция становится математической моделью, что и позволяет на ее основе вести расчеты, прогнозирование и строить управляющие воздействия).
Гуманитарий, опять же неважно, что он описывает: психику, культуру или природу, ориентирован не на инженерию, а на уникальную гуманитарную ситуацию, например понимание, разрешение собственной экзистенциальной ситуации, общение по поводу какой-то проблемы и пр. При этом, исследуя явление, он движется одновременно в двух плоскостях — строит идеальный объект, необходимый для разворачивания теоретического дискурса, и разрешает и проживает свою уникальную гуманитарную ситуацию. Именно второе движение является здесь ведущим в том смысле, что идеальный объект и теоретические построения в гуманитарном исследовании строятся так, чтобы можно было разрешить и прожить жизненную ситуацию, а не наоборот.
Когда Пригожин, помимо детерминированных, линейных процессов, вводит недетермированные, нелинейные и говорит о неопределенности будущего, то, спрашивается, отказывается ли он от таких установок естественной науки, как открытие законов, описание механизмов, управляемое воздействие? Думаю, нет, хотя в число факторов и процессов фактически по-новому понимаемой природы он вводит человека и общество. Принципиальный вопрос: как они при этом трактуются? Если для гуманитария человек — это тот, с кем исследователь общается (хотя при этом он его изучает), кто в качестве Другого определяет само познание, то для представителя естествознания, пусть даже он будет гуманитарно ориентирован, человек и общество — это именно факторы природы (не случайно, говоря о человеке, Пригожин трактует его как флуктуацию в точке бифуркации). Формально синергетик признает зависимость своего познания от Другого, говоря об «открытой коммуникативной рациональности»[20], но фактически, используя аппарат системного подхода и другие синергетические понятия, он превращает гуманитарные реалии (человека или общество) в факторы и процессы природы.
Другое дело, что часто возникают «ножницы» между методологической программой ученого и его реальной работой (он может заявлять один подход, но работать в рамках другого). Например, 3. Фрейд заявляет естественно-научный подход, но в ряде случаев (объяснение сновидений, юмора, описок, частично, творчества и психических заболеваний) действует как гуманитарий. Так, он рассматривает феноменологию сознания как тексты, истолковывает их, проводит при этом свои ценности (трактует поведение как принципиальный конфликт: человека с культурой, сознания с бессознательным, психотерапевта с клиентом). И одновременно при этом Фрейд в полном согласии с духом естествознания пытается представить психику как механизм[21]. В подобных случаях, действительно, кажется, что происходит сближение естественно-научного и гуманитарного подходов, но на самом деле фактически формируются новые, смешанные и отчасти эклектические стратегии научного познания. Сформулировать особенности этих новых стратегий науки еще предстоит.
- [1] Огурцов А. П. Цит. соч. — С. 105—106, 111.
- [2] См. подробнее: Розин В. М. Типы и дискурсы… — С. 77—92; Он же. Психология: наука и практика. — М., 2005. — С. 37—61, 221—243.
- [3] Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 349.
- [4] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. — Т. 14. Переписка, 1828—1831. — М., 1941. — С. 44, 394.
- [5] Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1972. — С. 116.
- [6] См. подробнее: Розин В. М. Культурология. — М., 1998. (и др. изд.). — С. 38—56;Он же. Типы и дискурсы научного мышления. — М., 2000. — С. 150—165.
- [7] Огурцов А. П. Цит. соч. — С. 210, 211.
- [8] Огурцов А. П. Цит. соч. — С. 109, 132.
- [9] Бахтин М. М. Проблемы поэтики… — С. 285.
- [10] Пригожин И. Дано ли нам будущее // Вызов познанию: стратегия развития наукив современном мире. — М., 2004. — С. 254—255.
- [11] Пригожин И. Цит. соч. — М., 2004. — С. 459—460.
- [12] Там же. — С. 456.
- [13] Пригожий И. Цит. соч. — М., 2004. — С. 461.
- [14] Аршинов В. И. Роль синергетики в формировании новой картины мира/ В. И. Аршинов, В. Г. Буданов // Вызов познанию… — С. 374.
- [15] Цит. по: Мирзоян Э. Н. Единство естествознания как проблема истории и философии науки // Там же. — С. 90.
- [16] Там же. — С. 91.
- [17] Киященко Л. Опыт предельного — стратегия «разрешения» парадоксальностив познании / Л. Киященко, П. Тищенко // Вызов познанию… — С. 503.
- [18] Няпинен Л. Программа Ильи Пригожина перестройки традиционной физикии вытекающие из нее заключения для понимания социальных проблем // Вызов познанию… — С. 43, 45, 46.
- [19] Огурцов А. П. Цит. соч. — С. 323.
- [20] Аршинов В. И. Цит. соч. — С. 377.
- [21] См.: Розин В. Психология… — С. 143—169.